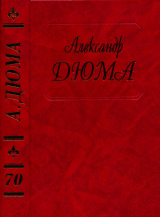
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
Я увидел Наполеона!
Он был одет в мундир зеленого цвета, украшенный небольшими эполетами с крупной бахромой, а на груди у него висел офицерский крест Почетного легиона. В окне кареты я мог разглядеть Наполеона только по пояс.
Он сидел, опустив голову, напоминавшую те прекрасные головы римских императоров, какие чеканились на античных монетах; казалось, что на его обращенном вниз и застывшем лице воскового оттенка живыми были только глаза.
Рядом, по левую руку от него, сидел принц Жером, король без королевства, но преданный брат; в ту пору это был красивый молодой человек, на вид лет двадцати шести-тридцати, с правильными и твердыми чертами лица, черной бородой и элегантной прической. Он приветствовал толпу, делая это вместо брата, который сидел, глядя куда-то рассеянным взором, весь погруженный мыслями в будущее, а может быть, и в прошлое.
Напротив императора расположился его адъютант Ле-тор, отважный солдат, уже, казалось вдыхавший запах пороха и сражения и улыбавшийся так, словно ему предстояло прожить еще долгую жизнь.
Все это продолжалось буквально мгновение, а потом вдруг защелкали кнуты, заржали лошади и все исчезло, словно видение.
Три дня спустя, к вечеру, в город прибыли люди, утром выехавшие из Сен-Кантена: по их словам, там была слышна канонада.
Утром 17-го через город проследовал курьер, который нес с собой весть о победе и по пути охотно делился ею со всеми.
Восемнадцатого никаких новостей; 19-го такое же безмолвие и только неясные, непонятно откуда взявшиеся слухи, будто бы император находится в Брюсселе.
Двадцатого в город примчалось трое всадников в разодранной одежде, верхом на взмыленных, изнуренных лошадях; один из них был ранен в голову, другой – в руку;
их тотчас же окружила толпа, состоявшая почти из всего населения города, и заставила пройти во двор мэрии.
Они с трудом говорили по-французски: это были, полагаю, вестфальцы, непонятно каким образом попавшие в нашу армию. В ответ на все расспросы они печально качали головами и, наконец, признались, что в восемь часов покинули поле сражения в Ватерлоо и что в это время битва была уже проиграна.
То был авангард дезертиров.
Им не хотели верить; все говорили, что это прусские шпионы; говорили, что Наполеон не мог потерпеть поражение; говорили, что эта прекрасная армия, которая только что прошла перед нами, не могла быть разбита. Несчастных дезертиров хотели бросить в тюрьму: все настолько вычеркнули из памяти события 1813 и 1814 годов, что помнили лишь предшествующие им пятнадцать лет.
Моя мать прибежала на почтовую станцию; мы провели там весь день. Она не без основания полагала, что именно туда будут поступать новости, какими бы они ни были. Я же тем временем искал на карте название Ватерлоо, но никак не мог его найти; наконец, мы решили, что эти трое просто все выдумали, даже название битвы.
К четырем часам показались новые дезертиры, и они подтвердили слова первых. Эти были французами и потому могли сообщить все подробности, какие от них хотели узнать; они слово в слово повторили то, что говорили первые, однако добавили, что Наполеон и его брат убиты. Им поверили еще меньше: пусть Наполеона можно победить, но уж убить его невозможно.
Новости, все ужаснее и беспросветнее, продолжали поступать до десяти вечера.
В десять послышался звук приближающейся кареты; она остановилась; начальник почтовой станции подбежал к ней, держа в руке факел. Мы бросились следом за ним; он кинулся к окну, чтобы узнать новости, а затем отступил на шаг, бормоча: "Это император".
Я тотчас взобрался на каменную скамью и стал выглядывать из-за плеча матери.
Да, это был Наполеон; он сидел в том же углу кареты, одетый в тот же мундир; как и в первый раз, он опустил голову на грудь, чуть больше, быть может, склонив ее, но ни единая складка на его лице не изменилась, ни единая черточка не была искажена, указывая на то, что этот великий игрок только что поставил на кон весь мир и проиграл; однако на сей раз в карете не было ни принца Жерома, ни Летора, которые могли бы вместо него рассылать приветствия и расточать улыбки: Жером собирал остатки его армии, а Летора разорвало пополам пушечным ядром.
Наполеон медленно поднял голову, посмотрел вокруг, словно очнулся ото сна, а затем произнес своим отрывистым и резким голосом:
– Где мы находимся?
– В Виллер-Котре, сир.
– Сколько отсюда льё до Суасона?
– Шесть, сир.
– А сколько до Парижа?
– Девятнадцать.
– Скажите возницам, чтобы гнали изо всех сил, – и он снова откинулся на подушки в углу кареты, уронив голову на грудь.
Лошади помчались словно на крыльях.
Всем хорошо известно, что произошло между двумя его появлениями в нашем городе!..
Я всегда говорил, что обязательно посещу селение с незнакомым названием, которое я так и не смог отыскать на карте Бельгии 20 июня 1815 года и которое с того дня кровавыми буквами вписано на карте Европы; и потому на следующий день после прибытия в Брюссель я направился прямо туда.
За три часа мы пересекли живописный Суанский лес и прибыли в Мон-Сен-Жан. Там посетителей поджидают услужливые чичероне, все как один утверждающие, что они были проводниками Жерома Бонапарта. Среди них есть один англичанин, который имеет патент от своего правительства и носит бляху, словно рассыльный. Когда французы изъявляют желание посетить поле боя, бедняга даже не выходит к ним, поскольку привык к их чрезвычайно грубому обращению. Зато он имеет дело со всеми англичанами.
Мы наняли первого попавшегося. У меня был превосходный план Ватерлоо, снабженный примечаниями герцога Эльхингенского, который в этот час сражается, скрестив отцовскую саблю с арабским ятаганом. Я попросил отвести нас прямо к памятнику принцу Оранскому: стоило бы мне сделать еще сто шагов вперед, у меня уже не было бы нужды в проводнике; этот памятник – первое, что бросается в глаза, когда оставляешь позади ферму Мон-Сен-Жан.
Мы поднялись на рукотворный холм, насыпанный на том самом месте, где принца повергла наземь пуля, попавшая ему в плечо, когда он по-рыцарски, сняв шляпу с головы, вел в наступление свой полк. Холм этот представляет собой нечто вроде кругового конуса высотой примерно в сто пятьдесят футов, и подняться на него можно по ступеням, вырубленным в земле и укрепленным досками: вся земля, которая ушла на создание холма, была выкопана рядом с ним, что слегка изменило рельеф поля сражения, придав этой овражистой местности крутизну, которой прежде у нее не было. На вершине холма стоит огромный лев: поставив лапу на пушечное ядро и повернувшись к западу, он грозит Франции; наши солдаты, возвращаясь из Антверпена, начали было отрубать ему хвост, пока их не остановили. С площадки, окружающей его пьедестал, открывается вид на поле боя: от Брен-л'Аллё, самой дальней точки, куда дошла дивизия Жерома Бонапарта, до Фришермонского леса, из которого двинулись в наступление Блюхер и его пруссаки, и от Ватерлоо, давшего название этой битве, наверное, потому, что возле этой деревни было остановлено беспорядочное бегство англичан, до фермы Катр-Бра, где после поражения в Линьи ночевал Веллингтон, и до леса Ле-Боссю, где был убит герцог Брауншвейгский. Стоя на этом возвышении, совсем нетрудно вызвать к жизни все эти тени, весь этот грохот и дым, отбушевавшие здесь двадцать пять лет назад, и как бы стать свидетелем повторения этого сражения. Там, чуть выше фермы Ла-Э-Сент, в том месте, где с тех пор возвели несколько домишек, Веллингтон провел часть дня: он стоял возле вяза, купленного позднее за двести франков одним англичанином, по другую сторону дороги, которая ведет из Женаппа в Брюссель; на этом же рубеже замертво упал сэр Томас Пиктон, поднявший в атаку свой полк. Поблизости от этого места воздвигнуты памятники Гордону и ганноверцам; у подножия холма лежит плато Мон-Сен-Жан, которое почти равнялось бы по высоте упомянутым нами памятникам, если бы именно здесь, на площади в два арпана, не срыли бы слой земли глубиной в десять футов, чтобы насыпать холм. Именно в этом месте, от обладания которым зависел исход битвы, в течение трех часов шло самое ожесточенное сражение: здесь наступали двенадцать тысяч кирасиров и драгунов Келлермана и Мило. Веллингтон, каре которого они одно за другим уничтожали, был обязан своим спасением лишь несгибаемому мужеству английских солдат, которых закалывали там, где они стояли; десять тысяч погибло, не отступив ни на шаг, тогда как их генерал со слезами на глазах и с часами в руке, подсчитав, что потребуется еще два часа фактического времени, чтобы уничтожить все оставшееся у него войско, воспрянул духом. Ибо он ожидал, что через час появится Блюхер, а через полтора часа наступит темнота – второй его союзник, на которого он мог положиться в том случае, если первый, остановленный Груши, не сможет прийти ему на помощь. И наконец, за плато, примыкая к главной дороге, стоят постройки фермы Ла-Э-Сент: ее трижды захватывал и оставлял Ней, под которым в этих трех атаках было убито пять лошадей.
Затем, повернувшись в сторону Франции и взглянув направо, среди небольшой рощи можно увидеть ферму Угумон, которую Наполеон приказал Жерому не покидать даже в том случае, если ему и всем его солдатам придется остаться там навсегда. Напротив нее находится ферма Бель-Альянс, откуда Наполеон, оставив свой наблюдательный пункт, расположенный в Монплезирском лесу, в течение двух часов созерцал поле боя, мысленно требуя у Груши дать ему свежие батальоны, подобно тому, как Август требовал у Вара вернуть ему погибшие легионы. Слева – овраг, где Камбронн произнес вовсе не "Гвардия умирает, но не сдается!" – ибо в нашем рвении все поэтизировать мы приписали ему эту фразу, которую он никогда не изрекал, – а одно-единственное солдатское словцо, брошенное им в лицо парламентеру: словцо, возможно, куда менее изысканное, но зато весьма крепкое и выразительное. И наконец, впереди всего этого рубежа, на дороге, ведущей в Брюссель, там, где она слегка поднимается в гору, можно различить ту крайнюю точку, до какой продвинулся Наполеон, когда, увидев, как из Фри-шермонского леса выходит Блюхер со своими пруссаками, которых с таким нетерпением ждал Веллингтон, он воскликнул: "А вот и Груши! Теперь победа будет за нами". Это был его последний крик надежды; через час в ответ ему со всех сторон слышалось: "Спасайтесь кто может!"
Затем, если, охватив взглядом всю эту равнину, хранящую кровавые воспоминания, вы решите рассмотреть ее в подробностях, спустйтесь с рукотворного холма и по дороге, ведущей из Фришермона в Брен-л'Аллё, выйдите на дорогу в Нивель, которая приведет вас к ферме Угумон, сохранившейся в том виде, в каком Жером, отозванный в три часа пополудни Наполеоном, ее оставил, то есть изрешеченную дюжиной крупнокалиберных пушек, которые подкатил ему генерал Фуа. Здесь видны еще следы разрушений, словно смерть прошла лишь накануне: обломки ничем не прикрыты, никто не разобрал руины; вам также покажут камень, к которому по прошествии времени привел Жерома тот самый проводник, что был с ним в тот день, и на котором он сидел, как новоявленный Гай Марий, на развалинах нового Карфагена.
От фермы Угумон можно дойти через поле, если оно уже сжато, до Монплезирского леса, где возвышался наблюдательный пункт Наполеона, а от наблюдательного пункта – к дому Лакоста, проводника императора. Трижды в течение сражения возвращался Наполеон от Бель-Альянса к этому дому. В три часа дня, когда Жером присоединился к императору, тот сидел на небольшом холме, возвышающемся над полем боя, в двадцати шагах от дома; справа от Наполеона находился маршал Сульт: принц Жером стал по левую руку. Наполеон только что отправил гонца к Нею; возле него была бутылка бордо и полный стакан, который он время от времени машинально подносил к губам. При виде Жерома и Нея, которые подошли к нему, покрытые пылью, потом и кровью, Наполеон улыбнулся: он любил, когда его храбрецы выглядели именно так; затем, по-прежнему не отрывая глаз от грандиозного сражения, в котором до этого момента у него был перевес, он послал в дом Лакоста еще за тремя стаканами – один для Сульта, второй для Нея и третий для Жерома; но там нашлось только два; он сам наполнил их вином и протянул маршалам, а свой отдал Жерому.
А потом мягким тоном, который ему так прекрасно удавался, когда в этом была необходимость, он произнес: "Ней, мой храбрый Ней, – впервые после возвращения с острова Эльбы обращаясь к нему на "ты", – возьми двенадцать тысяч человек у Келлермана и Мило и подожди, пока к тебе не присоединятся мои ворчуны; затем ты нанесешь сокрушительный удар, и тогда, если появится Груши, это будет наш день! Ступай".
Ней нанес сокрушительный удар, но Груши так и не появился.
Отсюда нужно идти по дороге, ведущей из Женаппа в Брюссель, и тогда вы пройдете рядом с фермой Бель-Альянс, где после сражения встретились Веллингтон и Блюхер; следуя тем же путем, вы вскоре сможете достичь крайней точки, до которой продвинулся Наполеон и где он понял, что вовсе не Груши, а Блюхер прибыл, чтобы победить в проигранной битве, как это сделал Дезе при Маренго; и тогда вы словно попадаете в промежуток между вторым и третьим наступлениями. Сделав пятьдесят шагов вправо в глубь поля, вы окажетесь на месте того самого каре, куда бросился император; именно там он искал смерть. Каждый залп английских пушек сносил целые шеренги окружавших его солдат, и Наполеон кидался в каждую вновь образующуюся шеренгу, но его удерживал сзади Жером, в то время как один храбрый корсиканец, генерал Кампи, всякий раз с неизменным хладнокровием вставал со своей лошадью между императором и батареями неприятеля; наконец, проведя три четверти часа в этой бойне, Наполеон повернулся к брату: "Пойдем, – сказал он, – похоже, смерть еще не хочет забрать меня. Жером, я передаю тебе командование армией: жаль, что мне удалось узнать тебя так поздно". Затем он пожал ему руку, сел на лошадь, которую ему подвели, словно по волшебству проскакал прямо через расположение вражеских войск, добрался до Женаппа, ненадолго там задержался, пытаясь воссоединить армию; затем, поняв, что его усилия тщетны, снова сел на коня и в ночь с 19-го на 20-е прибыл в Лан.
С тех пор прошло двадцать пять лет, и только сегодня Франция начинает понимать, что это поражение было необходимо для свободы Европы; но, тем не менее, она затаила глубокую боль и ярость, оттого что именно ее назначили в жертву; и потому на этой равнине, на которой во имя нее пало столько спартанцев, напрасно искать рядом с монументом принцу Оранскому, гробницей полковника Гордона и памятником ганноверцам камень, крест или эпитафию, напоминающие о Франции; просто когда-нибудь Господь велит ей вновь взяться за дело всеобщего освобождения, начатое Бонапартом и прерванное Наполеоном, а затем, когда оно будет завершено, мы повернем Нассауского льва в сторону Европы, и этим будет все сказано.
АНТВЕРПЕН
На следующий день я отправился на родину Рубенса: дело в том, что, хотя художник с огненным именем и пламенным сердцем родился в Кёльне, Антверпен, тем не менее, считает его одним из своих сыновей; во всяком случае, именно в этом городе он умер, оставив бдить у своей гробницы несметное и бессмертное потомство, рожденное на свет его кистью и состоящее из тысячи трехсот десяти картин, которые известны по гравюрам и насчитывают более четырнадцати тысяч персонажей.
Антверпен имеет форму натянутого лука, тетиву которого представляет собой Шельда; в старинном предании, одном из тех, какие можно услышать о происхождении любого древнего поселения, говорится, что еще до того, как Антверпен стал городом, некий великан построил замок на косе, именуемой сегодня Верф, и тем самым распространил свою власть на реку: протянув цепь с одного берега на другой, он останавливал все проплывавшие по
Шельде суда и требовал с пленных выкуп; если же они отказывались платить, будь то из упрямства или по бедности, он отрубал им обе руки и бросал их в воду. Отсюда и происходит название "Антверпен": "Hand-Verpen", что по-фламандски означает "Брошенная рука". Разумеется, как и везде, нашлись ученые, желающие иметь собственное мнение по любому поводу: они опровергают это поэтичное истолкование названия города и утверждают, что слово "Антверпен" восходит всего-навсего к "Aen't-Werp", что означает "У берега"; но этим упрямцам предъявляют убедительные доводы: им показывают герб города, изображающий замок и две отрубленные руки, и каждый год мимо их дома проносят пусть и не самогб великана, но статую, сделанную по его образу и подобию.
В те времена, когда город – сначала римская крепость, потом завоеванное норманнами владение, потом франкская провинция и, наконец, маркграфство, отделенное от герцогства Нижняя Лотарингия, чтобы служить уделом Готфриду Бульонскому, – едва зародился и начал приобретать определенный вес, его имя внезапно оказалось запятнано распутством одного-единственного человека. Человек этот, прародитель всех донжуанов прошлого, настоящего и будущего, звался Танхельмом; несмотря на мало поэтичное имя, Танхельм был молод, красив, богат, ловок и умел очаровывать не только женщин, но также отцов, мужей и женихов, у которых он похищал дочерей, супруг и невест и которые, вместо того чтобы мстить ему за эти злодеяния, сами, вероятно вследствие волшебства, помогали осуществлять его желания и прихоти; наконец, падение нравов дошло до такой степени, что в этом новоявленном Содоме перестали прислушиваться к голосам простых служителей Господа и пришлось прибегнуть к более сильным средствам. Один из монахов был послан к святому Норберту, который, отправившись во Францию в сопровождении двенадцати учеников, своими речами и чудодейственными молитвами обращал там несметное число грешников. Посланец, на которого возлагались надежды немногих еще уцелевших в городе добродетельных сердец, в знак смирения и глубокой печали отправился в путь босым и шел до тех пор, пока не отыскал святого епископа, после чего он привел его в прбклятый город; летописи не сообщают, происходило ли обращение посредством небесной воды или небесного огня, но точно известно, что все грешники единодушно раскаялись: отцы вновь обрели дочерей, мужья – жен, а женихи – невест, и Танхельм, которому некого было больше соблазнять, решил постричься в монахи. Чтобы увековечить память об этом чудесном событии, на земле, которая принадлежала капитулу святого Михаила, основанному Готфридом Бульонским в то время, когда он отправлялся на Святую землю, возвели собор Антверпенской Богоматери. Возвышающаяся над церковью большая башня была построена позднее: она сооружалась с 1422 года под руководством архитектора Амели-уса и была закончена лишь в 1518-м; высота ее 470 футов, включая 15-футовый крест; таким образом, с венчающей ее галереи можно увидеть Брюссель, Гент, Мехелен, Бреду, Флиссинген и даже дым пароходов, входящих в устье Шельды. Что же касается клироса собора, то он был начат в 1521 году: первый его камень заложил Карл V.
Я начинаю с собора, потому что именно туда устремляются путешественники, чтобы прежде всего поклониться знаменитой картине "Снятие с креста" – либо потому, что уже видели ее, когда в течение восьми лет она находилась в Парижском музее, либо потому, что знают ее по многочисленным гравюрам, сделанным с оригинала. Вот история этой картины.
Рубенс собирался во второй раз уехать в Италию, но, уступив настояниям эрцгерцога Альбрехта и эрцгерцогини Изабеллы, решил поселиться в Антверпене и купить там дом. Приобретя его и задумав соорудить в нем мастерскую по своему вкусу, он пожелал изменить планировку помещений и заложил фундамент между своим садом и садом Братства аркебузиров; но то ли потому, что художник полностью ушел в свое творчество, то ли потому, что родившийся в его голове план уже не подлежал никаким изменениям, фундамент этот слегка вторгся на территорию соседей; аркебузиры пожаловались на это художнику, художник послал аркебузиров к черту; началась судебная тяжба, в которой стороны действовали так решительно, что она грозила стать долгой и разорительной; и тогда бургомистр Рококс, глава Братства и друг Рубенса, выступил в роли посредника между враждующими сторонами. В итоге было решено, что аркебузиры отдадут Рубенсу землю, из-за которой завязалась тяжба, а Рубенс напишет и преподнесет в дар аркебузирам для их часовни, находящейся в кафедральном соборе Антверпена, триптих, на котором будет изображен какой-нибудь эпизод из жизни святого Христофора, со времен изобретения пороха непонятно почему считающегося покровителем аркебузиров.
Рубенс, будучи не только великим живописцем, но и, как говорится в его эпитафии, прекрасным знатоком древней истории, по-видимому не сумел найти в жизни святого Христофора, какой бы занимательной она ни была, сюжета, созвучного его тогдашним интересам, и просто-напросто взял за основу этимологию греческого имени "Christophoros", которое означает "несущий Христа", и, нарисовав картину, изображающую снятие с креста, решил, что с лихвой выполнил условие сделки, поскольку все персонажи, поддерживающие тело Христа, были по-своему "Христофорами". Левая створка, выражая эту же мысль, изображала деву Марию, посещающую во время своей беременности святую Елизавету, а правая – священника Симеона, держащего на руках младенца Иисуса, когда Богоматерь и святой Иосиф приносят его в храм. Как только картина была закончена, художник отослал ее аркебузирам, надеясь, что его хитроумная мысль окажется в полном соответствии с их требованиями; велико же было его заблуждение. Аркебузиры, не владевшие греческим, не смогли отыскать своего покровителя ни в центральной части триптиха, ни на боковых створках, возмутились, что его там нет, и отказались принять картину, посчитав, что это какая-то старая работа, которую им хотят подсунуть вместо обещанной. Они отослали ее автору и через неделю снова вызвали его на судебное заседание, требуя вернуть земельный участок, ставший предметом тяжбы. Вся эта история была неприятна для Рубенса не только потому, что была отвергнута одна из его лучших картин, но еще и потому, что мастерская была уже построена, он начал в ней работать и она оказалась по размерам и расположению одной из лучших среди всех, какие у него когда-либо были.
На следующий день после возобновления военных действий славный бургомистр, который уже выполнял роль посредника между враждующими сторонами, пришел к Рубенсу, надеясь уладить дело вторично; но на сей раз это оказалось сложнее, ибо все озлобились: аркебузиры, у которых он побывал перед этим, были разъярены, а художник оказался в чрезвычайно дурном расположении духа. Тем не менее, поскольку отеческая доброта к аркебузирам и братская любовь к художнику не требовали от бургомистра ровным счетом никаких затрат, он, после трех или четырех походов из мастерской Рубенса в Братство аркебу-зиров, сумел умерить злопамятность одного и снизить имущественные притязания других, после чего, в конце концов, с радостью в душе объявил другу, что все улажено, если только тот согласится добавить к прочим персонажам, изображенным на картине, хоть какого-нибудь святого Христофора: размеры не имели значения, но его присутствие единодушно было признано обязательным. Тогда Рубенс открыл свой триптих и, показав всю картину, наглядно объяснил бургомистру, что на ней не осталось даже самого маленького уголка, куда можно было бы поместить требуемого святого. Бургомистр признал правоту сказанного другом, но, закрывая в свою очередь створки, открытые художником, показал ему, что вся их обратная сторона осталась ничем не занятой. Рубенс тотчас уступил, взял белый карандаш и в присутствии миротворца нарисовал гигантского святого Христофора, который первым бросается в глаза, если крылья триптиха закрыты. Бургомистр тут же отправился с этой доброй вестью к аркебузирам, и они, удовлетворенные тем, что художник пошел на уступку, на этот раз приняли картину, не требуя объяснений по поводу совы, которую пририсовал Рубенс, намекая на их невежество.
Другая не менее любопытная забавная история тоже относится к картине; говорят, что в то время, когда Рубенс создавал этот свой шедевр, его ученики, за соответствующую мзду, получили у слуги разрешение войти в мастерскую метра и сделали это, когда тот уехал в деревню и должен был вернуться лишь вечером; один из них случайно толкнул другого, тот упал на картину и размазал еще не высохшую краску на руке Марии Магдалины, а также на щеке и подбородке Богоматери, которые Рубенс только-только закончил писать. Молодые люди страшно растерялись и хотели было сбежать; но слуга, которого, естественно, сочли бы виновным в случившемся, поскольку ключ от мастерской был только у него, запер дверь и заявил, что никто оттуда не выйдет, пока рука Марии Магдалины и щека Богоматери не будут восстановлены в их прежнем виде; возражать не приходилось, все было справедливо: ученики оказались пленниками, и им пришлось капитулировать. Решили голосовать, чтобы выбрать самого достойного, и в итоге был назван один из учеников. После чего молодой человек, дрожа от страха, взял в руки палитру и кисть учителя и под одобрительные возгласы товарищей поправил поврежденные места, причем так искусно, что сам Рубенс ничего не заметил и, более того, удовлетворенно разглядывая на следующий день свое творение, созданное накануне, произнес, указывая на руку Марии Магдалины и голову Богоматери:
– Да, эта рука и эта голова – не самое плохое, что я сделал вчера.
Молодой человек, который имел право притязать на часть похвалы, сделанной Рубенсом самому себе, был Ван Дейк.
Что же касается виновника этого происшествия, то им был юный Дипенбек, который незадолго до этого бросил роспись по стеклу, чтобы поступить в мастерскую Рубенса, и ранние работы которого можно увидеть не выходя из собора: это расписанные им витражи одного из окон – они изображают четырех коленопреклоненных попечителей бедных и изумительны по цвету.
В другой части церкви находится "Воздвижение креста" – картина, парная к "Снятию с креста"; невозможно представить себе ничего более смелого, чем эта диагональная композиция, на которую мог решиться и в которой мог преуспеть лишь столь дерзновенный и столь мощный художник! Лицо Христа, которого, наверное, один только Рубенс сумел изобразить и человеком, и Богом одновременно, выражает величественное страдание и возвышенное смирение, подобных которым мне никогда не доводилось видеть; все незаполненное пространство вверху картины освещено лучом света, воистину льющимся с небес: это взгляд Господа, обращенный с высот своего величия на искупительную жертву – собственного сына, которого он подверг человеческим горестям и страданиям; ну а пустое пространство внизу – это сумерки, в которые погружена земля. Настоятель церкви святой Вальпур-гии, сговорившийся с Рубенсом о цене в две тысячи бра-бантских флоринов, потребовал, прежде чем их отсчитать художнику, чтобы тот заполнил эту пустоту какой-нибудь фигурой или каким-нибудь предметом. Рубенс нарисовал там свою собаку! Как же это поразительно – невежество с одной стороны и презрение с другой!
После блуждания от одного шедевра к другому я оказался перед главным алтарем, над которым высится "Успение Богоматери". Чтобы зритель почувствовал, что мать Господа возносится к своему сыну, Рубенс решил написать ее уже принадлежащей скорее небесам, нежели земле: ему пришлось отказаться от насыщенного телесного цвета, придающего всем его работам столь земные черты, и избрать тот размытый и поэтичный колорит, что присущ ангелам, сопровождающим призрачные тени; у него это получилось так удачно, как случается только у гениев. Все знают эту картину – с головками херувимов, напоминающими огромный букет роз, с семью суроволицыми апостолами в просторных, свободно ниспадающих одеяниях: он закончил ее за шестнадцать дней, получив вознаграждение в 1600 флоринов, то есть по двести франков в день – это обычная цена, которую Рубенс назначал за свои работы.
После этих трех картин трудно говорить о других произведениях, которые украшают церковь Богоматери и дополняют их, составляя вместе с ними единое целое. Входя в Сикстинскую капеллу, вы обращаете внимание только на "Страшный суд", хотя стены там покрыты такими фресками, что, если бы они находились в каком-нибудь другом месте, вы с восхищением долго и обстоятельно рассматривали бы их. Просто есть гении самой высокой пробы, они подавляют всех, кто их окружает, и, принижая других, возвышаются сами.
Однако, выйдя через боковую дверь церкви, нужно обязательно взглянуть на колодец с коваными украшениями в виде виноградной лозы; он создан Квентином Метсей-сом, который, подчинившись требованию или, скорее, приняв вызов отца своей возлюбленной, из кузнеца превратился в художника, чтобы добиться ее руки: здесь восхищаешься работой ремесленника, в музее оцениваешь талант художника. В самом деле, один из первых триптихов, который видишь, войдя в церковь, – его кисти: на средней части триптиха изображено положение Христа во гроб; на правой створке – отрубленная голова Иоанна Крестителя, положенная на стол Ироду; на левой – святой Иоанн, брошенный в кипящее масло. Именно перед этой картиной склонный к причудам тесть Метсейса отдал ему в жены свою дочь.
У подножия башни кафедрального собора, куда из церкви картезианцев в Киле, в которой Метсейс был вначале похоронен, перенесли его прах, можно прочесть такую эпитафию:
QUINTINO METSIIS,
INCOMPARABILIS ARTIS PICTORI, ADMIRATRIX GRATAQUE POSTERITAS, ANNO POSTOBITUM SAECULARE С1Э.1ЭС. XXIX
posuit;[7]
Эта эпитафия сопровождается стихотворной строкой на латыни:
Connubialis amor de Mulcibre fecit Apellem.[8]
А над ней в стену вделан каменный медальон с портретом Метсейса.
После кафедрального собора, который выделяется вовсе не своей архитектурой, а высочайшим уровнем находящихся в нем картин, самой заметной из церквей Антверпена является церковь святого Иакова. В одной из ее часовен находится надгробие Рубенса, простой могильный камень, на котором можно прочесть пространную эпитафию; правда, последняя ее треть посвящена не памяти живописца, а прославлению того, кто велел ее выгравировать. Вот буквальный перевод эпитафии:
"Питер Пауль Рубенс, кавалер, сын Яна, городского старшины, владетель Стена,
который среди прочих талантов, коими он удивительнейшим образом отличался, владел наукой древней истории и который, будучи гениальным живописцем, заслужил не только у своих современников, но и во всех веках называться Апеллесом. Пользуясь дружбой вельмож и королей, он достиг высокого положения, позволившего ему подняться еще выше.








