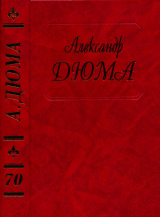
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц)
Когда наша прогулка закончилась, я направился в гостиницу "Альбион", чтобы расплатиться за ночлег, но обнаружил там лишь служанку. Я спросил, сколько с меня причитается, и она ответила, что мой счет составил 27 франков.
Мне показалось, что это чересчур дорого за одну ночь в скромной гостинице, и потому я осмелился высказать некоторые возражения по поводу такого счета, но в ответ мадемуазель Be рже ни обратила мое внимание на то, что они заплатили тридцать су рассыльному, доставившему мой багаж. Я признал правоту факта, но этот задаток, как бы он ни льстил моему самолюбию, указывая на проявленное ко мне доверие, уменьшил мой долг лишь до 25 франков 50 сантимов. И тогда я позволил себе снова проявить настойчивость, потребовав детальный счет.
– Так ведь господин заказал ужин вчера вечером, – заявила девушка.
– Верно, – ответил я, – но мне его так и не подали.
– А сегодня утром господин потребовал карету.
– И это верно, но ее не нашли.
– Ну, это не имеет значения, – ответила девушка.
На мгновение я оказался сбит с толку логикой этого умозаключения, но затем, не желая признавать себя побежденным, попросил позвать хозяйку.
– Увы, это невозможно, – ответила мне служанка, – в этот день госпожа ходит в церковь: она на вечерней молитве.
– А господин Валентин?
– Он отыскивает яйца в гнездах.
Я повернулся к г-ну Полену.
– В котором часу отходит экипаж на Ахен? – спросил я его.
– Примерно через полчаса, – ответил он.
Понимая, что у меня, нет времени начинать судебный процесс против хозяйки, я бросил на стол 30 франков и вышел.
– Спасибо, господин фламандец, – поблагодарила девушка, провожая меня до двери.
Я взял свой дневник и написал:
"Errata[20]: вместо слов «Льеж, увиденный с высоты птичьего полета», следует читать: "Льеж, увиденный на уровне гостиничного воровства V
Мы пришли на почтовый двор в ту минуту, когда в экипаж уже запрягали лошадей. К счастью, в нем еще оставалось три свободных места внутри. Я побежал в контору, купил билет и хотел было положить его в карман не читая, но г-н Полей посоветовал мне взглянуть, что там написано.
Для большего удобства пассажиров надписи были и по-немецки, и по-французски; я прочел, что у меня место номер четыре и что мне запрещено меняться местами с соседом, даже с его согласия. Эта чисто военная дисциплина еще в большей степени, чем адская тарабарщина, на которой изъяснялся кучер, указывала на то, что скоро мы попадем во владения его величества Фридриха Вильгельма.
Я обнял г-на Полена и сел в карету. В назначенное время она тронулась с места.
Поскольку мое место было в уголке, то тирания его величества короля Пруссии не показалась мне столь уж невыносимой, и должен даже признаться, что я заснул таким глубоким сном, как если бы ехал по свободнейшей из стран на земле; но около трех часов ночи, то есть на рассвете, я проснулся из-за того, что карета не двигалась.
Подумав сначала, что случилось какое-то происшествие, что нас кто-то задержал или мы увязли в грязи, я высунул голову из окна. Но мое предположение оказалось ошибочным: никакого происшествия не случилось, и на прекраснейшей в мире дороге никого, кроме нас, не было.
Я вытащил из кармана билет, перечитал его от первой до последней буквы и, убедившись в том, что мне не запрещено разговаривать с моим соседом, спросил у него, как долго мы уже стоим.
– Минут двадцать, – ответил он.
– А позвольте спросить, что мы здесь делаем?
– Мы ждем.
– Ах так, мы ждем. А чего мы ждем?
– Мы ждем, когда наступит время.
– Какое время?
– Время, когда мы имеем право прибыть в Ахен.
– А что, для этого существует какое-то определенное время?
– В Пруссии все определено.
– А если мы прибудем раньше?
– Кондуктора накажут.
– А если позже?
– Тоже накажут.
– Ах так! Ну тогда, пожалуй, понятно.
– В Пруссии все понятно.
Я кивнул в знак согласия: ни за что на свете мне не хотелось перечить господину, который, по-видимому, имел столь твердые политические убеждения и который к тому же столь любезно и столь сжато отвечал на мои вопросы. Казалось, мое одобрение было ему приятно; меня это подбодрило, и я продолжал:
– Простите, сударь, а в каком же часу кондуктор должен прибыть в Ахен?
– В четыре часа тридцать пять минут утра.
– А если у него отстают часы?
– В Пруссии часы никогда не отстают.
– Будьте добры, доставьте мне удовольствие, объяснив это подробнее.
– Это же очень просто.
– То есть?
– Напротив кондуктора, сидящего наверху под навесом, расположены часы, запертые на ключ и показывающие то же время, что и часы на почтовом дворе. Ему известно, что в такое-то время он должен прибыть в такую-то деревню, в такое-то время – в другую, и он либо подгоняет, либо приостанавливает кучера, чтобы въехать на почтовый двор ровно в четыре часа тридцать пять минут.
– Я сожалею, что мне приходится проявлять подобную настойчивость, сударь, но вы так любезны…
– Что еще, сударь?
– Но если все так предусмотрено, то как же случилось, что теперь мы вынуждены ждать?
– Да потому, наверное, что кондуктор, подобно вам, уснул, а кучер этим воспользовался и поехал быстрее.
– Ну что ж, тогда я воспользуюсь остановкой и выйду на минутку из кареты.
– В Пруссии не выходят из карет.
– О, это, знаете ли, очень удобно. А то у меня было желание взглянуть, что это за замок вон там, с вашей стороны…
– Это замок Эммабург.
– А что это за замок?
– Тот самый, где приключилась ночная история с Эгинхардом и Эммой.
– Ах так! Будьте добры, пересядьте на мое место, и тогда я взгляну на замок хотя бы в окно.
– Я бы с радостью, сударь, но в Пруссии нельзя меняться местами.
– Ах, черт, ну да, верно, а я совсем запамятовал. Простите, сударь, и забудьте об этом.
– Этти пруклятые франтсузы, он есть так болтлифф, – произнес, не открывая глаз, толстый немец, с важным видом сидевший в своем углу напротив меня и не раскрывший рта с тех пор, как мы выехали из Льежа.
– Что вы сказали, сударь? – спросил я, живо обернувшись к нему, ибо меня не очень порадовало его замечание.
– Моя ничего сказат, моя спат.
– И правильно делаете, что спите, только не говорите во сне вслух, а если уж говорите, то лучше на своем родном языке.
Немец захрапел.
– Кучер, vorwarts[21] — крикнул кондуктор.
Дилижанс стремительно сорвался с места. Я поспешил выглянуть из окна, чтобы, по крайней мере, бросить взгляд на романтические руины, сведения о которых дал мне мой услужливый попутчик, но, к несчастью, дорога делала поворот, и они уже скрылись из вида.
В четыре часа тридцать пять минут, ни секундой раньше, ни секундой позже, мы въехали на почтовый двор. Немногие города соответствуют сложившемуся у нас представлению о том, как они должны выглядеть, об их названии и о той роли, какую они играли в истории, и в этом отношении мне не привыкать к разочарованиям, но признаюсь, что, оказавшись в четыре часа утра на Ратушной площади, увидев, как встает рассвет над памятником бургомистру Хору-су, увидев огромную пустынную площадь, на которой, подобно бронзовому призраку, возвышается статуя старого императора, украшенная странным орлом со взъерошенными перьями, я не мог не узнать столицу франкских королей и с почтением приветствовал императорский город, как по-прежнему называют его здешние жители.
Мы не будем сейчас излагать историю Ахена. Древний и современный город словно отделены друг от друга величественной тенью; это тень Карла Великого, родившегося здесь в 742 году и умершего здесь же в 814-м. Вполне вероятно, что ничего существенного не происходило здесь до этого и, вполне определенно, после этого.
Дело в том, что Карл Великий, истинный тевтонский король, был привязан к Ахену, своему германскому городу, совсем иначе, чем к Парижу, своему французскому городу. И потому даже сегодня все в Ахене хранит память о нем, и вы не найдете здесь ни одного древнего камня, с которым народ не связывал бы легенду о своем старом императоре.
МАЛЫЕ И ГЛАВНЫЕ РЕЛИКВИИ
Выйдя из гостиницы «Великий Монарх», избранной мною в качестве пристанища, я прежде всего отправился осматривать главную площадь, которую мне довелось пересечь на рассвете, и при повторном посещении счел ее исключительно своеобразной. Именно памятник императору Карлу Великому, изваянный в стиле времен императора Максимилиана, старый бронзовый орел с растрепанными потемневшими перьями и массивный дворец XIV века с башней Гранус и Рыночной башней формируют облик города, ставшего местом коронации всех этих стародавних императоров, призраков истории, которые являются нам, романтикам, волоча за собой во мраке прошлого свои бронзовые саваны.
Как известно, ратуша, построенная в XIV веке бургомистром Хорусом, находится на том самом месте, где, по-ви-димому, стоял дворец великого императора. Правда, ни одна из частей здания не может быть датирована тем временем, но, закладывая в 1730 году фундамент грандиозного крыльца, архитектор Коувен обнаружил на глубине в пятнадцать футов широкую круговую лестницу, которую по массивности конструкции ему удалось датировать с достаточной определенностью VIII веком. Эта находка превратила в уверенность казавшееся прежде лишь правдоподобным привычное представление о том, что готическая ратуша стоит на том самом месте, где некогда высился романский дворец.
Эта ратуша, чрезвычайно необычная по своему внешнему облику, не сохранила, однако, в своем внутреннем убранстве ничего примечательного; кроме того, время и нужды городского совета повлекли за собой перепланировку помещений; даже сам зал коронации императоров, имевший сто шестьдесят два фута в длину, сочли слишком большим, и сегодня он разделен перегородкой на две части: кажется, что он сам переделал себя, чтобы соответствовать размеру тех, кто обретается в нем сегодня.
Кафедральный собор, хотя и претерпевший одно за другим несколько изменений, представляет собой, тем не менее, здание, возведенное Карлом Великим. В него входишь через ту же дверь, через которую вошел волк, и это искупительное животное по-прежнему сидит на своем бронзовом пьедестале слева от паперти, в память об услуге, оказанной им городу. Когда Наполеон, этот Карл Великий нового времени, проходил через Ахен, он коснулся скульптуры кончиком своей шпаги, и ее переправили в Париж вместе с гранитными колоннами, поддерживающими ротонду храма. Напротив волка, на такой же, как его, колонне высится огромных размеров бронзовая еловая шишка, значение которой мне совершенно неизвестно. Я не раз расспрашивал о ней местных жителей, но, как правило, слышал в ответ, что это Душа бедного волка[22]. За неимением лучшего объяснения, мне пришлось довольствоваться этим.
Я вошел в собор: посреди его восьмиугольного пространства находится могила Карла Великого, то есть лежащий вровень с полом огромный камень, на котором высечена простая надпись: «Carolo Magno». Над ним висит гигантская серебряная люстра в форме короны: это дар Фридриха I церкви, или, скорее, дань памяти Карлу Великому.
К несчастью для поэта или историка, преклонившего здесь колена, эта могила – всего лишь саркофаг; она была полностью скрыта от глаз и, после двух последовательных норманнских нашествий, стерших все ее наружные признаки, никто даже не знал места, где покоится великий император, пока в 997 году Оттон III не повелел провести раскопки, в результате которых и был найден склеп; он оказался именно таким, каким его описали в летописях: пол, вымощенный золотом, стены, задрапированные знаменами, и сидящая фигура старого императора. Проявив то ли набожность, то ли кощунство, Оттон осмелился прикоснуться к Карлу Великому: его тело заключили в серебряную раку. Из склепа были извлечены трон, на котором он сидел, а также золотой крест, корона, держава, книга евангелий и меч, которые затем использовались при коронации императоров, но в разгар следовавших одна за другой революций куда-то исчезли, так что из всего перечисленного уцелел лишь трон, хотя и пропали покрывавшие его золотые пластины; даже сам надгробный камень был убран, и его заменили другим, тем, что лежит сегодня, а подлинный можно увидеть теперь вмурованным в стену в левой части церкви.
Пока я стоял, склонив голову, перед надгробным камнем старого императора и вспоминал стихи из прекрасного монолога Карла V, ко мне подошли двое: один из них предложил показать мне трон, а другой – малые реликвии; зная, какие досадные последствия для кошелька путешественника имеет такой переход от одного экскурсовода к другому, я поинтересовался, нельзя ли иметь дело только с одним. Но мне ответили, что трон находится во владении ризничего, а малые реликвии – церковного сторожа. Такое разделение ролей показалось мне столь четко обозначенным, что, понимая бессмысленность всяких жалоб, я попросил сторожа подождать и последовал за ризничим.
Он повел меня по каменной лестнице на второй этаж, именуемый Хохмюнстером. Именно там стоит знаменитый трон, о котором столько раз упоминается в хрониках: на этом троне восседал Карл Великий в своей гробнице, и в память об этом на нем сидели императоры в день своей коронации. Он закрыт деревянным коробом, который можно снять, лишь открыв замок; но закрыт он не для того, увы, чтобы оберегать покрывавшие его золотые пластины – ибо, как пояснил гид, капитул был вынужден продать их на нужды церкви, – а чтобы скрыть трон от взоров любопытствующих посетителей, ведь если бы они могли увидеть его даром, это лишило бы ризничего единственного дохода, который, судя по всему, приносит ему церковь.
Это кресло из цельного куска мрамора, в романском стиле, напоминающее те, какие еще можно увидеть в некоторых базиликах, и стоящее на возвышении, к которому ведут пять ступеней; должно быть, оно действительно относится к тому времени, которым его датируют. Увидев, с каким почтением я разглядываю трон, ризничий рассказал, что император Наполеон так и не осмелился сесть на него, наверное, потому, добавил он, что был узурпатором; но в тот же вечер императрица Жозефина, более тщеславная, чем ее супруг, велела открыть двери, одна поднялась в Хохмюнстер и, воспользовавшись тем, что в те времена трон еще не был заключен в короб, без всякого почтения села на него; но вскоре послышался крик, слуги бросились туда и увидели, что императрица лишилась чувств.
Придя в себя, она рассказала, что стоило ей сесть на трон, как перед ней предстал император Карл Великий и предрек ей столь чудовищные события, что, испытывая ужас перед настоящим и одновременно страх перед будущим, она была не в силах выслушивать все это и позвала на помощь. Ризничий ничуть не сомневался, что на этой встрече императрицы с призраком императора речь шла о Лейпциге, Ватерлоо и острове Святой Елены.
Помимо своей воли я оказался во власти этих поэтических легенд, сопровождающих сквозь века тень Карла Великого. Я представлял себе, как Наполеон отказывается подняться на этот трон и как Жозефина, беспечная и любопытная креолка, украдкой садится на него, как вдруг мой проводник, вероятно неверно истолковав тот интерес, с которым я разглядывал королевское кресло, внимательно осмотрел Хохмюнстер и ведущую на него лестницу, а затем подошел ко мне и сказал вполголоса, что за пять франков я могу посидеть на троне и на пять минут почувствовать себя императором. Однако он неудачно выбрал момент для подобного предложения, и потому я ответил ему, что у меня вовсе нет притязаний превзойти Наполеона в храбрости и нет желания подвергать себя гневу Карла Великого, как это сделала Жозефина. И тогда славный ризничий, увидев, как по его собственной вине от него уплывает пятифранковая монета, покачал головой:
– О сударь, сколько рассказывают подобных глупостей, но на самом деле, наверное, это все выдумки.
Я дал ему три франка за его выдуманные или невыдуманные глупости, что, по-видимому, немного его утешило, и отправился к церковному сторожу.
Тот оказался более искусным в своем ремесле. Прежде, чем войти в ризницу, он заявил мне:
– Господину известно, что малые реликвии стоят семь франков?
– Нет, – ответил я, – мне это неизвестно. Но это не имеет значение, если ваши малые реликвии того стоят.
– О, разумеется, сударь.
– Ну, хорошо. И что же вы покажете мне за семь франков?
– Я покажу вам кожаный пояс Господа Иисуса Христа.
– Это действительно его пояс?
– Да, сударь. Я в этом не сомневаюсь. Император Карл Великий собственноручно поставил на обоих его концах печати, подтверждая его подлинность.
– Ах так!
– Я покажу вам обрывок веревок, которыми был связан Господь Иисус Христос.
– Ах так!
– Я покажу вам острие гвоздя, которым его прибили к кресту; кусочек пропитанной желчью и уксусом губки, которую поднесли ему палачи, и кусок трости, которой его били.
– И вы мне все это покажете?
– Это еще далеко не все.
– В самом деле?
– Я покажу вам пояс Богоматери; голову святого Анастасия; руку, на которой старец Симеон держал младенца Иисуса; кровь и кости мученика святого Стефана, на которых приносили клятву римские короли; дубовое кольцо, которое носил в темнице святой Петр; масло святой Екатерины…
– И все это за семь франков?
– Да, сударь, просто даром; но что поделаешь, в наше время, когда почти никто больше не верит в Бога, приходится понижать цены; сто лет назад вы не увидели бы столько всего и за луидор.
– Черт побери! Значит, мне посчастливилось, что я родился в тысяча восемьсот третьем году!
– Но, разумеется, если господин желает заплатить больше, это не возбраняется.
– Понимаю, но, если позволите, я буду придерживаться назначенной цены.
– Просто я еще не перечислил господину все, что у нас имеется.
– Не все перечислили?
– Конечно, нет, сударь. У нас еще есть волосы святого Иоанна Крестителя; манна небесная; кусок жезла Аарона; три реликвии, которые повесили на шею Карлу Великому при его погребении.
– И что это за реликвии?
– Это хрустальный сосуд с волосами Богоматери; ее портрет, написанный святым Лукой, и частица истинного креста.
– Та самая частица, которая была принесена ангелом, а затем, потерянная Пипином, отвоевана Роландом у Ве-л икана-с– Изумрудом?
– Та самая, сударь, та самая! Кроме того, охотничий рог из слоновой кости, принадлежавший Карлу Великому; его голова и рука, а еще… Впрочем, господину и так ясно: тут есть что посмотреть за семь франков.
Я испустил глубокий вздох, увидев, как кощунственно здесь относятся к святыням, и вошел. Сторож показал мне все, о чем он говорил, голосом аукционщика подробно рассказывая о каждом предмете и без всякого благоговения притрагиваясь к этим реликвиям, которые ему следовало бы почитать хотя бы за их древность.
Дело в том, что часть этих реликвий, сохраненных скорее из алчности, нежели из религиозного почитания, была отправлена императору Карлу Великому в 799 году Иоанном, патриархом Иерусалимским; другая часть была подарена ему Аароном, царем Персии, который одновременно передал ему в дар Иерусалим и Святые места, это давно уже востребованное им наследие, а все остальное было послано ему из Константинополя, как сам он подтвердил в грамоте, запечатанной собственной его печатью.
Я поцеловал частицу креста, поскольку, даже если ее и не касался Христос, она побывала в руках Карла Великого.
Затем я попросил показать мне главные реликвии, ибо мне было известно, что существуют и другие священные предметы, которые выставляют для обозрения раз в семь лет и которые, к примеру, в одном только 1496 году привлекли в Ахен сто сорок две тысячи паломников, пожертвовавших в церковную казну 80 000 золотых флоринов!
К сожалению, эти реликвии выставляют только раз в семь лет, а в промежутке показывают лишь венценосным особам; не принадлежа к этому разряду посетителей, я предложил сторожу поднять его плату с семи франков до пятнадцати, если он пожелает расценивать меня как императора или, по меньшей мере, как короля. Он ответил, что за пятнадцать франков готов расценивать меня куда выше, но что у него нет ключа. Должен заметить, впрочем, что это отсутствие к нему доверия, по-видимому, глубоко его уязвляло.
Главные реликвии включают в себя:
1. Одеяние Богоматери, которое было на ней во время рождения Иисуса Христа. Оно из тканого полотна и имеет пять с половиной футов в длину.
2. Пелены, в которых Спаситель лежал в хлеву.
3. Покрывало, на котором был обезглавлен Иоанн Креститель.
4. Повязка, которая опоясывала бедра Иисуса Христа, когда его распинали на кресте.
Каждая из этих реликвий плотно завернута в кусок шелка, который разрезают перед каждой демонстрацией святынь, а лоскутки раздают присутствующим.
Впрочем, как мне показалось, сторож относился к этим священным предметам без должного уважения, и, вручи я ему всего лишь десять франков вместо обещанных семи, он наверняка признался бы, что не убежден в их подлинности.
ДВА ГОРБУНА. ФРАНКЕНБЕРГ. УЛИЦА ДОМОВЫХ
У дверей собора меня ожидал экипаж, который я нанял для осмотра окрестностей Ахена. Я сел в него и приказал кучеру отвезти меня на Рыбный рынок; дело в том, что Рыбный рынок знаменит не только маасскими угрями и рейнскими карпами, но и старинной легендой, восходящей ко дню святого Матфея 1549 года от Рождества Христова.
Итак, в 1549 году, в день святого Матфея, бедный музыкант-горбун, только что отыгравший на деревенской свадьбе, возвращался домой с честно заработанными тремя флоринами, как вдруг, подойдя к церковной паперти, с удивлением увидел, что площадь перед Рыбным рынком ярко освещена. На колокольне собора только что пробило полночь, время было не торговое, и потому бедный музыкант, подумав, что в эту ночь кто-то в Ахене отмечает свой семейный праздник, не записанный в его календаре, пошел на огни, в надежде, что если там действительно веселятся, то его скрипка придется ко двору. И в самом деле, на площади собралась оживленная толпа, а прилавки рыбных торговцев были так ярко освещены, что музыкант даже стал недоумевать, откуда в городе могло взяться столько свечей. Дымящиеся кушанья подавались на золотых тарелках, самые изысканные вина искрились в хрустальных графинах, придавая им цвета топазов и рубинов, а изрядное число элегантнейших молодых дам и кавалеров в великолепных нарядах воздавали должное этой трапезе, уже подходившей к концу. Увидев все это, музыкант решил, что он попал на какой-то шабаш, и хотел было бежать, но, обернувшись, обнаружил, что на пути у него встали пажи и слуги, приказавшие ему от имени своего господина и своей госпожи взобраться на стол и поиграть для них на скрипке.
Несчастный музыкант, который и в обычное-то время не мог похвалиться чистотой тона, подумал было, что сейчас он совсем опозорится своей игрой, но, к великому его удивлению, с первым ударом смычка пальцы у него забегали с такой ловкостью и с таким проворством, что это сделало бы честь самому Паганини или Берио. И в то же самое время полились столь пленительные звуки, что бедняга даже не мог поверить, будто это он сам их извлекает; все кавалеры выбрали себе партнерш для танца, и начался бешеный вальс, один из тех вальсов, какие наблюдал Фауст и изобразил Буланже; танцующие устремлялись вперед, вращались, кружились наподобие тысячи извивов гигантской змеи, и все это сопровождалось радостными криками, хохотом и столь странными ужимками, что у музыканта, стоявшего на столе, закружилась голова, и, не в силах оставаться на месте, он соскочил со своего импровизированного трона, одним прыжком оказался в центре круга и там, подскакивая то на одной, то на другой ноге и отбивая таким образом такт все ускоряющегося вальса, в конце концов тоже принялся кричать, смеяться и топать изо всех сил, так что к концу танца устал не меньше вальсирующих.
И тогда к нему подошла прекрасная дама, подав ему на серебряном подносе кубок, наполненный восхитительным вином, которое музыкант выпил до последней капли; тем временем двое пажей стащили с него одежду, а дама, приложив поднос к его горбу, взяла тонкий нож с золотым лезвием и, не причинив музыканту ни малейшей боли, удалила у него нарост, который до того он терпеливо носил на спине. А под конец великолепно одетый сеньор, порывшись у себя в кошельке, бросил в пустой кубок горсть золотых флоринов, заполнивших его взамен вина, которое только что выпил музыкант; бедняга, увидев, что пока никто не причинил ему зла, позволял прекрасным дамам и господам действовать по их разумению и рассыпался в благодарностях за все их щедроты, как вдруг вдалеке пропел петух; в тот же миг свечи, трапеза, вина, дамы, рыцари, пажи – все исчезло, словно их сдуло дыханием небытия, и музыкант оказался один в ночи, но уже без горба, держа в одной руке смычок и скрипку, а в другой – кубок, наполненный золотом.
Минуту он стоял в оцепенении, как если бы очнулся от сна, но, мало-помалу успокоившись, понял, что и в самом деле не спит, а разговаривает сам с собой и вслух поздравляет себя со свалившимся на него счастьем. Он вновь направился к своему дому, постучал в дверь и позвал жену. Жена тотчас поднялась и пошла ему открывать, но, увидев вместо горбуна, которого она ожидала увидеть, стройного мужчину, живо захлопнула дверь, решив, что это вор, который подражает голосу ее мужа, чтобы проникнуть в дом. И что бы бедолага ни говорил, как бы он ее ни убеждал, ему все равно пришлось провести ночь на каменной скамье, стоявшей возле порога его собственного дома.
Наутро бедный музыкант сделал новую попытку попасть к себе домой, и на сей раз ему посчастливилось больше, чем ночью, ибо в конце концов жена признала его. Правда, увидев стройного богача вместо бедного горбуна, она, возможно, отчасти решила рискнуть, понимая, что ничего не теряет от такой замены. И тогда музыкант рассказал ей обо всем, что с ним произошло, а жена его, которая, как уже можно догадаться, была женщиной здравомыслящей, посоветовала ему раздать в виде милостыни четверть полученного им золота и, поскольку оставшегося с избытком хватало, чтобы доживать свой век спокойно и безбедно, повесить волшебную скрипку, на манер приношения по обету, под образом его святого заступника. То был разумный совет, и бывший горбун в точности ему последовал.
Приключение это, как нетрудно понять, наделало много шума в Ахене; одним оно пришлось по душе, и таких было большинство, поскольку бедного музыканта там, как правило, очень любили, другие же пришли в уныние, но то были завистники.
И вот среди этих последних был один музыкант, у которого тоже был горб, но рос этот горб спереди, и потому бедолага не мог играть на скрипке, как его собрат с горбом на спине, а играл на кларнете; но поскольку инструмент, на котором ему приходилось играть, по своему положению стоял на ступень ниже скрипки, он уже с давних пор затаил ненависть к бедному скрипачу. И потому, вполне естественно, он был страшно раздосадован свалившейся на того удачей, что не помешало ему прийти в числе первых, чтобы с улыбкой на лице поздравить скрипача с таким везением, заявив, правда, что с горбом музыкант выглядел лучше, и попросив, чтобы тот рассказал ему всю историю в мельчайших подробностях.
Разузнав все как следует, он ушел и, на основании того, что ему стало известно, придумал собственный план действий.
К несчастью, прошел целый год до того, как он смог привести этот план в исполнение, и для бедного горбуна год этот тянулся, как целый век. Наконец, он дождался дня, а вернее, ночи святого Матфея: музыкант вооружился своим инструментом и пошел играть на танцах в деревне, где за год до этого играл его собрат, а затем в полночь с ударами часов вошел в город через те же ворота и в двенадцать с минутами оказался на площади Рыбного рынка; велика же была его радость, когда он увидел, что площадь, как и год назад, была ярко освещена, те же самые дамы и кавалеры сидели за таким же пиршественным столом, но насколько тогда все были оживлены, настолько теперь все явно грустили. Тем не менее музыкант поднес к губам кларнет и, хотя его не раз знаками призывали к молчанию, заиграл мелодию вальса, которой тотчас же принялись вторить совы и филины, сидевшие на каменных статуях святых, что украшали старый собор; и тогда призраки взялись за руки, но, вместо безудержно веселого вальса, который они отплясывали в прошлый раз, стали исполнять грустный и медленный менуэт, завершившийся чопорными и деревянными поклонами, словно то танцевали мраморные статуи, сошедшие с надгробий. Тем не менее к нему подошла та же самая дама, которая год назад дала славному скрипачу награду, ставшую предметом чаяний завистливого кларнетиста, и, когда двое пажей сняли с него камзол, что бедняга перенес с замечательным спокойствием, она приложила к его спине серебряное блюдо. Однако, поскольку это было то самое блюдо, на котором заботливо хранился горб его собрата, и приложено оно было к тому же самому месту на спине, то горб тут же прирос к ней; тем временем пропел петух, все исчезло, а кларнетист остался с двумя горбами – спереди и сзади.
Каждый из музыкантов получил по заслугам.
Мы выехали из Ахена через Буртшейдские ворота, чтобы отправиться, как и подобает любому путешественнику, на минеральные источники. Как и все минеральные воды, воды из источников Буртшейда отвратительны на вкус.
Когда мы выехали из Буртшейда, я сошел с кареты и кучер, который до этого привлек мое внимание к развалинам Франкенберга, видневшимся среди гущи деревьев, указал мне на ведущую к ним тропинку. Я пошел по ней, не отклоняясь ни на шаг в сторону, и на протяжении ста или ста пятидесяти шагов двигался вдоль окутанного паром ручейка, теплая сырость которого, как мне показалось, позволяла траве сохранять изумительную зелень, а затем пересек Фельзенбах. На мгновение заблудившись среди изгородей, я, наконец, очутился перед воротами фермы. Именно на эту ферму, выпив воду в Буртшейде, приходят ополоснуть рот макеем. Впрочем, поскольку наши читатели, вероятно, не найдут слова "макей" в книге "Домашняя кухня", уведомим их, что это попросту смесь сливок, корицы и сахара, весьма приятная на вкус.
Я обошел развалины и увидел озеро, на дне которого погребено кольцо Фастрады. Когда замок только построили, а вода в озере была прозрачной, это было, вероятно, прекрасное жилище, и, даже оставляя в стороне колдовские чары, нетрудно понять, почему оно так нравилось императору.
Однако, менее счастливый, чем он, я не мог провести здесь всю свою жизнь и был вынужден вернуться в карету; следуя какое-то время по внешним бульварам, мы продвинулись вперед и, по-прежнему не выходя из кареты, оказались на вершине горы Лусберг, в том самом месте, где Сатана, устав под тяжестью своей ноши, бросил ее[23]; еще лет тридцать назад гора была сплошь песчаной, такой, какой она выпала из его рук. Но начиная с 1807 года, с того времени, когда верить в дьявола почти совсем перестали, старая гора, возникшая благодаря хитроумной уловке, обратилась в сады, и ее бесплодная почва скрылась под зеленым покровом, среди которого вперемешку поднялись деревья, кафе и загородные дома.








