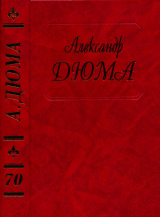
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
– Не бойся, юноша, ведь сегодня счастливый день и для тебя, и для меня.
– Но кто вы, сударыня? И нельзя ли было бы узнать, какую я оказал вам услугу?
– Я владелица этого замка, – продолжала Дама в черном, – и, как видишь, у нас с ним одинаковая участь: замок это всего лишь руины, а я всего лишь тень. Девушкой я была обручена с молодым графом фон Виндеком, жившим в нескольких лигах отсюда, в замке, развалины которого и по сей день носят его имя. Признавшись мне в своей любви и заручившись моим признанием, он бросил меня ради другой женщины и женился на ней; но счастье их длилось недолго. Граф фон Виндек был честолюбив; он вступил в союз против императора и был убит в бою, в котором его партия потерпела поражение, и тогда сторонники императора двинулись в горы, грабя и сжигая замки своих противников. Замок Виндек тоже был ограблен и сожжен, но молодой графине удалось спастись и унести на руках своего ребенка; вскоре, изнуренная усталостью, она отломила ветвь клена, чтобы опираться на нее во время ходьбы. Издали она увидела башни замка, в котором жила я, а поскольку ей не было известно о том, что произошло между мной и ее мужем, она решила попросить меня дать ей приют; но если она не знала мъня, то я ее прекрасно знала: я видела, как она проносилась мимо меня во время охоты, опьяненная любовью, жаждущая удовольствий, окруженная красивыми молодыми людьми, которые, вторя моему неверному возлюбленному, говорили ей, как она прекрасна. И теперь при виде ее, вместо того чтобы сжалиться над ней, как подобает христианке, я почувствовала, как во мне пробудилась ненависть. Я с радостью видела, что она раздавлена под тяжестью своего материнского бремени, что ее босые ноги изранены от подъема по тропам, ведущим к воротам моего замка. Но вскоре она остановилась на уступе скалы, нависающей над этим темным водоемом, который ты сейчас видишь; последним усилием воткнув свою палку в землю, чтобы на нее опереться, она протянула ко мне руки, в которых лежал ее сын, и почти замертво упала без сил, по-прежнему прижимая к груди бедное дитя. Да, я знаю, мне следовало спуститься с балкона, мне следовало подойти к ней, поднять, заключить ее в объятия, подставить дружеское плечо, отвести в этот замок и относиться к ней, как к сестре. То был бы прекрасный и милосердный поступок в глазах Господа; да, я это знаю, но я ревновала ее к графу, даже после его смерти. Я хотела отомстить его несчастной безвинной жене за те страдания, какие довелось пережить мне. Я позвала слуг и велела прогнать ее прочь, как цыганку. Увы, они подчинились моему приказанию: я видела, как они подошли к ней, обругали ее и отказали ей даже в том клочке земли, где она на мгновение задержалась, чтобы дать отдых усталому телу. И тогда я увидела, как она поднялась на ноги и, потеряв рассудок, обезумев, с ребенком на руках, в неистовстве ринулась к скале, возвышающейся над озером, поднялась на ее вершину, бросила мне страшное проклятие и вместе с ребенком кинулась в воду. Я закричала. В эту минуту меня охватило раскаяние, но было уже слишком поздно. Проклятие моей жертвы уже достигло Божьего престола. Она молила о расплате, и расплата должна была наступить.
На следующий день рыбак, забрасывая в озеро невод, вытащил утопленницу, еще сжимавшую в объятиях свое дитя. Поскольку, как свидетельствовали мои слуги, графиня сама покусилась на свою жизнь, капеллан замка отказался хоронить ее в освященной земле, и ее тело перенесли в то самое место, где она воткнула свою кленовую палку; вскоре эта палка, которая еще оставалась зеленой, пустила корни и следующей весной дала цветы и плоды.
Меня же неотступно, неустанно, днем и ночью мучило раскаяние, я проводила все время в молитвах, преклонив колена в часовне, или блуждала по замку. Постепенно здоровье мое слабело, и я стала осознавать, что меня поразила какая-то смертельная болезнь. Вскоре мною овладела непреодолимая слабость, и я уже не могла подняться с постели. Ко мне вызывали лучших немецких врачей, но все они качали головами, глядя на меня, и говорили:
– Мы тут ничем не можем помочь, ибо на ней лежит десница Божья.
Они были правы, ибо я была обречена. И в третью годовщину со дня гибели бедной графини я тоже умерла. Согласно моему распоряжению, меня обрядили в мое неизменное черное платье, чтобы даже после смерти я носила траур по жертве совершенного мной преступления; и так как, при всей тяжести совершенного мною греха, люди видели, что умерла я как святая, меня опустили в семейный склеп в часовне и положили сверху надгробный камень.
В первую же ночь после похорон мне почудилось, что сквозь свой могильный сон я слышу бой часов в часовне. Я стала считать удары и услышала, что их пробило двенадцать.
Когда же раздался последний удар, мне показалось, что кто-то сказал мне прямо в ухо:
"Встань, женщина".
Я узнала глас Божий и воскликнула:
"Господи, Господи! Значит, я не умерла и напрасно думала, что заснула вечным сном, милосердно дарованным мне тобою? Неужели ты вернешь меня к жизни?"
"Нет, – ответил тот же голос, – ничего не бойся, жизнь дается только один раз; ты в самом деле мертва, но, прежде чем взывать к моему милосердию, тебе следует пройти через мой суд".
"Господи, великий Боже! – вскричала я, вся дрожа. – Как ты распорядишься мною?"
"Ты будешь скитаться по свету, бедная неприкаянная душа, – ответил голос, – до тех пор, пока клен, затеняющий могилу графини, не вырастет настолько, чтобы из него можно было сделать доски для колыбели ребенка, которому суждено стать твоим избавителем. Встань же из могилы и исполни свой приговор".
И тогда одним движением руки я отодвинула свой надгробный камень и вышла из могилы – холодная, бледная и бездыханная; до первых петухов я бродила вокруг замка, а затем, по своей собственной воле, но словно подталкиваемая чьей-то неумолимой рукой вернулась в эту башню, дверь которой сама собой распахнулась передо мной, и легла в свою могилу, крышка которой сама захлопнулась надо мной. Во вторую ночь повторилось то же, что и в первую, а потом так происходило все ночи подряд.
Так продолжалось почти три столетия. Я видела, как год за годом постепенно разрушается замок, а на клене появляются все новые ветви. Наконец, от замка и его четырех башен уцелела лишь эта, а дерево вытянулось вверх и раздалось вширь, и я почувствовала, что близится час моего избавления.
Однажды твой отец пришел к дереву, держа в руке топор. И клен, который до того выдерживал прикосновения самой острой стали, после моих заклинаний поддался его ударам; по моей просьбе твой отец сделал из этого дерева колыбель, куда тебя положили сразу после твоего рождения. Господь сдержал свое слово; да будет же благословенно твое имя, Боже, ибо ты всемогущ и милосерден.
Юноша перекрестился.
– А теперь, – спросил он, – мне нужно еще что-нибудь сделать?
– О, да, – ответила Дама в черном, – конечно, юноша, тебе нужно завершить начатое.
– Приказывайте, сударыня, – сказал молодой человек, – и я все исполню.
– Раскопай землю у подножия клена, и ты найдешь там останки графини фон Виндек и ее сына; захорони их в освященной земле, и, когда они будут захоронены, подними камень, лежащий на моей могиле, вложи мне в руки веточку самшита, освященную на Пасху, и смело замуровывай крышку, ибо теперь я восстану из могилы лишь в день Страшного Суда.
– Но как я узнаю вашу могилу?
– Она третья справа от входа; впрочем, – добавила Дама в черном, протягивая к юноше руку, которая была бы совершенной по красоте, если бы не ее мертвенная бледность, – взгляни на это кольцо: оно будет у меня на пальце.
Юноша взглянул на кольцо и увидел рубин такой чистой воды, что он освещал не только руку дамы, но и ее прекрасное и грустное лицо, у которого, как и у ее руки, не было иных недостатков, кроме чрезмерной бледности.
– Я сделаю так, как вы пожелаете, – сказал юноша, прикрывая рукой глаза, чтобы защитить их от блеска, исходящего от карбункула, – и сделаю это завтра утром.
– Да будет так! – ответила Дама в черном.
И она исчезла, словно сквозь землю провалилась.
Юноша почувствовал, что происходит нечто странное: он отнял руку от глаз, огляделся и увидел, что стоит один среди развалин, возле двери, ведущей в восточную башню замка, сжимая в руке кленовую ветку; дверь в башню была закрыта.
Юноша вернулся домой и все рассказал родителям, которые усмотрели во всем этом десницу Божью; на следующий день приходской священник Ахерна, которого предупредили заранее, отправился на указанное юношей место, распевая "Magnificat"[46], в то время как двое могильщиков копали землю возле клена. На глубине пяти или шести футов, как и говорила Дама в черном, были обнаружены два скелета, причем руки матери все еще прижимали к груди скелет ребенка.
В тот же день графиню и ее сына похоронили в освященной земле.
Затем, выйдя из церкви, молодой человек взял висящую под распятием веточку самшита, освященную на Пасху, и, позвав двух своих друзей, один из которых был каменщиком, а другой замочным мастером, повел их к восточной башне замка. Увидев, куда он их ведет, его спутники заколебались, но юноша с величайшей уверенностью заявил им, что, повинуясь ему, они повинуются самому Господу, и потому каменщик и замочный мастер оставили свои колебания и последовали за ним.
Подойдя к двери башни, юноша обнаружил, что забыл взять с собой кленовую ветку, которой он касался ее накануне, но ему пришло в голову, что освященная веточка самшита, без сомнения, будет иметь ту же силу, и он не ошибся. Едва он коснулся тяжелой двери концом сухой ветки, та повернулась на петельных крюках, словно ее толкнула рука великана, и перед друзьями открылась лестница.
Юноша направился прямо к третьей могиле и попросил своих спутников помочь ему поднять крышку; они снова стали колебаться, но молодой человек уверил товарищей, что предстоящее им дело будет вовсе не осквернением могилы, а лишь проявлением набожности, и тогда общими усилиями они открыли могилу.
В ней лежал лишенный плоти скелет, и сначала юноша никак не мог признать в нем прекрасную даму, с которой он говорил накануне и которой, как уже говорилось, можно было поставить в упрек лишь ее чрезмерную бледность. Но на пальце скелета сверкал карбункул такой красоты, что второго такого нельзя было бы отыскать во всем мире; и тогда юноша вложил в руку скелета освященную ветвь и, закрыв могильную плиту, попросил своих друзей замуровать ее как можно надежнее. Спутники выполнили его просьбу.
Именно в этой могиле, которую еще сегодня показывают путешественникам, достаточно смелым для того, чтобы отважиться войти под грозящие обрушиться своды подземной часовни, в ожидании Страшного Суда покоится Дама в черном.
И хотя, как мы уже говорили, не осталось никаких следов от дерева, которое дало название этим развалинам, расположенным на выезде из Ахерна, по левую сторону от дороги, их до сих пор называют Кленовыми руинами.
От этого места до самого Келя на дороге нет ничего достаточно любопытного, что заставило бы сделать остановку. Кель же отличается тем, что, не уступая по возрасту Страсбургу, он всегда остается новым; происходит так потому, что каждые четверть века его сжигают и стирают с лица земли, а потом на том же месте отстраивают заново, чтобы снова сжечь и стереть с лица земли; и так будет длиться до тех пор, пока существуют такие вечно враждующие между собой страны, как Франция и Германия; поэтому Кель постоянно находится в состоянии боевой готовности, и, хотя это прусский город, он испытывает искренне восхищение перед королем Луи Филиппом, этим столпом европейского согласия.
В Келе путешественник пересекает Рейн; в прошлом, когда Франция выступала защитником Конфедерации, там находилось замечательное предмостное укрепление, которое выглядело как форпост великолепной страсбургской крепости, шедевра Вобана, построившего ее в 1682 году и начертавшего на ней девиз: "Servat et observat[47]"; здесь река разделяется на два рукава; первый мост – наплавной – ведет к острову; неподалеку от дороги возвышается памятник Дезе. Это усеченный обелиск с барельефами по бокам, один из тех не имеющих особой ценности саркофагов, какими города при посредстве своих муниципальных советов увековечивают своих великих граждан. Но поскольку на немногих из них можно прочесть столь славное имя, следует остановиться и поклониться ему.
Благодаря стараниям таможни Келя мы попали в Страсбург только к половине восьмого вечера, а это означало, что мне пришлось отложить на следующий день посещение кафедрального собора.
Мой спутник отвел меня в гостиницу "Ворон"; он прожил в ней неделю перед тем, как присоединиться ко мне во Франкфурте, и прославил ее в стихах, за которые Ша-пель и Башомон, будь эти стихи им известны, отдали бы многое, чтобы иметь возможность вставить их в свои путевые заметки.
Поэтому нас встретили как старых знакомых и бросились нам навстречу; хозяин гостиницы оставил партию пике, чтобы приветствовать нас, а его партнер тут же поднялся, чтобы обменяться рукопожатием с Жераром, который приветствовал его, назвав генералом.
– Черт возьми, друг мой, – сказал я ему, когда мы сели за стол, расположившись напротив непременного гусиного паштета, окаймленного с одной стороны колбасой, а с другой – шестью копчеными сосисками. – А я и не знал, что у вас есть такие хорошие знакомства в вольном городе Страсбурге.
– Вы имеете в виду генерала?
– Да, генерала. А как его зовут?
– Генерал Гарнизон.
– Хотя это имя звучит очень воинственно и очень подходит тому, кто его носит, позвольте заметить, что мне оно совершенно незнакомо.
– Это местное имя, и если его не знают в остальной Франции, то в Страсбурге оно пользуется большим уважением.
– А каким образом он приобрел такую известность?
– Достаньте свои часы, – сказал мне Жерар.
– Ну и что дальше? – спросил я, подчинившись.
– Который теперь час?
– Без четверти девять.
– В девять генерал Гарнизон встанет, возьмет шляпу и удалится; это его время, а генерал отличается пунктуальностью. После этого вы попросите нашего хозяина рассказать вам историю генерала, и он вам ее расскажет; а пока мы ждем, не желаете ли вы еще ложку гусиного паштета и кусок сосиски?
Поскольку ждать оставалось недолго, я набрался терпения; без пяти девять я встал на пороге обеденного зала, откуда была видна комната, где находился наш хозяин. Ровно в девять, как и сказал Жерар, генерал встал, взял шляпу, раскланялся со мной и вышел.
Я тотчас же подошел к хозяину и попросил его рассказать мне историю генерала Гарнизона.
Вот она.
ГЕНЕРАЛ ГАРНИЗОН
Это произошло в конце августа 1815 года, через два с половиной месяца после Ватерлоо. Генерал Рапп, командующий Рейнской армией, был вынужден отступить в Страсбург, ведя за собой две пехотные дивизии, поредевшие во время арьергардных боев, а также остатки двух или трех эскадронов кавалерии, которые он хотел сохранить для Франции. Союзники преследовали его вплоть до города, и шестьдесят тысяч солдат окружили маленькое войско генерала, угрожая Страсбургу губительной осадой.
3 июля принц Вюртембергский уже отправил к генералу Раппу парламентера, требуя от имени Людовика XVIII, только что вернувшегося в Париж, передать ему Страсбургскую крепость; но генерал попросил предъявить приказ короля, а поскольку у парламентера приказа не было, его препроводили к аванпостам.
Эти требования были повторены 4-го и 5-го, но 6-го, разгневанный такой настойчивостью, генерал Рапп встал во главе горстки солдат и, произведя разведку австрийских позиций, захватил несколько постов, порубил саблями сторожевые заставы кавалерии и, показав тем самым, что он отнюдь не расположен вести переговоры с противником, вернулся на свои позиции.
Обмануться в его намерениях было уже невозможно, поскольку два дня спустя, в ночной атаке со стороны Страсбурга генерал Рапп неожиданно напал ночью на укрепленный лагерь союзников, захватил его в штыковом бою, опрокинул их кавалерию, взял в плен немалое число австрийских офицеров, не успевших скинуть с себя домашние халаты, и без всякой учтивости вынудил нескольких генералов спасаться бегством в ночных рубашках; в ответ союзники попытались помешать отходу наших войск, но нападавшие были дважды отброшены, понеся потери, и в полном беспорядке отступили. Французские войска вернулись в лагерь, убедившись в том, что неприятель значительно превосходит их числом.
Затем последовало соглашение о перемирии, которое положило конец военным действиям на всех участках, находившихся под командованием генерала Раппа. В соответствии с этим соглашением в крепости расположился австрийский генерал Фолькман.
Но, отказавшись от мысли захватить Страсбург силой оружия, союзники решили, тем не менее, получить его хитростью. Там, где не принесло успех железо, можно было испробовать золото. Хорошо организованный бунт способен сделать то, что недоступно честной войне, и смутьяны иногда бывают удачливее, чем солдаты.
Впрочем, половина дела уже была сделана. В том сильнейшем смятении, в каком пребывала империя, умами владели тревога и сомнения. Всеми было признано, что император непобедим, и вот он оказался побежден. А раз так, его наверняка предали, причем его же собственные генералы, офицеры и солдаты. Почему войска вдруг перестали противостоять противнику? Потому что неприятель в двадцать раз превосходил их численностью? Что за довод! Несомненно, командиры вступили в сговор с союзниками.
Все это говорилось шепотом на биваках и в казармах, а то, что говорится шепотом, слышно далеко.
И вот в этой обстановке всеобщего недоверия граф Рапп получил от королевского правительства приказ расформировать вверенные ему войска и отпустить всех солдат поодиночке и без оружия. О жалованье войскам речи не было. Кроме того, ему предписывалось сдать русским уполномоченным десять тысяч ружей из страсбургского арсенала. Легко судить, какое волнение, а еще в большей степени уныние охватило солдат. Стало быть, с союзниками обменивались письмами; стало быть, под покровом ночи в лагерь противника переносили оружие! Выходит, главнокомандующий и в самом деле продался австрийцам! Верно, значит, говорили, что он получил от врага миллионы, чтобы сдать ему французов.
Тем временем Рапп прилагал неслыханные усилия, чтобы добиться от правительства выплаты жалованья войскам, прежде чем распустить их, но ему удалось вырвать лишь ничтожную сумму в 560 000 франков, которую было даже неловко предлагать им.
Это и привело к началу тишайшего из восстаний, справедливейшего из бунтов, аккуратнейшего из беспорядков, почтительнейшего из неповиновений.
2 сентября утром главнокомандующему нездоровилось, и он принимал ванну. Ему доложили, что пять унтер-офицеров из разных полков просят разрешения переговорить с ним от лица своих товарищей. Он приказал впустить их.
– Господин генерал, – сказал один из выборных, – мы пришли сюда, чтобы иметь честь представить вам решение армии, касающееся порядка ее расформирования.
И он прочел:
"Выступая от имени Рейнской армии, офицеры, унтер-офицеры и солдаты заявляют, что они согласны подчиниться приказу о роспуске армии лишь на следующих условиях.
Статья 1. Офицеры, унтер-офицеры и солдаты покинут армию, лишь когда полностью получат причитающееся им жалованье.
Статья 2. Они уйдут в один и тот же день, забрав с собой оружие, снаряжение и по пятьдесят картушей каждый.
Статья 3…"
Генерал Рапп не дал ему закончить. Со своими солдатами он обращался не лучше, чем с неприятелем. В ярости он выскочил из ванны и, вырвав бумагу из рук злополучного оратора, закричал:
– Условия! Мне! Вы ставите мне условия!..
Посланцы тоже не дали ему возможности закончить,
быстро развернулись кругом и отправились сообщить войскам о не слишком любезном приеме, который оказал им главнокомандующий.
Унтер-офицеры в количестве пятисот человек поджидали их на Плацдармной площади, не выказывая волнения. Сообщение выборных было спокойно выслушано. Потом эти пятьсот человек разбились на кучки и о чем-то начали переговариваться вполголоса. Через десять минут установилась глубокая тишина.
– Сержант Далузи, – произнес чей-то голос.
Вперед вышел Далузи, сержант 7-го полка легкой пехоты. Это был мужчина тридцати пяти лет с открытым, серьезным и невозмутимым лицом, скупыми и неторопливыми движениями, отрывистой и сдержанной речью. Он редко улыбался, и в его взгляде никогда не читалось сомнение.
– Сержант Далузи, большинством голосов вы избраны главнокомандующим. Вы подтверждаете свое согласие?
Далузи ответил:
– Я принимаю эту честь и осознаю связанную с ней опасность. Однако дайте мне три обещания: вы воздержитесь от беспорядков, будете уважать право собственности и оберегать людей. И тогда, клянусь жизнью, вам заплатят раньше, чем через сутки.
Раздались многочисленные радостные возгласы. Далузи даже бровью не повел. Жестом редкого благородства он велел соблюдать тишину и невозмутимо и уверенно продолжил:
– Капрал Гарнье?
Тамбурмажор 58-го полка отделился от своей группы.
– Капрал Гарнье, назначаю вас начальником главного штаба.
– Сержант Дюпюи?
– Вы будете исполнять обязанности коменданта крепости.
– Капрал Симон?
– Вы будете командовать первой пехотной дивизией.
– Капрал Адони?
– Вы примите на себя командование кавалерией…
За несколько минут полки получили полковников, батальоны и эскадроны – командиров, роты – капитанов. Полный главный штаб, хотя и с галунами и эполетами из шерсти.
Тотчас же прозвучал общий сбор. Пехота, кавалерия и артиллерия направились в строгом порядке и ускоренным шагом на Плацдармную площадь. Далузи представил войскам новых командиров и определил различным воинским частям, в каких частях города они должны дислоцироваться.
Короче, когда генерал Рапп, как можно быстрее одевшись, вышел из дома, сопровождаемый своим главным штабом, штаб-двойник уже вовсю исполнял свои незаконно присвоенные функции. Раппу даже не дали время покинуть Дворцовую площадь: со всех улиц, ведущих к ней, поспешно выходили колонны, стремительно выстраивались в боевом порядке и скрещивали штыки, когда генерал пытался сквозь них пройти. Восемь пушек, заряженных картечью, грозно преграждали один из проходов.
Невозможно описать потрясение и ярость графа Раппа, когда он оказался окружен и пленен своими собственными войсками. Он перебегал от одного батальона к другому, но его гнев разбивался об угрюмое и непоколебимое спокойствие солдат. Он хотел говорить, но его голос заглушали гиканье толпы, а особенно вопли смутьянов. Он бросился к гаубице, возле которой стоял канонир, держа в руках зажженный фитиль:
– Негодяй, ты хочешь меня убить? Стреляй: я стою у жерла!
Артиллерист бросил пальник.
– Генерал, – произнес он, – я был с вами во время осады Данцига.
Между тем позади рядов молчаливых и неподвижных солдат продолжали раздаваться подстрекательские крики:
– Стреляй… Он продал армию!.. Стреляй же!..
Несколько молодых, сбитых с толку солдат взяли генерала на прицел.
В эту минуту к нему бросился со всех ног начальник главного штаба Гарнье:
– Господин генерал! Ради Бога, уходите! Не нужно бессмысленно подвергать опасности свою жизнь. Что вы можете сделать? Мы твердо решили добиться выплаты жалованья… Так что возвращайтесь во дворец: генерал Гарнизон отвечает за все.
– А кто такой этот генерал Гарнизон, хотел бы я знать?!
– Господин генерал, это наш новый главнокомандующий.
И в самом деле, выказав остроумие, это собирательное имя взял себе Далузи, чтобы несколько уменьшить свою личную ответственность. Одиссей сказал Полифему: "Меня зовут Никто". Далузи настолько превзошел Одиссея, насколько цивилизованный человек может превзойти человека первобытного. Далузи имел честь принадлежать к веку, которому суждено было стать веком представительной формы правления и прессы, и будьте уверены, что он гордо ответил бы циклопу: "Меня зовут Весь-мир". "Никто" и "Весь-мир" – между этими словами пролегло пять тысяч лет. Но разве "Никто" и "Весь-мир" это, по сути, не одно и то же?
Рапп знал, что его армия не будет нежничать с врагом, и ему претило быть им для своих солдат. Он удалился во дворец. Тотчас же тысяча пехотинцев, восемь эскадронов и артиллеристы с восемью орудиями последовали за ним и встали на страже снаружи дворца. Батальон гренадер расположился во дворе, взяв на себя внутреннюю охрану. Шестьдесят часовых были поставлены попарно на всех лестницах, у каждой двери, включая дверь спальни графа.
Впрочем, Раппу нашлась прекрасная замена: генерал Гарнизон без конца раздавал приказы, как если бы он занимался этим всю свою жизнь. Он командовал, как диктатор, но ему подчинялись, как другу.
– Нужно занять телеграф и монетный двор, поднять мосты; никому нельзя поддерживать сношения с внешним миром, не имея приказа, подписанного комендантом крепости. Объявите, что под страхом смертной казни запрещается заходить в кабачки и трактиры. То же наказание ожидает зачинщиков беспорядков, грабежей и неподчинения приказам. Постоянные биваки будут устроены на главных улицах и площадях не позже, чем через два часа. Это меры против внутренних врагов. Что же касается врагов извне, то необходимо усилить оборонительную линию и посты цитадели. Кроме того, надо усилить охрану потерн Старого Рынка и бульвара Святого Людовика; не понимаю, как генерал Рапп мог пренебречь этими мерами предосторожности: это же чистое безумие!.. Комендант Адони, прикажите сообщить австрийскому генералу Фолькману, что ему нечего опасаться, и передайте в его распоряжение взвод. Приходится быть вежливыми, черт побери! А вы, майор Гарнье, отправляйтесь, прихватив горниста, в штаб-квартиру союзников и сообщите им, что если они будут соблюдать условия перемирия, то гарнизон не пойдет ни на какие враждебные действия; но если они устроят атаку на нас или просто будут совать нос в наши внутренние дела, мы окажем им отнюдь не братский прием… Эй, полковник Ланрюме, что это с вами? У вас совершенно растерянный вид.
– Прошу прощения, господин генерал, просто стрелок Лебертр назвал меня подставным полковником.
– И что из этого?
– Ну и, с вашего позволения, господин генерал, я велел заковать его в кандалы.
– Отлично.
– Да, отлично; но в тот момент, когда я произносил: "В кандалы этого мятежника!", я оказался нос к носу с моим полковником, другим, прежним, настоящим… который спокойно сказал мне: "Гнусный прохвост!" Так вот, его тоже надо заковывать в кандалы?
– Ах, черт! – воскликнул генерал Гарнизон и, поразмыслив, добавил: – Ну что ж! Выход здесь очень простой: все генералы и все сколько-нибудь крупные чины должны сидеть по домам вплоть до нового приказа. Каждый из них будет находиться под охраной солдат из другого воинского подразделения. Быть с ними предельно вежливыми. Если кто-нибудь из командиров взбунтуется, ему мягко растолкуют, что военная дисциплина и субординация – прежде всего и что его долг – показывать пример, подчиняясь приказам. Действовать жестко будем лишь в крайнем случае.
К полудню все полицейские меры были приняты, внутренняя и внешняя безопасность полностью обеспечены, и главнокомандующий Гарнизон уступил место Гарнизону-администратору. Он поручил господам фуражирам запасаться продовольствием, а господам главным сержантам заниматься финансами. Затем он вызвал к себе армейского казначея и главного сборщика налогов. Первый сделал примерную оценку необходимых сумм для выплаты жалованья; второй представил сведения о денежных активах в кассе. После чего Далузи собрал городской совет и исключительно любезно попросил мэра подумать о том, как раздобыть необходимые средства, чтобы расплатиться с долгами.
Пока городские советники вели спор в городской ратуше, горожане тряслись от страха на улицах, что несколько ускорило дело. Следует заметить, что армия, осуществив различные передвижения, марши и контрмарши, пребывала теперь в неподвижности и словно впала в оцепенение на своих биваках и постах. На это в самом деле было тяжело смотреть, если только вы имели жену или были отцом семейства. Войска стояли при полном вооружении, мрачные, бездеятельные и внушительные, не издавая ни звука и не трогаясь с места, пребывая в том зловещем и торжественном спокойствии, какое предвещает грозу. Солдаты словно обратились в статуи. Напрасно лавочники, сама любезность, улыбались, приветствуя их, всячески привлекая к себе внимание и пытаясь сделать первый шаг к сближению, напрасно по-отечески задавали вопросы – грубое "Прочь!" заставляло их отскочить на десять шагов.
Стало быть, нужно было любой ценой идти на уступки, и славные горожане, у которых в мыслях теперь были лишь грабежи, резня и поджоги, согласились, в конце концов, ссудить требуемые суммы.
Генерал Гарнизон действовал более умело и убедительно, чем генерал Рапп.
Когда это согласие было получено, Рапп послал начальника своего главного штаба к городским властям, чтобы определить порядок получения займа. Этого офицера сопровождали в ратушу капрал и шесть солдат; закончив там все расчеты, он под той же охраной вернулся во дворец.
Ночью страхи добропорядочных страсбуржцев несколько улеглись; патруль обходил все улицы, и власти города получили приказ зажечь фонари, чтобы легче было осуществлять бдительный надзор. В то же время, когда жители города успокоились, солдаты, в свою очередь, смягчились, поскольку генерал-сержант велел зачитать на всех постах следующее обращение:
"Все идет хорошо. Горожане предоставляют деньги. Скоро начнутся выплаты.
Подпись: Гарнизона.
На следующий день, 2 сентября, австрийцы попытались вмешаться в эти драматические события и внести в них некоторое оживление. Все началось с того, что на Плаццармную площадь галопом примчался конный егерь. Он сообщил Далузи, что только что были захвачены три груженных золотом фургона, принадлежащих генералу Раппу, который собирался вывезти их и передать под охрану австрийцев. "Эти три фургона, – добавил он, – отправлены к Крытому мосту, и вот расписка в их получении, которую я вам доставил. Отомстим же! Генерал Рапп продал нас неприятелю; это предатель. А предателей надо расстрел и вать".
– Это верно, – ответил Далузи. – Нужны шесть солдат и один капрал.
– Я, – сказал генерал Симон, выходя вперед.
– Да что вы делаете, генерал? Вы что, с ума сошли, если забыли о своем чине? Пошлите шесть солдат и капрала, и пусть этого учтивого лазутчика немедленно расстреляют.
Два часа спустя люди в военной форме с капральскими и сержантскими нашивками один за другим явились во дворец и, обманув бдительность наружной и внутренней охраны, хотели силой ворваться в спальню генерала. Но их оттеснили, взяли в плен и препроводили в тюрьму.








