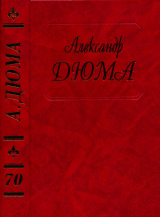
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Дорогие родители, братья и сестры!
В середине сентября прошлого года я получил через посредство особой следственной комиссии великого герцога, человечность которого вы уже имели возможность оценить, ваши милые письма, датированные концом августа и началом сентября, и они произвели на меня волшебное действие, преисполнив радостью и словно перенеся в узкий круг нашей семьи.
Вы, любящий мой отец, пишете мне в день своего шестидесятисемилетия и, проявляя самую нежную любовь, осыпаете меня своими благословениями.
Вы, возлюбленная моя матушка, снисходите до обещания не лишать меня Вашей материнской любви, в которую я непреложно верил всегда, и потому Вы дважды посылаете мне свои благословения, которые в нынешнем моем состоянии подействуют на меня стократ благотворнее, чем любая из всех милостей, какие могли бы мне даровать все земные цари; да, Вы щедро питаете меня своей благословенной любовью, и я благодарю Вас с почтительной покорностью, которой всегда будет преисполнено мое сердце, ибо такая покорность есть первейший сыновний долг.
Но чем сильней Ваша любовь, чем нежней Ваши письма, тем, должен Вам признаться, я сильней страдаю от добровольной жертвы, которую мы принесли, решив более не видеться, и я не задержался бы так с ответом, милые мои родители, если бы мне не потребовалось время, чтобы восстановить утраченные силы.
И вы, дорогой зять и дорогая сестра, тоже заверяете меня в вашей искренней и неизменной привязанности. И тем не менее, после того как мой поступок вызвал у вас такой ужас, вы, кажется, толком не знаете, что вам следует обо мне думать; но сердце мое, полное признательности за вашу былую доброту, успокаивает себя само, ибо ваши действия говорят мне, что, если впредь вы откажете мне в той любви, какую я испытываю к вам, это будет значить, что иначе вы поступить не можете; и эти действия значат для меня куда больше, чем любые возможные уверения и даже самые нежные слова.
И ты, мой добрый брат, ты тоже согласился бы помчаться с нашей возлюбленной матушкой на берега Рейна, сюда, где между нами возникли подлинные душевные узы и где мы были братьями не только по крови. Но скажи, разве ты мыслью и духом на самом деле не здесь сейчас, когда я взираю на этот неисчерпаемый источник утешения, которым стало для меня твое сердечное и нежное письмо?
И ты, милая невестка, какой ты выказала себя с первого дня, доброй и нежной, словно родная сестра, такой же я вновь обрел тебя сегодня: то же трогательное участие, те же сестринские чувства, что и прежде; твои утешения, проистекающие из глубокой и кроткой набожности, проникли, подобно живительной влаге, в самые глубины моего сердца. Но должен сказать тебе, равно как и всем остальным, милая невестка, что ты слишком снисходительна, когда расточаешь мне похвалы и выражаешь свое уважение; твои похвалы столь чрезмерны, что это пробуждает во мне моего внутреннего судью, который тут же вынуждает меня увидеть в зеркале совести отражение всех моих слабостей.
Ты, милая Юлия, жаждешь лишь одного – избавить меня от уготованной мне участи – и заверяешь от своего имени, а также от имени всех остальных членов нашей семьи, что была бы счастлива, как и они, претерпеть эту участь вместо меня. В этом я узнаю тебя всю, равно как и наши добрые и нежные отношения, какие нас связывали с детства. Но будь покойна, милая Юлия, с Божьей помощью, уверяю тебя, мне будет л$гко, гораздо легче, чем я мог предположить, снести то, что меня ждет.
Примите же все мою самую горячую и искреннюю благодарность за ту радость, какую вы доставили моему сердцу.
Теперь, когда из ваших ободряющих писем мне стало ясно, что любовь и доброта моих родных ко мне, как это было с блудным сыном, после моего возвращения стала стократ больше, чем прежде, я хочу со всем возможным тщанием описать вам свое физическое и нравственное состояние и молю Бога подкрепить мои слова своим могуществом, чтобы мое письмо по содержанию не уступало вашим и чтобы оно помогло вам прийти в то состояние спокойствия и безмятежности, какого достиг я.
Вы уже знаете, что в последние годы, одержав верх над собственным сердцем, я стал бесчувственным к земным благам и невзгодам и жил только ради нравственных радостей, и следует сказать, что, несомненно тронутый моими усилиями, Господь, пресвятой источник всего благого, даровал мне способность искать их и во всей полноте наслаждаться ими; Бог всегда подле меня и со мной, и я обретаю в нем, высшем первоначале всего сущего, в нем, нашем святом Отце, не только утешение и силу, но и неизменного друга, который исполнен самой святой любви и будет сопутствовать мне всюду, где у меня будет потребность в его утешении. Разумеется, если бы он отдалился от меня или если бы я отвел от него свой взор, мне пришлось бы чувствовать себя теперь куда более несчастным и ничтожным, но благословением своим он, напротив, делает меня, жалкое и слабое создание, могучим и сильным, способным противостоять всему, что может на меня обрушиться.
Все, что я почитал прежде святым, все доброе, чего я желал, все возвышенное, к чему я стремился, ни в чем не изменилось для меня и ныне, и мне следует благодарить за это Бога, ибо я впал бы теперь в безмерное отчаяние, если бы мне пришлось признать, что сердце мое поклонялось ложным идолам и пребывает в плену скоротечных и несбыточных мечтаний. Так что моя вера в эти представления, моя любовь к ним, ангелам-хранителям моего духа, день ото дня возрастает и будет расти до последнего моего вздоха, и потому мне, надеюсь, будет легко и просто перейти из сего мира в вечность. Я прожил жизнь в экзальтации и смирении, как это подобает христианину, и мне порой ниспосылались свыше видения, благодаря которым я с рождения поклонялся небу, пребывая на земле, и которые дают мне силы возноситься к Господу на пламенных крыльях веры. Я всегда волей усмирял болезнь, какой бы долгой, мучительной и жестокой она ни была, и болезнь давала мне досуг для занятий историей, опытными науками и самым лучшим, что есть в религиозном воспитании, а когда боль, усилившись, прерывала на какое-то время эти занятия, я с неменьшим успехом боролся со скукой, ибо воспоминания о прошлом, мое смирение перед настоящим, моя вера в будущее были настолько сильны во мне и подле меня, что они удерживали меня в моем земном раю. В нынешнем своем положении, на которое я сам себя обрек, я, в соответствии с исповедуемыми мною принципами, никогда не стал бы чего-либо просить касательно собственных удобств, и, тем не менее, ко мне проявляют во всех отношениях столько доброты, столько забот, причем делается все это с такой деликатностью и с такой человечностью, что я не могу, увы, не признаться: любые желания, какие только смеют зародиться в недрах моего сердца, исполняются с избытком и даже преизбытком. Я никогда не был порабощен телесными страданиями до такой степени, чтобы не иметь возможности произнести в душе, возносясь мыслью к небесам: «Да станется с этим жалким рубищем то, что должно статься!», – и как бы ни велики были эти страдания, я никогда не поставил бы их в сравнение с душевными муками, которые мы так глубоко и остро испытываем, осознавая свои слабости и ошибки.
Впрочем, телесные страдания теперь редко заставляют меня лишаться чувств: опухоль и воспаление у меня были не слишком сильными, а лихорадки достаточно умеренными, хотя вот уже десять месяцев я принужден лежать на спине, не имея возможности встать, а из груди, в области сердца, у меня вышло более сорока пинт крови. Нет, рана, хотя она до сих пор открытая, в прекрасном состоянии, и этим я обязан не только заботам, которые окружают меня, но и здоровой крови, унаследованной от Вас, матушка! Так что я не лишен ни земных попечений, ни небесного покровительства, и в день моего рождения у меня есть все основания не проклинать час, когда я явился на свет, но, напротив, после углубленного созерцания мира сего благодарить Господа и вас, мои дорогие родители, за то, что вы даровали мне жизнь.
Этот день, 18 октября, я отметил, исполненный кроткой и пламенной покорности воле Господа. В день Рождества я попытался возродить в себе то настроение, какое присуще детям, преданным Богу, и с Божьей помощью новый год пройдет, как и предыдущий, быть может, в телесных страданиях, но, определенно, в душевной радости; и с этим пожеланием, единственным, которое я высказываю, я обращаюсь к вам, любимые мои родители, и к вам и вашим близким, мои дорогие братья и сестры.
У меня нет надежды встретить свой двадцать пятый день рождения, но пусть исполнится молитва, которую я только что произнес, пусть картина нынешней моей жизни принесет вам некоторое успокоение, и пусть это письмо, исходящее из сокровенных глубин моего сердца, не только докажет вам, что я достоин вашей несказанной любви, но и сохранит вашу любовь ко мне навечно!
Искренне рад появлению на свет маленького племянника и сердечно поздравляю его бабушек и дедушек; я мысленно переношусь на его крестины в наш любимый приход, где отдаю ему свою любовь как брат-христианин и прошу небо ниспослать ему счастье и благополучие.
Думаю, нам придется отказаться от переписки, чтобы не доставлять затруднений следственной комиссии великого герцога; на этом кончаю и заверяю вас, быть может в последний раз, в своей глубокой сыновней почтительности и братской любви.
Сердечно преданный вам
Карл Людвиг Занд".
В самом деле, помимо особого попечения, которое Занд получал со стороны г-на Г… следственная комиссия великого герцога Веймарского, приняв во внимание то состояние, в каком находился заключенный, а возможно и причину, вызвавшую такое состояние, в качестве послабления позволила его матери и другим членам семьи, которых он должен был указать, посещать его в тюрьме. Когда Занду сообщили эту добрую новость, первым его чувством была огромная радость, но вскоре, с присущими ему спокойствием и твердостью поразмыслив о нежелательных последствиях таких посещений, он написал родным следующее письмо:
"Мои дорогие родственники!
Следственная комиссия великого герцога вчера известила меня, что, вполне возможно, мне будет дарована безмерная радость: вам разрешат посетить меня, и я смогу здесь увидеть и обнять Вас, матушка, а также кого-либо из моих братьев и сестер.
И хотя я ничуть не удивился этому новому доказательству Вашей материнской любви, надежда на свидание снова пробудила во мне пылкие воспоминания о счастливой и тихой жизни, какую мы вели, когда были вместе. Радость и печаль, желание увидеть вас и стремление принести в жертву это счастье жестоко раздирали мое сердце, и мне понадобилось силой разума взвесить все эти противоречивые чувства, чтобы взять себя в руки и принять решение в столь серьезных обстоятельствах.
Та чаша весов, на которой лежала жертва, перетянула.
Вы знаете, матушка, что один-единственный Ваш взгляд, каждодневные свидания, Ваши благочестивые и возвышенные речи могли бы придать мне счастья и мужества на весь этот краткий срок; но Вы также знаете мое положение, и Вам слишком хорошо известно, как обычно проходят все эти изнурительные допросы, чтобы понимать не хуже меня, что подобные повторяющиеся из раза в раз муки весьма уменьшат радость нашей встречи, если не уничтожат ее окончательно. И потом подумайте, матушка, что после долгой и тяжелой дороги, которую Вам придется проделать, чтобы повидаться со мной, наступит пора прощания перед вечной разлукой на этом свете, и с какими жестокими муками будет она сопряжена. Так что пожертвуем этим свиданием, ибо такова, по моему мнению, Божья воля, и останемся в нежной мысленной связи, которой не смогут воспрепятствовать никакие расстояния; я черпаю в ней единственную мою радость, и, вопреки людям, она будет навечно дарована нам Господом, нашим небесным Отцом.
Будьте счастливы.
Ваш бесконечно почтительный сын
Карл Людвиг Занд".
На это письмо, которое за вычетом религиозных настроений, казалось, могло было быть продиктовано Брутом, пришел ответ, который, казалось, мог быть написан Корнелией.
"Дорогой, невыразимо дорогой Карл!
Как приятно мне было увидеть после такого долгого времени строки, написанные дорогой рукой! Никакое путешествие не показалось бы мне слишком трудным, никакая дорога, пусть даже самая долгая, не помешала бы мне поехать свидеться с тобой, и я с глубокой и бесконечной любовью отправилась бы с одного края света на другой с одной лишь надеждой повидать тебя.
Но поскольку я хорошо знаю и твою нежную любовь, и твою безмерную заботу обо мне и поскольку ты с величайшей твердостью и мужской рассудительностью привел доводы, против которых мне нечего возразить и которые я могу лишь уважать, пусть будет, любимый мой Карл, так, как хочешь ты и как ты решил. Не имея возможности разговаривать друг с другом, мы продолжим наше мысленное общение, но будь спокоен: ничто не может нас разлучить, ты навеки в моей душе, и мои материнские думы оберегают тебя.
Так пусть же эта безграничная любовь, которая служит нам поддержкой, укрепит нас и приведет к иной, лучшей жизни, а тебе, дорогой мой Карл, поможет сохранить мужество и твердость духа.
Прощай и будь неизменно уверен, что я никогда не перестану глубоко и сильно любить тебя.
Твоя верная мать, которая вечно будет любить тебя".
И вот, в самом деле, настал роковой момент, который предвидел Занд. Однако случилось это не из-за того, что великий герцог не имел особого желания спасти Занда, на которого в то время были обращены не только взгляды, но и сочувствие всей Германии. К несчастью, в этом деле была замешана Россия, которая должна была отомстить за своего агента и которая считала, что выздоравливание Занда затянулось, задерживая наказание, поэтому она оказывала давление на следственную комиссию, торопя ее покончить с убийцей, в каком бы состоянии он ни находился.
Между тем, у жителей Мангейма и даже у членов следственной комиссии оставалась последняя надежда: она состояла в том, что Занд, тринадцать месяцев не встававший с постели, слишком ослаб и не сможет стоять на ногах, а так как нельзя было казнить его в постели, то появлялся шанс получить новую отсрочку, причем почти законным порядком. Было решено поэтому, что Занда посетит врач из Гейдельберга, и, на основании его заключения, в зависимости от того, сможет ли Занд подняться или будет не в состоянии встать с кровати, расследование будет ускорено или приостановлено.
И вот как-то утром в камере заключенного появился незнакомец, который представился профессором медицинской школы Гейдельберга, из чистого интереса пришедшим узнать, как себя чувствует больной.
Занд мгновение разглядывал его, словно пытаясь прочесть, что происходит у него в душе, а потом, увидев, что, несмотря на все свое самообладание, врач все-таки покраснел, произнес:
– Ах да, понимаю. В Санкт-Петербурге хотят узнать, достаточно ли я окреп для того, чтобы меня можно было казнить. Ну что ж, сударь, давайте вместе проведем опыт. Прошу прощения, – добавил он, – на тот случай, если мне станет дурно, но, поскольку я не встаю уже тринадцать месяцев, вполне вероятно, что, несмотря на все мои старания, такое может произойти.
С этими словами Занд встал без всякой поддержки, а затем, собрав все свое необыкновенное мужество, дважды обошел комнату, после чего почти без чувств рухнул на кровать. Врач дал ему вдохнуть нюхательную соль.
– Видите, сударь, – сказал Занд, приходя в себя, – я крепче, чем мне самому казалось. Передайте, пожалуйста, судьям эту хорошую новость. Я уже и так слишком долго отнимаю их драгоценное время; пусть они выносят свой приговор: ничто не помешает его исполнению.
К сожалению, врач мог сообщить лишь то, что он увидел. Он подал комиссии свое заключение, и 5 мая 1820 года верховный суд приговорил Карла Людвига Занда к смертной казни через отсечение головы.
17-го приговор был объявлен Занду. Он выслушал его стоя, прислонившись к спинке стула, несмотря на то, что читавшие его советники суда, увидев, как Занд бледен, неоднократно предлагали ему присесть; однако Занд поблагодарил их с присущими ему спокойствием и мягкостью. Когда же чтение приговора было завершено, он повернулся к г-ну Г… стоявшему поблизости, чтобы поддержать его в случае, если ему изменят силы, и сказал:
– Надеюсь, родителям будет легче от мысли, что я умер этой насильственной и мгновенной смертью, чем от какой-нибудь постыдной и долгой болезни. Я же так настрадался за эти четырнадцать месяцев, что воспринимаю этих господ как ангелов-избавителей.
Советники вышли; Занд простился с ними с тем же спокойствием и с той же безмятежностью, с какими он приветствовал их появление, а потом тотчас же лег обратно в постель, поскольку не мог долго ни стоять, ни сидеть; затем он попросил у г-на Г., бумагу, перо и чернила и написал своим близким такое письмо:
"Мангейм, 17 дня месяца весны 1820 года.
Дорогие родители, братья и сестры!
Вы, должно быть, получили через посредство комиссии великого герцога мои последние письма; я в них ответил на ваши письма и постарался вас успокоить относительно моего теперешнего положения, обрисовав свое душевное состояние: пренебрежение, какого я достиг, ко всему преходящему и земному, ибо его нужно воспринимать как необходимость, когда оно ложится на весы вместе с осуществлением задуманного, и ту умственную свободу, какая одна способна питать нашу душу. Одним словом, я попытался вас утешить, заверив, что чувства, принципы и убеждения, которые мною были некогда высказаны, сохранились во мне и остались в точности прежними; однако, уверен, это излишняя предосторожность с моей стороны, ибо, если вы и требовали от меня чего-либо, то лишь одного – иметь образ Господа перед глазами и хранить его в сердце, и вы видели, что заповедь эта под вашим водительством глубоко проникла ко мне в душу, став и в этом и в ином мире моей единственной блаженной целью. Нет сомнений, что Бог, который во мне и подле меня, также будет в вас и подле вас в тот момент, когда это письмо принесет вам весть, что мне огласили приговор. Я умираю без сожалений, и Господь, надеюсь, даст мне силы умереть так, как должно.
Я пишу вам, пребывая в полном спокойствии и умиротворении, и надеюсь, что ваша жизнь будет протекать в умиротворении и спокойствии вплоть до той поры, когда наши души соединятся, исполненные новой силы, дабы любить друг друга и вместе вкушать вечное блаженство.
Что же касается меня, то я как жил, с тех пор как помню себя, то есть в безмятежности, полной возвышенных желаний, и в отважной, неодолимой любви к свободе, так и умираю.
Да пребудет Господь с вами и со мной.
Ваш сын, брат и друг
Карл Людвиг Занд".
Затем, как только письмо было закончено, Занд попросил г-на Г… зайти к нему и, когда тот пришел, сказал, что он был бы рад, если бы накануне казни ему удалось побеседовать с палачом. Это желание показалось г-ну Г… столь странным, что он затруднился с ответом, но Занд продолжал так мягко, но вместе с тем так решительно настаивать, что г-н Г., пообещал ему, что, как только этот человек приедет в Мангейм, просьба Занда будет удовлетворена.
КАЗНЬ
Казнь должна была состояться 20 мая, то есть через три дня после оглашения приговора. В Германии закон предоставляет осужденному три полных дня, чтобы дать ему время подготовиться к смерти. Поэтому жизни Занда предстояло оборваться 20-го, в два часа пополудни.
День 18-го прошел в визитах различных посетителей, которые пожелали увидеть приговоренного и которых он согласился принять. Одним из них был арестовавший его майор Хольцунген. И хотя видел его Занд лишь минуту, причем сквозь застилавшую ему глаза кровавую пелену, он его узнал; более того, в тот критический момент, когда Занд наносил себе второй удар кинжалом, как мы об этом рассказывали, он так хорошо отдавал себе отчет в происходящем, что теперь в мельчайших подробностях напомнил майору, как тот был одет, когда арестовывал его. Удивленный таким хладнокровием и спокойствием молодого человека, которому суждено было умереть намного раньше срока, уготованного ему природой, майор выразил Занду свое сожаление. Но Занд с улыбкой ответил ему:
– Это не меня надо жалеть, господин майор, а вас: я умру за свои собственные убеждения, а вы, вероятно* умрете за убеждения, которые будут вам чужды.
Майор Хольцунген призвал его и дальше держаться с той же твердостью.
– Господин майор, – промолвил Занд, – еврейские мученики умирали столь же мужественно, как и римские солдаты.
Когда наступил вечер, Занд попросил, чтобы его оставили одного, и писал почти до одиннадцати часов, но потом сжег написанное, так что оно бесследно исчезло. В одиннадцать вечера он лег и спал до шести утра; хирург, пришедший, как обычно, чтобы сделать ему перевязку, разбудил его, войдя к нему в камеру.
Примерно через два часа после окончания процедур, когда Занд лежал в постели, а г-н Г., беседовал с ним, сидя у него в ногах, открылась дверь, и один из тюремных служащих знаком показал г-ну Г… что он хочет ему что-то сказать. Господин Г., тотчас же подошел к двери, шепотом обменялся с ним несколькими словами, а затем повернулся к Занду.
– Карл, – сказал он, безуспешно пытаясь побороть волнение, – это господин Видеман из Гейдельберга, с которым вы хотели поговорить.
– Прошу вас, впустите его, – произнес Занд и, с усилием приподнявшись в кровати, сел и протянул руку г-ну Ви-деману. – Входите, сударь, и присаживайтесь здесь; мне надо сказать вам нечто важное.
А затем, видя, что г-н Г., собирается удалиться, он добавил:
– О, оставайтесь, мой милый начальник, вы не будете лишним.
– Значит, вы знаете, кто я такой, – запинаясь, промолвил г-н Видеман.
– Ну, разумеется, сударь, именно поэтому я и хотел с вами поговорить.
– К вашим услугам, сударь.
– На вашем счету уже есть несколько казней, господин Видеман? – продолжал Занд.
– Три, – ответил палач.
– И все три прошли успешно?
– Что вы имеете в виду, сударь?
– Я имею в виду: голова отлетела после первого или после второго удара?
– Две с первого, а одна со второго.
– Видите ли, господин Видеман, со мной будет не так просто, потому что вследствие ранения одна сторона тела у меня почти что парализована, и я не смогу поднять голову так высоко, как это требуется. Но это не имеет значения, сударь, сохраняйте твердость и, если вам придется нанести два удара, чтобы отделить голову от туловища, или даже три или четыре, как это понадобилось, говорят, в случае с герцогом Монмутом, не беспокойтесь. Впрочем, если угодно, мы можем заранее прорепетировать, чтобы, насколько это будет в моих силах, я сумел бы помочь вам в ответственную минуту, ибо мне никогда не доводилось видеть казнь и я не знаю, как к этому подступиться; вот поэтому мне и хотелось с вами поговорить.
Палач был потрясен таким необъяснимым хладнокровием и все еще не мог понять, говорит ли Занд серьезно, как вдруг тот с трудом переместился к изножью кровати, затем, опершись на плечо г-на Г… добрался до стула и, сев на него, попросил г-на Видемана показать ему, что он должен будет проделать завтра.
И тогда началась репетиция ужасной драмы, разыгрываемой на эшафоте, репетиция, во время которой силы изменили не обреченному на казнь, а палачу, ибо, когда он оказался в непривычной для него обстановке, условность показалась ему страшнее реальности; и все же ему удалось объяснить, как происходит казнь: он показал Зайду, как тот будет сидеть на табурете, как подручный палача подобием веревочной сети поднимет ему голову и как он сам, воспользовавшись моментом, когда шея будет вытянута, отсечет голову мечом. Занд с тем же хладнокровием внимательно выслушал одно за другим все объяснения, а затем, когда г-н Видеман дал их все, от первого до последнего, поблагодарил его и вернулся на кровать: палач в эту минуту выглядел более бледным и более взволнованным, чем его будущая жертва. Что же касается г-на Г… то ему казалось, что он видит дурной сон, и, как он рассказывал мне, более страшного получаса в его жизни не было, даже на следующий день.
Когда г-н Видеман собрался уходить, Занд еще раз принялся благодарить его и снова пожелал ему, чтобы на следующий день у него не дрогнула рука.
– Главное, – добавил он, – постарайтесь, чтобы не было так, как сегодня… Я ведь чувствовал, что вы дрожите.
Через несколько минут вошли трое знакомых Занду священников: один из них был пастор Д…, тот самый, от которого у меня было письмо. Господин Г., ушел, воспользовавшись их присутствием; он был без сил и чувствовал себя совершенно разбитым, словно, по его словам, упал с третьего этажа.
Священники провели с Зандом около шести часов, и все это время они беседовали о религии. Занд прекрасно разбирался в теологии и всякий раз, говоря о Боге, делал это с глубокой убежденностью и страстной верой. Прежде чем уйти, пастор Д… сообщил ему, что накануне в город прибыло большое количество студентов, а еще больше прибудет их с минуты на минуту, поэтому все опасаются, как бы завтра не произошли столкновения студентов с войсками.
Занд с самой неподдельной искренностью заявил, что он будет чрезвычайно расстроен, если из-за него прольется кровь, и тогда пастор Д…, воспользовавшись этим настроением осужденного, от имени властей попросил его не произносить речей на эшафоте.
– О, не беспокойтесь, – с улыбкой сказал Занд, – даже если я бы и захотел это сделать, у меня просто недостанет сил; впрочем, если это может вас успокоить, даю слово, что буду молчать.
И в самом деле, как сказал пастор Д…, в Мангейм прибыло столько студентов, что в городских гостиницах не хватило мест и приехавшим пришлось ночевать в окрестных деревнях. Власти, со своей стороны, тоже не бездействовали и вызвали из Карлсруэ генерала Нойштейна с отрядом из тысячи пятисот или тысячи восьмисот солдат, как кавалеристов, так и пехотинцев; кроме того, по приказу генерала его сопровождала рота артиллеристов с четырьмя орудиями.
Тем не менее, несмотря на все принятые меры предосторожности, студенты прибывали в таких огромных количествах, что власти решили перенести казнь на более раннее время; но, как мы уже говорили, немецкий закон категоричен: между оглашением приговора и его исполнением должно пройти ровно три дня, и потому, чтобы внести подобное изменение, требовалось согласие Занда. Хорошо зная его характер, решили обратиться к нему.
Вечером 19-го Занд лег спать, как обычно, в одиннадцать часов. Когда в четыре утра зашли в его камеру, он так крепко спал, что пришлось окликнуть его по имени, чтобы он проснулся. Занд, улыбаясь, открыл глаза и узнал г-на Г..
– А, это вы, мой дорогой начальник, – сказал Занд, – добро пожаловать! Неужели я проспал и уже пора вставать?
– Нет, – ответил г-н Г… – сейчас только четыре утра.
– Почему же вы разбудили меня так рано? – с упреком в голосе спросил Занд. – Или вы боялись, что я не успею собраться?
– Вовсе нет, сударь, – сказал секретарь суда, – но от вас ждут, что во имя общественного спокойствия вы совершите великий акт самопожертвования.
– Говорите, – сказал Занд, – и я сделаю все, что в моих силах.
– Власти опасаются столкновений между студентами и солдатами; а поскольку приготовления военного характера были сделаны заранее, то эти столкновения могут повлечь за собой огромные беды, в то же самое время не предоставив вам возможность спастись.
– А кто вам сказал, что я хочу спастись? – спросил Занд. – Я совершил убийство: любое преступление требует искупления. Неужели я произвожу впечатление человека, который стремится избежать смерти? Нет, сударь! Когда по приезде в Мангейм я поднялся на холм, высящийся над городом, я заранее увидел то место, где будет моя могила. Никоим образом не собираясь ускользнуть от ока Божьего и от людского суда, я могу лишь высказать благодарность Богу и людям за то, что мое существование продлилось до сегодняшнего дня.
– Такое ваше настроение дает мне надежду, что вы исполните просьбу, которую мне поручено передать вам, – продолжал секретарь суда.
– Что это за просьба?
– Дать согласие на то, чтобы ваша казнь состоялась не днем, а утром.
Занд жестом показал г-ну Г…, чтобы в камеру принесли бумагу, перо и чернила, и твердой рукой, своим обычным почерком, написал следующие пять строк:
"Я благодарю власти Мангейма за то, что они пошли навстречу моим желаниям и на восемь часов ускорили мою казнь.
Sit nomen Domini benedictum.[41]
Карл Людвиг Занд".
– Возьмите, сударь, – сказал он, отдавая бумагу секретарю, – вот то, что вы хотели; однако я попрошу, чтобы мне дали время принять ванну. Знаете ли, это обычай древних перед битвой.
В эту минуту к нему подошел врач, чтобы перевязать ему рану.
– А стоит ли? – спросил Занд.
– Вы будете чувствовать себя крепче, – ответил врач.
– В таком случае, действуйте.
Ему тотчас же принесли ванну. Он лег в нее и в течение двадцати минут, пока находился там, продолжал говорить на общие темы, одновременно расчесывая свои великолепные длинные волосы. Затем, закончив туалет, он натянул на себя белые панталоны, заправил их в ботинки, надел черный сюртук, который, наподобие студенческих сюртуков, оставлял шею открытой, и сел на кровать, где какое-то время тихо молился; затем он попрощался со священниками, сказав им, что, не ставя себе ничего в вину и будучи сам почти что духовным лицом, он один взойдет на эшафот, так как не хочет тяготить их милосердные души зрелищем его смерти. Он попрощался также с врачом, поблагодарив его за все заботы, какие тот ему оказывал в течение одиннадцати месяцев, приходя каждое утро в тюрьму перевязывать его рану. После этого священники и врач удалились, оставив Занда в одиночестве.
В эту минуту шум, доносившийся с улицы с самого рассвета и возраставший с каждой минутой, еще больше усилился, и Занд понял, что там произошло нечто неожиданное. И в самом деле, через мгновение в камеру вошел г-н Видеман; это при виде его крики на улице усилились.
Господин Видеман был одет в длинный черный сюртук, под которым он прятал свой меч. Увидев палача, Занд, как и накануне и с такой же улыбкой, как и накануне, протянул ему руку, а поскольку г-н Видеман, чувствовавший себя неловко из-за своего меча, который он не хотел выставлять на обозрение, заколебался, Занд сказал ему:
– Идите же сюда, покажите мне ваш меч: всегда нужно знакомиться с теми, с кем предстоит иметь дело.
И тогда г-н Видеман, весь бледный и дрожа с головы до ног, подошел к Занду и показал ему свой меч.
Занд взял его, вытащил из ножен, провел пальцем по лезвию и сказал:
– Прекрасно, такой клинок вас не подведет; пусть только рука не дрогнет, и все будет хорошо.








