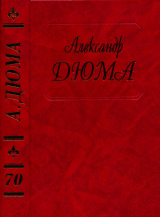
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 45 страниц)
– Вот туда ты должен идти, – произнес карлик, указывая на лестницу, ведущую в покои замка, – а я пойду сюда, – продолжил он, указывая на конюшню.
– А почему ты не идешь со мной? – спросил Карл.
– Потому что я тоже должен сделать свое дело, – ответил карлик.
И он побежал, встав на четвереньки, как собака, на тот случай, чтобы, если его заметят, в нем не признали бы человека, пересек двор и проник в конюшню.
Самоуверенность карлика задела самолюбие Карла Великого; он как можно тише поднялся по лестнице, вошел в покои замка и, благодаря свету луны, как раз в этот миг появившейся на небе, добрался до комнаты, за которой находилась спальня Ардериха и его супруги. Оказавшись там, он протянул руку, чтобы понять, нельзя ли тут чем-нибудь поживиться, и нащупал окованный ларец, в котором, подумалось ему, могли храниться деньги или драгоценности. В эту минуту конь хозяина замка заржал так громко, что Карл вздрогнул.
– Эй! – воскликнул Ардерих, мгновенно проснувшись. – Что там творится у меня в конюшне?
– Да ничего, – послышался голос его жены, – это конь заржал.
– Мой конь не имеет привычки ржать ни с того, ни с сего, – возразил Ардерих, – должно быть, кто-то чужой пытается отвязать его.
– Да кому это понадобилось отвязывать твоего коня?
– Кому-кому! Конечно же, вору!
При этих словах Карл услышал, как Ардерих встает с постели и берет в руки меч. Он тотчас отступил в глубь комнаты и при свете луны увидел, как Ардерих прошел мимо него. Карл стоял в своем углу, проклиная карлика, и на всякий случай держа руку на гарде кинжала.
Через минуту хозяин вернулся.
– Ну, – спросила жена, – что там произошло в конюшне?
– Да ничего, – ответил Ардерих, – но вот уже три или четыре ночи подряд мне не спится.
– А не спится тебе потому, наверное, что ты что-то замышляешь?
– Это так, – ответил владелец замка.
– И что же ты замышляешь?
– Теперь я могу тебе это сказать, – ответил Ардерих, – потому что уже почти настал тот день, когда наш план должен осуществиться. Завтра я и одиннадцать других графов, баронов и сеньоров собираемся убить короля Карла, потому что он не дает нам быть у себя полновластными хозяевами, а мы устали сносить это и не желаем больше терпеть.
– Ну-ну! – тихо произнес Карл Великий.
– Боже мой! – в отчаянии воскликнула хозяйка замка. – Но если ваш заговор провалится, вы все пропали.
– Этого не может быть, – ответил ей муж, – мы связаны между собой самой страшной из клятв; завтра, приглашенные вместе с остальными на сейм, мы войдем во дворец, не вызывая ни у кого подозрений; мы будем хорошо вооружены, а он будет безоружен; мы окружим его трон, нанесем ему удары, и он падет мертвым.
– А кто еще участвует в заговоре?
– Вот этого я не могу сказать даже тебе; но наша клятва, подписанная кровью, находится здесь, в соседней комнате: она спрятана в шкатулке, стоящей на столе.
Карл протянул руку: шкатулка стояла именно там, где указал Ардерих.
– Ах! – воскликнула хозяйка замка. – Дай-то Бог, чтобы все это хорошо кончилось!
– Аминь, – произнес владелец замка.
И он опять уснул; еще какое-то время раздавались вздохи его жены, но скоро ее тихое и ровное дыхание присоединилось к храпу мужа: оба они были охвачены крепким сном.
Тогда Карл взял шкатулку, положил ее под мышку, прошел через все залы, спустился по лестнице и вышел во двор. Там он увидел карлика, который барахтался на спине боевого коня владельца замка; конь ржал и бил копытами о землю, словно считая недостойным для себя подчиняться столь жалкому наезднику. Но славный император вспрыгнул на коня, и, как только тот ощутил на себе тяжесть мужчины и понял, с каким опытным наездником ему приходится иметь дело, он сразу же сделался кротким, как овечка. Тогда Карл схватил карлика за ворот, посадил позади себя и поскакал галопом.
Прибыв в свой замок, Карл Великий открыл украденную им шкатулку и нашел там клятву двенадцати заговорщиков, подписанную их кровью. Тотчас же он разбудил стражу и приказал, чтобы на одном из дворов поставили одиннадцать виселиц обычного размера, а двенадцатую выше, чем остальные, и велел наверху каждой виселицы прибить табличку с именем одного из двенадцати заговорщиков, причем на самой высокой – имя главного заговорщика, Ардериха.
Затем, поскольку в замок вели два входа, он приказал впускать всех приглашенных баронов через одну дверь и вести их через примыкавший к ней двор, а заговорщиков впускать через другую дверь и отводить во двор, где были установлены виселицы.
Все было исполнено согласно приказу Карла Великого, так что, увидев всех собравшихся баронов, он рассказал им о затевавшемся против него заговоре, показал им клятву, подписанную кровью двенадцати заговорщиков, и спросил их, какую кару те заслуживают; и все бароны единодушно ответили, что заговорщики заслуживают смерти.
Тогда Карл Великий велел открыть окна, выходящие на второй двор, и бароны увидели двенадцать заговорщиков, повешенных на двенадцати виселицах.
И в память о небесном видении, которому он был обязан жизнью, Карл Великий назвал дворец, где ему явился ангел, Ингельгейм, или Дом ангела.
Стоит подняться выше Ингельгейма, как горы исчезают, долина расширяется почти насколько хватает глаз, а Рейн разливается, как огромное озеро. За спиной у вас остается самая живописная его часть, слева вы видите замок Бибрих, а перед собой, на самом горизонте, город Майнц, словно преграждающий течение реки.
Бибрих – это резиденция герцога Нассау. Утром того самого дня, когда мы проплывали мимо замка герцога, его высочество прибыл туда после собрания сейма, длившегося всего час, поскольку монарх открыл и закрыл его в течение одной речи. Вот это краткое приветствие, с которым он обратился к палатам сейма:
"Господа! Нас в герцогстве Нассау примерно триста пятьдесят тысяч душ.
Со времен римлян и до наших дней мои предшественники и предшественники моих предшественников издали примерно триста пятьдесят тысяч законов, то есть по одному закону на человека, что мне кажется вполне достаточным. Поэтому советую вам придерживаться наших старых законов, а не сочинять новые.
Что же касается моего цивильного листа на этот год, то, поскольку у меня еще осталось около половины той суммы, за которую вы проголосовали в прошлом году, нет смысла заниматься этим вопросом до наступления следующего года.
Засим, господа, молю Господа, чтобы он хранил вас под своей святой защитой".
И с этими словами собрание сейма было закрыто.
Так на деле осуществляется в Германии парламентский образ правления.
Через десять минут, миновав Бибрих, мы пришвартовались к причалу в Майнце.
По прибытии туда мы первым делом посетили Плацпа-радную площадь, где недавно поставили памятник Гутенбергу, отлитый в Париже по модели Торвальдсена. Мне очень жаль изобретателя книгопечатания: он явно заслуживал большего и немного выиграл, сменив песчаник на бронзу.
Впрочем, мне следует поставить себе в упрек, что я тоже содействовал появлению на свет этого посредственного творения. Когда все меры поощрения, какие обычно оказывают на подписчиков, были исчерпаны, возможно, еще и потому, что итог подписки был неосмотрительно предан гласности, оставался еще недостаток в 8 000 франков; и тогда кому-то пришла в голову мысль дать представление, сбор от которого пойдет на покрытие этой суммы, и выбор пал на французскую пьесу, незадолго до этого переведенную на немецкий язык. Пьеса эта называлась "Кин".
Сбор превысил на две тысячи франков дефицит, который он должен был восполнить, что, само собой разумеется, следовало приписать патриотизму жителей Майнца.
Я трижды обошел статую, чтобы укрепиться в своем мнении, и вернулся в гостиницу, полностью в нем утвердившись.
Два часа спустя мы ехали по направлению к Франкфурту.
ФРАНКФУРТ
Неоценимое преимущество немецких дорог состоит в том, что, когда едешь по ним, спится лучше, чем на постоялых дворах. Поэтому, выехав из Майнца, я воспользовался превосходным состоянием здешних дорог, чтобы вознаградить себя за ужасное устройство здешних кроватей. Ведь начиная с Бонна я не сомкнул глаз.
Не помню, в котором часу мы приехали во Франкфурт. Я проснулся внезапно, разбуженный австрийцем, который теребил меня за плечо, требуя предъявить документы. С тех пор, как с одним из них приключилась неприятная история, австрийцы неумолимы в том, что касается паспортов.
Вольный город Франкфурт, который в своем качестве вольного города состоит под охраной одного прусского и одного австрийского полков, через посредство двух своих бургомистров изъявил желание, чтобы был арестован знаменитый вор, который во время осенней ярмарки демонстрировал свое мастерство в ущерб как местным жителям, так и приезжим. И поскольку ярмарка подходила к концу, а вор, несмотря на все усилия полиции так и не был пойман, часовые получили приказ усилить надзор и заставлять всех, кто покидает город, проходить через караульное помещение, чтобы можно было внимательнейшим образом удостовериться в том, что их паспорта в порядке, а описание, приведенное в паспорте, совпадает с внешностью, ростом и особыми приметами владельца; приняв эти меры и отдав распоряжения начальникам обоих полков, городские власти, удовлетворенные собственной прозорливостью, спокойно улеглись спать.
Но с вором дело обстояло иначе: бедняга был чрезвычайно обеспокоен, поскольку природа наградила его весьма примечательной внешностью, сделав таким образом затруднительным пользование паспортом, выписанным для кого-нибудь другого, а не для него самого. Тем не менее он пересмотрел все свои документы; однако среди пяти или шести имевшихся в его распоряжении паспортов не нашлось ни одного, который удовлетворил бы его настолько, чтобы он рискнул пройти с ним проверку в караульном помещении. И тогда вор решил идти без паспорта, как простой горожанин, вышедший на прогулку.
В итоге он явился к воротам Аффентор, которые охранялись австрийским караулом, и попытался пройти через них вразвалку, поигрывая тросточкой. Но часовой, получивший приказ, крикнул во все горло: "Стой, кто идет?"
– Горожанин! – ответил вор.
– Команда "Вперед!", – приказал часовой.
От подобного приглашения, сопровождавшегося чисто военным жестом, который не оставлял ни малейшего сомнения относительно намерений часового, отказаться было невозможно.
– Я тут, – сказал вор, приблизившись.
– Ваш паспорт! – потребовал часовой.
– Мой паспорт? – ответил вор, делая вид, что он как нельзя более удивлен этим вопросом. – У меня его нет.
– Ну что ж, – сказал часовой, возвращая ружье в исходное положение, – вам очень повезло, что у вас его нет. Вот если бы он у вас был, я должен был бы провести вас в караульное помещение, где стали бы проверять, совпадает ли описание примет с вашим лицом, и на это ушло бы добрых полчаса; но раз у вас нет паспорта, это меняет дело. Проходите.
Вор поспешил воспользоваться столь любезно данным ему разрешением.
Что же касается нас, то, похоже, наша внешность не вызвала в отношении наших особых примет никакого недоверия, и потому мы отделались получасовым ожиданием, после чего экипаж довез нас до дверей гостиницы "Римский император", где я благополучно завершил ночь, столь удачно начатую в дилижансе.
Наутро, проснувшись, я подошел к окну; из него открывался вид на Цайль, самую красивую улицу Франкфурта. Прямо над моей головой находился помпезного вида император, в намерения которого входило изображать то ли Карла Великого, то ли Людовика Баварского, что ему явно не удавалось; справа и слева от меня стояли самые роскошные дома Франкфурта. По этому первому взгляду у меня сложилось высочайшее мнение о вольных городах.
Я спустился в общий зал; на обеденных столах, как это принято повсюду в Германии, было указано время обслуживания – час дня и четыре часа дня, что дает возможность каждому постояльцу обедать в привычное для него время. За столом, где едят в час дня, сидят одни немцы, и, наоборот, в четыре часа обедают исключительно англичане и французы.
У меня в запасе оставалось два часа, и я осведомился, как пройти к Рёмеру, или к ратуше. В этом здании, как известно, избирали императоров.
Франкфурт, что на старонемецком означает "Франкский брод", своим происхождением обязан императорскому замку, который был построен у того самого места, где Майн можно перейти вброд. Первое упоминание о нем в истории связано с церковным собором, который проходил там в 794 году и на котором было отменено поклонение царям-волхвам. Что касается дворца Карла Великого, то от него не осталось и следа; однако археологи утверждают, что он стоял точно в том месте, где позднее была выстроена церковь святого Леонарда.
После Людовика Доброго и вплоть до прекращения династии Каролингов Франкфурт оставался столицей Восточно-Франкского королевства; три Оттона один за другим возводили вокруг него крепостные стены, а при Людовике Баварском, его непосредственном покровителе, город достиг почти что своих нынешних размеров. К тому же, начиная с 1152 года, именно во Франкфурте избирали римских императоров, пока в 1356 году Карл IV не издал Золотую буллу, ставшую основным законом империи. Эта знаменитая булла, написанная на сорока пяти листах пергамента и начинавшаяся словами "Отпе regnum in se divi-sum desolabitur[40]", еще хранится в архивах ратуши. Свое название она получила от золотой пластины, которая покрывала и до сих пор покрывает сургучную печать, чтобы та оставалась неповрежденной. Два века спустя монархи уже не только избирались во Франкфурте, но и проходили здесь церемонию коронации, что придало городу дополнительный вес.
Так, с переменным успехом, Франкфурт управлялся как муниципально-имперский город вплоть до того самого момента, когда, после бомбардирований его французами во время революционных войн, он в одно прекрасное утро был передан Наполеоном в руки князя-примаса Карла фон Дальберга и превратился в столицу Великого герцогства Франкфуртского; наконец, 9 июня 1815 года актом Венского конгресса Франкфурт был превращен в место заседания сейма Германского союза, и столица Великого герцогства Франкфуртского снова оказалась вольным городом.
Благодаря новой конституции, жители Франкфурта имеют право на четверть голосов в сейме, остальные три четверти принадлежат трем другим вольным городам – Гамбургу, Бремену и Любеку.
В ответ на эту честь Франкфурт обязан предоставлять в распоряжение Германского союза 750 солдат, а в годовщину Лейпцигского сражения стрелять из пушек. Претворение в жизнь этого последнего обязательства сначала встретило некоторые трудности, ибо с 1808 года у вольного города больше не было внешних укреплений, а с 1813 года – пушек. Но, воспользовавшись первым порывом воодушевления, власти объявили сбор средств для покупки городу двух четырехфунтовых пушек. Благодаря этому добровольному проявлению щедрости, вольный город, проявляя чисто бухгалтерскую точность, в установленный день производит огонь и дым, как это было вменено ему в обязанность Священным союзом.
Что же касается укреплений, о них больше нет и речи: франкфуртцам довелось увидеть, как вместо старых стен и илистых рвов поднялся, словно изящный и благоуханный пояс, прекрасный английский сад, по которому можно обойти вокруг всего города, прогуливаясь по песчаным дорожкам под сенью великолепных деревьев. Так что теперь Франкфурт с его белыми, фисташковыми и розовыми домами походит на огромный букет камелий, обрамленный вереском. Посреди этого прелестного лабиринта, куда каждый день к пяти часам приходят толпы горожан со своими семьями, высится гробница бургомистра, которому пришла в голову мысль о такого рода благоустройстве города.
Хотя мне было весьма любопытно посетить эту крепостную аллею, как ее называют, я не хотел уходить из ратуши, не увидев зал Императоров. Мне удалось обнаружить кого-то вроде привратника, который стал подниматься передо мной по лестнице, держа в руках связку ключей, и открыл для меня этот зал, носящий сегодня название зала Сената. Одна из особенностей этого зала, в котором выставлены портреты всех императоров, от Конрада до Леопольда И, состоит в том, что архитектор, создавший этот зал, сделал там как раз столько ниш, сколько в будущем оказалось императоров, так что, когда был избран Франц II, все ниши в зале были уже заняты и их не хватило для нового цезаря. Тут поднялся великий спор, стали выяснять, куда же поместить портрет вновь избранного императора, но в 1806 году старая Германская империя рухнула под грохот пушек Ваграма, и тем самым придворные вышли из весьма затруднительного положения.
Таким образом, архитектор сумел точно предугадать число императоров, которых нужно было там разместить: сам Нострадамус не сумел бы сделать это лучше.
От Конрада до Фердинанда I, то есть от 911 до 1556 года, коронация происходила в Ахене. В 1564 году, с Максимилиана II, началась череда императоров, короновавшихся во Франкфурте.
После церемонии, происходившей в кафедральной церкви святого Варфоломея, которая более известна под простым названием Собора, вновь избранный император в сопровождении курфюрстов шел в городскую ратушу, и поднимался в большой зал, чтобы видеть, как завершатся церемонии, принятые в подобном случае, и участвовать в них.
Трирский, майнцский и кёльнский курфюрсты помещались у первого окна, если смотреть слева направо.
Император в парадном облачении, с императорской мантией на плечах, с короной на голове, со скипетром и державой в руках, помещался у второго окна.
У третьего окна стоял балдахин, под которым находились архиепископ и духовенство.
Четвертое окно предназначалось для послов от Богемии и Пфальца.
Пятое – для саксонского, бранденбургского и брауншвейгского курфюрстов.
В ту минуту, когда в окнах появлялась эта сиятельная ассамблея, вся площадь взрывалась криками и приветствиями.
Эта площадь заслуживает особого описания.
В самой ее середине досками огораживалось пространство, где целиком зажаривали быка.
По одну сторону от этой кухни находился фонтан; над ним высился двуглавый орел, из одного его клюва лилось красное вино, из другого – белое.
С другой стороны, на три фута высоты, возвышалась груда овса.
Когда все окна оказывались занятыми, когда император, архиепископ и курфюрсты занимали места в соответствии со своим положением, раздавался звук трубы, и главный конюший выезжал верхом, пускал свою лошадь до самой подпруги в овес, наполнял им серебряную меру, опять поднимался в зал и подносил эту меру императору.
Это означало, что конюшни наполнены кормом.
Потом второй раз звучала труба, и главный стольник выезжал верхом, наполнял вином два кубка – один красным, другой белым – и подносил их императору.
Это означало, что погреба полны вином.
Затем в третий раз раздавался звук трубы, и главный резальщик выезжал верхом, отрезал кусок от бедра зажаренного быка и подносил его императору.
Это означало, что кухни полны яствами.
Наконец, в четвертый раз раздавался звук трубы – выезжал верхом главный казначей; в руке он держал мешок, в котором были смешаны серебряные и золотые монеты, и бросал эти серебряные и золотые монеты народу.
Это означало, что казна полна.
Шествие главного казначея служило сигналом к началу сражения: его вели между собой люди из народа, расхватывавшие овес, вино и бычатину. Обычно мясникам и погребщикам первым позволялось осаждать и захватывать кухню, причем голова быка считалась самой почетной добычей в драке. Победа считалась за той партией, которой удавалось захватить именно голову; и еще сегодня погребщики показывают в дворцовых погребах, а мясники на своем рынке головы, которые их предки отвоевали в приснопамятные дни коронаций.
Тщательнейшим образом осмотрев погреба и рынок и поприветствовав потомков погребщиков и преемников мясников, я направился к набережной, дошел по ней до Майнлуста и, выйдя через соседние ворота, оказался в прекрасных садах, о которых шла речь выше и которые на самом деле изумительны. Я дошел по ним до ворот Бокен-гейма и вернулся в город. Поскольку мне было известно, что я нахожусь на родине Гёте и дом этого великого поэта должен находиться где-то неподалеку от квартала, куда мне довелось попасть, я подошел к достопочтенному господину, державшему в руке трость с золотым набалдашником и пересекавшему театральную площадь, и как можно вежливее спросил его, не говорит ли он по-французски.
– Говорю ли я по-французски, сударь? – переспросил он. – Банкир обязан говорить на всех языках, а я банкир, хотя и отошедший от дел.
Я поклонился ему со всем уважением, какое мне свойственно испытывать к представителям этого достойного класса общества, и, когда он ответил на мой поклон, спросил:
– В таком случае, сударь, не доставите ли вы мне огромное удовольствие, указав на дом Гёте?
– Дом Гёте? Дом Гёте? – дважды произнес славный господин, приложив руку к подбородку и изо всех сил роясь в памяти. – Дом Гёте? Гм-гм! Сударь, это должно быть, либо какая-то обанкротившаяся, либо еще совсем неизвестная фирма, поскольку я такой не знаю.
– Тогда тысяча извинений, что я вас обеспокоил.
– Не за что, сударь, всегда к вашим услугам.
И мы разошлись, оставшись в восторге друг от друга. Достойный человек дал мне больше, чем я у него просил.
Вернувшись в гостиницу "Римский император", я спросил у коридорного лакея, где находится дом Гёте, и узнал, что это дом, обозначенный буквой F, № 74, на улице Грос-сер-Хиршграбен, что, как я полагаю, означает "улица Большого оленьего рва".
Говорю это вскользь, чтобы избавить путешественников от неудобств, какие доставляют чересчур долгие поиски.
ЕВРЕЙСКАЯ УЛИЦА
Тотчас же после обеда я возобновил свои поиски и, поскольку теперь мне было известно название улицы, на которой находится дом Гёте, справлялся только о ней. И хотя, по подсчетам, Франкфурт может похвалиться тем, что всего в нем имеется 217 улиц, каждый прохожий, к счастью, знал ее, так что скоро я оказался перед буквой F, № 74.
Эта буква и этот номер обозначают дом, если и отличающийся от соседних домов, то лишь тем, что над его дверью красуется семейный герб, герб пророческий, цвета которого, правда, невозможно распознать, ибо тот, кто его вырезал, был плохо знаком с геральдикой, но самая выступающая часть которого – это лента, украшенная тремя лирами.
Именно в этом доме Гёте написал одну из частей "Вер-тера".
Вне сомнения, Гёте – один из величайших гениев, причем принадлежащий не только Германии, но и всему человечеству. Он оставил шедевры в каждой отрасли литературы. Его романы "Вертер" и "Вильгельм Мейстер" – настоящее чудо; "Гец фон Берлихинген" и "Граф Эгмонт" не уступают драмам Шекспира. "Коринфская невеста", "Рыбак" и "Фульский король" стоят в одном ряду с лучшим из того, что создали самые великие поэты древности и нашего времени. "Фауст" не имеет себе равных ни на одном языке, и удивительное дело, несмотря на все это, Гёте жил в уважении и благополучии; он отыскал одновременно и государя, и народ, которые поняли его еще при жизни; он стал свидетелем собственной славы, как если бы его творчество уже прошло испытание веками; поэтому, когда он умер, отягощенный годами и почестями, все, казалось, пребывали в изумлении, что его постигла общая участь, ибо его привыкли считать бессмертным.
Гёте был первым, кто дал новых сестер семейству ангелов, созданных Шекспиром. Клерхен, Миньона и Маргарита – создания столь же целомудренные в своем самопожертвовании, столь же чистые в любви, столь же великие в своем падении, как и Дездемона, Джульетта и Офелия. Вся наша драматургия прошла школу двух этих творцов, создавая образы страстных женщин или робких девушек, но даже не мечтая вывести на сцену нечто похожее на аристократическую возлюбленную Отелло или на бедную любовницу Фауста.
На углу улицы, где стоит этот священный дом, висела афиша вечернего спектакля: играли "Гризельду".
Улица, по которой я пошел, по своему обыкновению, наугад, привела меня прямо к кафедральному собору. Это здание неправильной формы, которое окружено со всех сторон заслоняющими его домами и над которыми высится незавершенная колокольня: строительство его, начатое Ка-ролингами, было закончено, а вернее, прервано в XVI веке. Собор выглядит несколько странно из-за огромного количества украшающих его гербовых щитов, которые делают его похожим скорее на фехтовальный зал, чем на храм. В нем находятся два примечательных надгробия.
Кроме того, там можно увидеть башенные часы, шедевр механики, имеющие, на мой взгляд, большое преимущество перед часами, которые идут неправильно, ибо они просто не ходят.
В соборе ко мне присоединился хозяин гостиницы, который вышел из дома исключительно ради того, чтобы отыскать меня и предоставить себя в мое распоряжение на весь оставшийся день. Я попросил его отвести меня на Еврейскую улицу.
Во Франкфурте, как и повсюду, Еврейская улица – это самый грязный, но одновременно и самый живописный квартал города. Улица, где живут евреи, еще и сегодня такая же, какой она была в XV веке. Еврей – я имею в виду чистокровный еврей, настоящий еврей – никогда не станет сносить дом, пока в нем еще можно жить. Если дом дал трещины, хозяин их заделывает, если дом наклонился набок, он ставит подпорки. Такой еврей испытывает ужас перед любыми нововведениями. Любое изменение пугает его; он любит видеть перед собой предметы, на которые смотрели его предки.
Тем не менее около сорока пяти лет тому назад одно событие сильно потревожило этот еврейский муравейник. В 1796 году Журдан в течение двух дней и двух ночей бомбардировал город; большая часть снарядов попала на Еврейскую улицу, где было сожжено и разрушено более ста домов. Это происшествие повлекло за собой если и не создание новой улицы, то, по крайней мере, расширение прежней.
Эта улица, как и раньше, заканчивалась воротами, которые запирали в определенный час и возле которых ставили часового. Любой задержавшийся еврей должен был платить штраф; но с 1819 года все эти меры притеснения, к счастью, были упразднены; евреи, которые могли иметь прежде лишь один дом на специально отведенной для них улице, получили право селиться где угодно и владеть таким количеством домов, какое им заблагорассудится. Этим улучшением своего положения они обязаны прежде всего своему единоверцу г-ну фон Ротшильду; однако, вопреки тому, что происходит обычно с теми, кто творит добро, г-на фон Ротшильда во Франкфурте обожают.
И все же существовали привычки, которые г-н фон Ротшильд не мог перебороть, несмотря на все его увещевания, и нерасположение, которое он не мог преодолеть, несмотря на все свои настояния: то были привычки его собственной матери и ее нерасположение ко всем новшествам комфорта и роскоши, которые она в высшей степени презирала. Она так и не пожелала переехать из своего небольшого дома в гетто ни в один из дворцов, возведенных ее сыновьями, будь то в Париже, Лондоне, Вене или даже в самом Франкфурте. Она так и не пожелала проехаться в карете, она так и не пожелала изменить свой образ жизни, и ослепительное богатство ее сыновей, повсюду выставленное напоказ, так и не смогло озарить ее своим золотым отблеском.
Впрочем, происхождение этого богатства столь же любопытно, сколь и достойно уважения. Князь Гессен-Кас-сельский, вынужденный в 1795 году покинуть свои владения и не знавший, кому доверить сумму в два миллиона, попросил совета у одного из своих друзей, и тот порекомендовал ему еврея, с которым у него были деловые отношения, как самого честного из известных ему людей. Князь Гессен-Кассельский пригласил еврея к себе и вручил ему названную сумму. Еврей спросил, даются ли эти деньги ему на хранение или для того, чтобы пустить их в рост. Князь, которого торопило время, ответил ему, что он может делать с ними все что угодно, и ограничился тем, что попросил у него расписку. Тогда еврей покачал головой и попросил забрать эти деньги назад, пояснив, что, если князь Гессен-Кассельский будет задержан и в бумагах у него найдут эту расписку, она послужит поводом для преследований того, кто взял эти деньги на хранение.
Без расписки он ручается за их сохранность, но с распиской ни за что не отвечает. Князь минуту колебался: еврей производил впечатление честного человека, но все же сумма была достаточно велика, чтобы предпринять какие-нибудь меры предосторожности. Однако доверие одержало верх над страхами; князь вручил еврею деньги, а затем отправился в изгнание вместе с другими князьями, своими собратьями.
Но вот в 1814 году Парижский договор более или менее вернул князьям то, чем они владели накануне всех этих великих потрясений государств, потрясений, сокрушивших с 1795 по 1814 годы столько престолов; князь Гессен-Кас-сельский вернулся к себе в столицу. В его отсутствие Наполеон превратил ее в столицу королевства, поэтому князь был весьма удовлетворен состоянием, в котором он застал город.
Однажды утром ему доложили, что его хочет видеть какой-то еврей; князь Гессен-Кассельский ответил, что если еврей обращается к нему с просьбой, то ему следует подать ее в письменном виде министрам. Еврей ответил, что дело, о котором он пришел побеседовать с князем, касается лишь самого князя, и потому он может говорить только с ним лично. Тогда его провели к князю.
Князь узнал его: та же одежда, чуть более поношенная; то же лицо, чуть более постаревшее; та же шевелюра, чуть более поредевшая; та же борода, чуть более поседевшая. Еврей поклонился.
– Черт побери! – сказал ему князь. – Это ты! Я и не рассчитывал увидеть тебя снова. Ну, и что ты мне скажешь? Что кто-то нашел и украл мои деньги? Да, мой добрый малый, это несчастье. Но, благодаря Господу и Священному союзу, я не слишком обеднел и могу позволить себе лишиться двух миллионов, на которые, впрочем, и не рассчитывал.
– Это не совсем так, монсеньор, – ответил еврей, кланяясь после каждого слова. – Хвала Богу Израиля, никто не тронул ваши два миллиона; но ваше высочество дали мне разрешение пустить их в рост.
– А, понимаю, – сказал князь, – ты так хорошо пустил их в рост, что все потерял. Ничего не поделаешь! Эти проклятые годы были пагубны для коммерции.
– Не совсем так, ваше высочество. Два миллиона не потеряны.
– Как, – воскликнул князь, – ты принес мне мои два миллиона?
– Это не совсем так, монсеньор; я принес вам не ваши два миллиона, я принес вам шесть миллионов. Когда с деньгами хорошо обращаются, они приносят доход.
– Хорошо, а сколько ты возьмешь себе?
– Мне причитается небольшая доля, маленькие комиссионные, мои шесть процентов; но они не входят в эту сумму. Впрочем, вы посмотрите кассовые книги, монсеньор, они в порядке.








