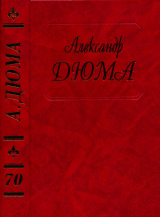
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
Хотя в обычном своем состоянии я на аппетит не жалуюсь, а во время путешествий моя способность поглощать пищу возрастает еще на четверть или даже на треть, мне после прибытия в Ахен сильно не везло в отношении еды. Начать с того, что, как и у любого француза, рожденного в старой доброй Франции, каждая моя трапеза обычно состоит наполовину из хлеба, на четверть из мяса и, наконец, на четверть из закусок и десерта. Но после приезда в Ахен вместо хлеба мне подавали сдобные булочки. Сама по себе сдобная булочка – вещь замечательная, но, на мой взгляд, чтобы она была оценена по достоинству, ее нужно подавать к месту; и потому, когда в трактире мне в первый раз явно не кстати, с моей точки зрения, подали булочку, я просто отложил ее в сторону дожидаться кофе со сливками и попросил принести мне настоящего хлеба.
В ответ на это официант понимающе улыбнулся, желая показать, как глубока его проницательность, и произнес на прекрасном французском:
– Я знаю, что вы просите, сударь, – после чего принес мне анисовый пирог.
Я надкусил пирог; как пирог он не вызывал возражений, но как хлеб явно оставлял желать лучшего, и потому я отложил его на вторую тарелку, чтобы позднее использовать в качестве пудинга, снова подозвал официанта, подошедшего ко мне в самом прекрасном расположении духа, как это присуще всем немецким официантам, и, не доверяя больше родному языку, решился произнести на своем лучшем саксонском наречии слово "brot[29]".
– А, понимаю, – ответил официант, радуясь тому, что сумел, наконец, правильно истолковать мою мысль, – вы, сударь, просите пумперникель.
И, не дожидаясь моего ответа, он ушел.
Я не сделал никаких попыток задержать его, прежде всего потому, что лежащие передо мной два образца выпечки никоим образом не могли в моих глазах заменить собой хлеб, а кроме того, меня ничуть не огорчала возможность увидеть перед собой зверя, называемого чудовищным именем "пумперникель". Через несколько минут официант вернулся с симпатичным круглым хлебцем, похожим на те, какие пекут на наших фермах.
– О! – обрадовавшись, воскликнул я.
– О! – воскликнул официант, обрадовавшись еще больше меня.
– И это то, что здесь именуют пумперникелем? – спросил я, забирая у него хлебец.
– Настоящий пумперникель! Здесь только один кондитер умеет готовить его как надо.
– Как, хлеб у вас пекут кондитеры?
– Но то, что я вам принес, вовсе не хлеб.
– Так что же это?
– Это пумперникель.
– Название ничего не объясняет.
– Вы правы, сударь. Название ничего не объясняет, но пумперникель – это очень вкусно.
– Посмотрим.
С этими словами я попытался разделить надвое подобие фермерского хлебца, который был у меня в руке, но встретил неожиданное сопротивление.
– О! – воскликнул официант. – Пумперникель не режут; его разламывают, или же нужны особые, острые как бритва ножи.
– Как? Нужны острые как бритва ножи, чтобы разрезать хлеб?
– Я уже имел честь сообщить вам, сударь, что пумперникель – это не хлеб.
– Так что же это тогда? – спросил я, потеряв терпение и машинально ткнув большим пальцем в корку.
– Сударь, это сушеные груши, коринфский изюм, инжир – словом, все очень вкусное.
Я сломал хлебец и, в самом деле, увидел внутри него всякого рода сушеные фрукты. Корка была полой, как у яблочного слоеного пирога, а хлебного мякиша, напоминающего губку, было ровно столько, сколько необходимо, чтобы соединить между собой все эти фрукты.
В итоге мне пришлось довольствоваться анисовым пирогом; так что, начиная с Ахена, я, подобно подданным не помню уже какой королевы, за неимением хлеба поглощал сдобные булочки.
Но зато, если, начиная с Ахена, нигде не было хлеба, то нигде не было и жандармов, а паспорт сделался совершенно ненужным. По прибытии в гостиницу мы просто расписывались в книге посетителей, которую нам давали, и больше от нас ничего не требовали.
Начиная с Кёльна кулинарные извращения уже не ограничивались одним только хлебом, они затронули и мясо. До тех пор, пока мне подавали сдобную булочку и говядину отдельно, я поступал подобно людям, привыкшим пить воду из одного стакана, а вино – из другого; так что, когда одно не смешивали с другим, все было еще терпимо. Однако новое испытание поджидало меня в Бонне. Легкий обед состоял из протертого супа с фрикадельками, куска говядины с черносливом, зайчатины с вареньем и кабаньего окорока с вишнями; как видно, нужно было особо постараться так испортить одни продукты другими, хотя по отдельности все они были вполне достойны уважения.
Я лишь попробовал все эти блюда. Когда настала очередь зайчатины, официант не смог сдержаться:
– Разве вам, сударь, не нравится зайчатина с вареньем?
– Я нахожу ее отвратительной.
– Удивительно слышать это от такого великого поэта как вы, сударь.
– О, вот тут вы ошибаетесь, милейший: я сочиняю стихи для собственного удовольствия, что правда, то правда, но это не повод называть себя великим поэтом и портить себе желудок вашими фрикасе; к тому же, даже будь я великим поэтом, что, в конце концов, общего между стихами и зайчатиной с вареньем?
– Наш великий Шиллер обожал зайчатину с вареньем.
– Знаете, у нас с Шиллером вкусы не совпадают: подайте мне "Вильгельма Телля" или "Валленштейна", но заберите вашу зайчатину.
Официант унес зайчатину; тем временем я попробовал кабанятину с вишнями. Но не успел официант вернуться, как я уже снова протягивал ему свою нетронутую тарелку, чем удивил его еще больше.
– Как, – сказал он, – вам, сударь, не нравится и свинина с вишнями?
– Нет.
– А вот господину Гёте очень даже нравилась свинина с вишнями.
– Я этого не знал, но, к несчастью, у нас с автором "Фауста" разные вкусы. Пусть мне приготовят омлет.
Я терпеливо ждал, и через несколько минут официант вернулся с заказанным омлетом, который и для искушенного едока выглядел на редкость аппетитно, но, несмотря на голод, я не смог проглотить даже первый кусок, и он тут же оказался обратно на тарелке.
– Черт подери, что вы там положили в этот омлет? Омлет, милейший, готовят из масла, яиц, соли и перца.
– Но, сударь, он и приготовлен из масла, яиц, соли и перца.
– А что туда еще добавили?
– Немножко муки.
– А еще что?
– Немного сыру.
– Продолжайте.
– Шафран.
– Хорошо.
– Мускатный орех, немного тмина и гвоздики.
– Ладно, ладно. Добавьте омлет к тому, что вы уже унесли, и постарайтесь найти мне экскурсовода в натуральном виде.
Официант направился к двери, но по пути встретился с хозяином гостиницы и что-то ему сказал. Господин Зим-рок приблизился ко мне.
– Вы недовольны обедом, сударь? – спросил он с непринужденным видом, демонстрируя отменные манеры.
– Да просто мне не понравилось то, что мне подали, вот и все, – ответил я с некоторым смущением, ибо на меня произвела впечатление воспитанность хозяина.
– Если бы вы, сударь, соблаговолили сообщить нам заранее, что желаете получить обед на французский манер, этого недоразумения не случилось бы.
– Как? – спросил я. – Неужели возможно получить бульон без фрикаделек, говядину без чернослива, зайчатину без варенья и кабанятину без вишен?
– Сударь, достаточно только сказать нам.
– И… хлеб?
– Ну, конечно же, и хлеб; я всякий раз велю испечь хлеб специально для тех, кто его ест.
– Ах, дорогой господин Зимрок, вы меня спасли; и когда я смогу получить все это?
– На второй обед.
– А когда он будет, второй обед?
– Через два часа. А пока, чтобы отбить вкус наших недостойных немецких блюд, не выпьете ли вы, сударь, стаканчик рейнвейна, которым я буду иметь честь угостить вас: это йоханнисберг.
В эту минуту показался официант, держа в руках поднос, на котором стояли два стакана и бутылка с удлиненным горлышком. Господин Зимрок убрал с подноса один из стаканов, наполнил другой и протянул его мне.
– А вы? – спросил я его.
– Это будет для меня большой честью, – сказал г-н Зимрок, поклонившись.
– А знаете ли вы, господин Зимрок, – сказал я, чокаясь с ним, – что у вас манеры знатного вельможи, и это порой должно смущать ваших гостей.
– Поэтому, сударь, я редко выхожу из своей комнаты и сижу там среди счетных книг и сборников поэзии. У меня прекрасная библиотека, весьма посещаемая гостиница; я счастлив, а особенно, когда…
– О, не нужно комплиментов, господин Зимрок, прошу вас; позвольте только, чтобы лакей сходил поискать для меня экскурсовода.
– В этом нет нужды! Лошадей уже впрягают в карету.
– Как? Лошадей впрягают в карету?
– Да, и если вы, сударь, окажете мне честь, то с вашего позволения я сам буду вас сопровождать. У нас не так уж много достопримечательностей; но я буду счастлив и горд показать вам то, чем мы располагаем.
Невозможно отказаться от предложений, сделанных таким образом. Вскоре объявили, что лошади запряжены, и мы сели в карету.
Господин Зимрок был прав: в Бонне не так уж много достопримечательностей. Поэтому, когда мы посетили кафедральный собор в византийском стиле, который был возведен на том самом месте, где некогда стояла церковь, построенная императрицей Еленой в начале IV века; затем казино, где были выставлены эскизы памятника Бетховену; затем дворцовый сад с великолепной террасой, выходящей к Рейну, то оказалось, что мы почти все осмотрели. Это чудесно сочеталось с моим пробудившимся аппетитом, и, когда ровно в три часа мы вернулись в гостиницу, мне оставалось лишь сесть за стол.
Обед был отменный; впервые после Льежа я по-настоящему поел.
После обеда г-н Зимрок предложил мне совершить вместе с ним еще две прогулки: одну – по ту сторону реки – к старому монастырю Шварцрейндорф; другую – в окрестности города, в Кройцберг. Легко догадаться, что я согласился не колеблясь.
Мы сели на небольшое судно и пересекли Рейн.
Шварцрейндорф – это весьма примечательная старинная коллегиальная церковь: в ней два свода, поставленные один на другой. Верхний свод образует собственно церковь; под нижним сводом находится погребальный склеп курфюрста Арнольда II, который основал церковь и примыкающий к ней женский монастырь, позже ставший капитулом канонисс. Среди надгробий этого склепа находится гробница святой Аделаиды Кведлин-бургской.
Аделаида Кведлинбургская, была, как мне кажется, сестрой императора Оттона III. Мне простят, надеюсь, если я ошибся в цифре; ведь я пишу, полагаясь на устные предания, а не на печатные архивные источники. И вот, будучи набожной настоятельницей монастыря, она обучала своих монахинь пению, и пели они одна лучше другой, кроме одной-единственной, самой красивой монахини, которая фальшивила так сильно, что это вносило разлад в их хор. Подобное отсутствие согласия приводило в отчаяние славную настоятельницу, и в какой-то момент, когда несчастная монахиня разрывала ей барабанные перепонки своим жутким писклявым голосом, она была так раздосадована, что не смогла сдержаться и отвесила ей столь сильную пощечину, что та упала в корчах; но, придя в себя, монахиня с удивлением обнаружила, что она запела как соловей.
С того времени не было никакого сомнения в том, что действенная благодать сошла на монахиню лишь от соприкосновения с благочестивой рукой, и, когда мать Аделаида умерла, эта пощечина сыграла огромную роль в канонизации настоятельницы.
Мы переплыли на левый берег Рейна, где нас ждала карета; за три четверти часа она доставила нас к Кройцбер-гу. Самое замечательное в этом монастыре – его склеп, где превосходно сохраняются трупы. Поскольку я уже побывал в морге монастыря святого Бернара и в подземелье монастыря капуцинов в Палермо, это посещение не вызвало у меня такого любопытства, как первые два; и, на какое-то время задержавшись на террасе, чтобы полюбоваться видом, который открывается отсюда до Семигорья с одной стороны, а с другой – почти до Кёльна, мы двинулись по направлению к городу.
Я пропустил время полдника, но г-н Зимрок заметил, что у меня еще есть возможность поужинать, а после ужина попить чаю в качестве возмещения за пропущенную трапезу. К несчастью, я так плотно пообедал, что эти предложения, при всей их заманчивости, не могли меня соблазнить. К тому же, оценив обязательность г-на Зим-рока, я собирался обратиться к нему еще с одной просьбой.
Я хотел попросить кровать, в которой мог бы выспаться француз.
Это требует пояснений.
Обычно мы, французы, – я говорю это для просвещения других народов – спим в кроватях; как правило, это ложе, имеющее от трех до трех с половиной футов в ширину и от пяти футов восьми дюймов до шести футов в длину. На него кладут волосяной тюфяк, перину, один или два матраса, пару чистых простыней, одеяло, валик, подушку; затем одеяло заправляют под матрас, после чего тот, для кого кровать предназначена, забирается между двумя простынями, и, если только этот человек не выпил прежде чересчур большое количество черного кофе или зеленого чая и может похвастаться крепким здоровьем и чистой совестью, он сразу же засыпает; что же касается продолжительности сна, то все зависит от организма.
Впрочем, в такой постели может спать любой человек, будь он немцем, испанцем, бельгийцем, русским, итальянцем, индийцем или китайцем, если, конечно, его не загнали туда силой.
Но в Германии и речи не идет о таких кроватях.
Вот что представляет собой немецкая кровать.
Прежде всего, это ложе от двух до двух с половиной футов шириной и от пяти до пяти с половиной футов длиной. Видимо, Прокруст побывал в Германии и ввел здесь моду на такие кровати.
На это ложе кладут нечто вроде мешка, набитого стружкой и призванного заменить собой волосяной тюфяк.
На мешок со стружками кладут огромную перину.
Поверх перины кладут просто кусок ткани, по размеру уже и короче самой перины: хозяин постоялого двора именует его простыней, тогда как путешественник не назовет его даже салфеткой.
Наконец, поверх этой простыни, или этой салфетки – тут все зависит от того, как вы сочтете нужным именовать подобный вид постельного белья, – кладут стеганое одеяло, подбитое второй периной, тоньше, чем первая.
Горка из двух или трех подушек в изголовье вносит завершающий штрих в это странное сооружение.
Если в подобную постель ляжет француз, то, поскольку французы народ живой и неуравновешенный (именно такую репутацию мы имеем в Германии), вышеназванный француз забивается внутрь, не приняв соответствующих мер предосторожности, и потому несколько минут спустя подушки летят в одну сторону, а одеяло свешивается с другой, простыня сбивается и становится незримой; таким образом, вышеупомянутый француз как бы утопает в перине, при этом половина его тела истекает потом, тогда как другая коченеет от холода.
Но, по крайней мере, в этом у него есть выбор.
Если это немец, то, поскольку немцы народ спокойный и добродетельный, вышеназванный немец прежде всего ни за что не снимет кальсоны и чулки; затем он осторожно приподнимет стеганое одеяло, ляжет на спину, прижмется поясницей к трем подушкам, а ногами – к изножью кровати, образовав при этом фигуру fVI, после чего положит одеяло на согнутые в коленях ноги, закроет глаза, погрузится в сон, а наутро проснется в том же самом положении.
Но понятно, что такого результата можно достичь, лишь если вы спокойны и добродетельны, как немец.
Не знаю, какого из этих двух качеств мне недоставало, знаю лишь одно – спать я больше не мог, худел на глазах и кашлял, разрывая себе грудь.
Именно поэтому я попросил предоставить мне французскую кровать.
У г-на Зимрока их было шесть.
Я готов был броситься ему на шею.
Меня провели в мой номер. Хозяин нисколько меня не обманул: там стояла самая настоящая кровать с настоящим волосяным тюфяком, настоящими матрасами, настоящими простынями, настоящим одеялом и самым что ни на есть настоящим валиком.
И потому я уже собирался было лечь спать, испытывая вполне понятное чувство удовлетворения, как вдруг в дверь постучали.
– Кто там? – спросил я.
– Простите, сударь, это я, – ответил лакей.
– Что вы хотите?
– Меня прислал один англичанин, который не смог увидеться с вами, сударь; он спрашивает, не окажете ли вы ему честь, выпив с ним стакан рейнвейна или шампанского?
– И кто такой этот англичанин?
– Студент.
– Тогда другое дело. Передайте ему, что я сейчас спущусь.
Хотя мне очень хотелось спать, я не был раздосадован тем, что меня потревожили, ибо мне представился случай познакомиться со студентом. И потому я почти тотчас последовал за слугой; правда, ключ от комнаты я положил в карман, из опасения, что, если он останется в дверях, кто-нибудь может по ошибке улечься в моей кровати.
Войдя в обеденный зал, я посмотрел по сторонам, но увидел лишь двух собутыльников, младшему из которых, как мне показалось, было между сорока пятью и пятьюдесятью. Старший из них поднялся.
– Простите, сударь, – сказал он мне на прекрасном французском, хотя и с некоторым довольно ощутимым английским акцентом, – вы, наверное, меня ищете.
Затем он повернулся к спутнику:
– Милорд, это господин Александр Дюма… Господин Александр Дюма, это милорд С…
Я поклонился.
– Простите, сударь, – сказал я ему в свою очередь, – но мне сказали, что вы студент…
– Это так, сударь, вам сказали правду. Присаживайтесь же.
Я сел.
– Учиться можно в любом возрасте. – Он налил мне стакан йоханнисберга. – Я, например, с шести лет до двадцати учился в университетах Оксфорда и Кембриджа; с двадцати до тридцати изучал собак, лошадей, политических деятелей, женщин и карты; в тридцать начал путешествовать; проезжая через Гейдельберг, я услышал лекции одного профессора, который показался мне весьма сведущим в теологии, и тогда я решил изучать теологию. Я уже неплохо в ней разбирался, когда однажды, спускаясь по Рейну, задержался в Бонне и услышал лекцию профессора Кейзеля, самого известного в немецких университетах философа; мне показалось, что он расходится с моим профессором в некоторых вопросах веры, и я решил примирить их, сведя их теории в одну. С этого времени я спускаюсь вниз и поднимаюсь вверх по Рейну, от Мангейма до Бонна, спокойно проедая свои две тысячи фунтов стерлингов ренты, которых в Лондоне мне на жизнь не хватило бы, а здесь я чувствую себя богачом. Я решил было объездить мир, но мне посчастливилось больше, чем Магомету: не мне пришлось идти к горе, гора пришла ко мне. Рейн для Европы то же самое, что, например, пассаж Перрон для Парижа: все иностранцы непременно посещают его. Я здесь словно охотник в засаде, поджидающий дичь. Как только в газетах сообщили о вашем приезде в Брюссель, я сказал себе, что вы обязательно будете здесь проездом, и не ошибся. Теперь вы видите, что я настоящий студент; по утрам я изучаю теологию или философию, днем я изучаю людей, а по вечерам – вина, и, если Богу будет угодно, так продолжится до конца моих дней. Как вам нравится этот йоханнисберг? Это настоящий йоханнис-берг урожая тысяча восемьсот тридцать первого года: господин Меттерних не мог бы предложить лучшего австрийскому императору, если бы австрийский император пожелал отобедать в его замке.
– Превосходное вино!
– К тому же у меня есть ученики. Вот, например, милорд С… (мы с милордом С… вторично поприветствовали друг друга) спускался по Рейну и намеревался лишь проездом побывать в Бонне. Но тут его письмом известили, что у него тяжело заболела жена. Простите, что милорд С… не принимает участия в нашем разговоре: он не говорит по-французски. Итак, он оказался в Бонне; я попросил его оказать мне честь, пропустив со мной стаканчик, и он согласился; у нас завязался спор о превосходстве шампанских вин над рейнскими и vice versa[30]… Кстати, попробуйте это аи – розовое игристое тысяча восемьсот двадцать восьмого года, лучшая марка Моэ… Итак, мы продолжали наш спор. Тем временем его жена скончалась, что весьма опечалило милорда; но мы заказали для покойной надгробный памятник в Майнце. Время от времени мы ездим смотреть, как продвигается работа, и это его успокаивает. Милорд говорит, что, когда надгробие будет закончено, он поедет сопровождать его в Англию; я же говорю, что памятник можно просто послать в Роттердам, откуда его переправят в Лондон, а милорд сможет остаться здесь со мной обсуждать преимущества различных сортов вин. Не так ли, милорд?
Милорд кивнул головой и в третий раз протянул свой стакан, который его соотечественник наполнил до краев красным вином, пенящимся, как сен-пере, и прозрачным, как рубин.
– Это ингельгейм, – сказал мне англичанин, – почти что ваш соотечественник. Попробуйте.
– Среди французских марок вина я такого не знаю, – ответил я.
– Но это так, потому что Ингельгейм – старинная резиденция Карла Великого. И вот, старый император, отдававший должное всему хорошему, что было во Франции, оценил отменное орлеанское вино; он велел доставить ему черенки лозы, и сам их посадил. Сегодня вы дегустируете то, что произвела лоза, посаженная некогда самим Карлом Великим. Это любимое вино милорда: именно с помощью этого вина мне удалось накрепко задержать его.
– Видимо, его любовь к жене была не так уж велика.
– Напротив, он ее обожал. Сейчас вы сами увидите, как легко довести его до слез… Милорд, – произнес студент, обращаясь к своему спутнику.
– What do you want?[31]
– Shall we not go presently and see how they are going on with the tomb of that dear lady?[32]
– О! – произнес англичанин, и две крупные слезы скатились у него по щекам.
Он вытер их одной рукой, а другой протянул свой стакан, промолвив:
– Another glass of this capital Ingelheim.[33]
– Я ошибся на одну бутылку, – сказал студент, наливая еще один стакан ингельгейма бедному вдовцу. – Еще одна бутылка, и он разразится рыданиями, тут осечки не бывает.
– А вы не знаете, – спросил я англичанина, – не владеет ли милорд другими языками лучше, чем французским?
– Милорд – мыслитель и, как молодой Гамлет, довольствуется собственными мыслями, не так ли, милорд? То be or not to be.[34]
– Another glass of this capital Ingelheim, – повторил милорд.
– Неужели, даже когда вы находитесь с ним наедине, ваш ученик не ведет разговоры посложнее, чем этот? – спросил я. – В таком случае, учитывая, какими темпами он продвигается, ему не удастся долго с вами соперничать.
– Вы ошибаетесь. Так будет продолжаться до трех или четырех часов утра.
Я посмотрел на часы: вот-вот должно было пробить полночь.
– Сожалею, что моего английского недостаточно, чтобы поприветствовать милорда на его родном языке.
– Милорд, – сказал студент, – this gentleman pays you his best compliments.[35]
Милорд приподнялся и ответил мне английской фразой.
– Что сказал милорд? – спросил я у его спутника.
– Он говорит, что, если вы когда-нибудь поедете в Англию, он полностью в вашем распоряжении.
– О, весьма обязан.
– А я, сударь, выражу надежду, что, если вам доведется когда-нибудь плыть вверх или вниз по Рейну, вы окажете мне такую же честь, как сегодня. Вы всегда найдете меня между Мангеймом и Бонном.
– Будьте уверены, я не премину это сделать.
Мы в последний раз раскланялись. Я поднялся к себе в комнату, а двое англичан продолжили пить.
Наутро лакей разбудил меня в пять часов, и я попросил его принести мне счет, собираясь за это время одеться; он вышел и через минуту вернулся со счетом.
Напрасно искал я там стоимость стакана йоханнис-берга, выпитого мною по прибытии сюда, а также цену кареты. В остальном же со мной обошлись, как со всеми другими: все было сделано с отменным вкусом. Тогда я спросил у лакея, добыл ли он для меня, как я его просил, какое-нибудь средство передвижения? Он ответил, что г-н Зимрок ждет меня внизу в своей карете и желает отвезти меня до Рюнгсдорфа, расположенного прямо напротив Семигорья.
Я спустился вниз и поинтересовался у хозяина, как поживают двое его англичан.
– Они все еще здесь, – ответил мне г-н Зимрок.
– Что значит, все еще здесь? По-прежнему пьют?
– О нет, теперь они спят.
– Что значит спят?
– Они спят там, где их застиг сон. О, кому не требуются кровати на французский манер, так это им!
– Черт возьми! Любопытно было бы на них взглянуть!
– Это несложно. Войдите.
Я осторожно приоткрыл дверь: милорд С… соскользнул со стула и растянулся на полу, держа в руке рёмер[36]; студент спал, уткнувшись лицом в стол и сжимая правой рукой горлышко бутылки шампанского.
Я пересчитал павших в этом бою: всего оказалось четырнадцать пустых бутылок, как йоханнисберга и шампанского, так и ингельгейма,
Я не стал тревожить сон спящих, но, не желая, чтобы эти двое англичан думали, будто француз менее вежлив, чем они, я взял две свои визитные карточки и одну вложил в бокал милорда, а другую засунул в горлышко бутылки, которую сжимал его спутник.
Мой визит был завершен.
Я тотчас же сел в карету, и мы тронулись в путь.
ДРАХЕНФЕЛЬС. КОБЛЕНЦ
Оказавшись за пределами Бонна, мы поехали по живописной дороге между берегом Рейна и подножием горной гряды, на которой рассыпаны деревни, замки и виллы. Слева от нас, на обочине дороги, виднелась небольшая часовня, носящая название Хох-Кройц («Высокий крест»). С этой часовней, великолепнейшим образцом готики, не связано ни одно предание: это всего лишь свидетельство набожности монсеньора Вальрама Юлихского, архиепископа Кёльнского, моего давнего знакомого, фигурирующего в романе «Графиня Солсбери».
Именно отсюда открывается с самого выгодного угла зрения изумительный вид на живописные руины Годес-берга. Выехав из этой деревни, мы повернули налево на небольшую боковую дорогу, которая через несколько минут привела нас к деревне Рюнгсдорф на берег Рейна, и увидели там лодки, поджидавшие путешественников; спустя еще несколько минут нас перевезли в Кёнигсвинтер, небольшой живописный городок, стоящий на противоположном берегу. Мы поинтересовались, когда здесь будет проходить пароход, и нам ответили, что он появится в полдень. Таким образом, у нас оставалось в запасе около пяти часов – времени было более чем достаточно для осмотра развалин Драхенфельса.
Поскольку нас никак нельзя было принять за скалолазов, то, едва ступив на твердую землю, мы были атакованы целым роем ослов, их погонщиков и погонщиц, которые окружили нас и принялись восхвалять достоинства своих верховых животных. Один из этих скакунов подкупил нас контрастом между роскошью своего седла и непритязательностью своей клички: он звался Гансик. Хозяин поклялся от имени животного, что его подопечный ни при каких обстоятельствах не ляжет на землю и не станет подходить слишком близко к обрыву. Приняв в расчет эти два обещания, наша спутница доверила ему свою жизнь.
Гансик сдержал слово, поэтому я с полным основанием могу рекомендовать его прекрасным путешественницам со всего света, которые не имеют намерения оказаться на дне какого-нибудь оврага.
Спустя примерно три четверти часа подъема по живописной тропе, опоясывающей гору, мы достигли первой вершины и обнаружили там постоялый двор и обелиск. Гансик направился прямо к первому, я – ко второму, поэтому в отношении сведений, касающихся постоялого двора, я вынужден отослать читателя к Гансику. Что же касается обелиска, то он воздвигнут здесь в память о переправе через Рейн прусской армии.
На четырех сторонах его основания сделаны следующие надписи:
Честь и слава Всевышнему!
Мир и свобода отчизне!
Слава павшим героям!
От ландштурма Семигорья дань уважения героям.
Как видно, в четверостишии, сделанном ландштурмом Семигорья, больше патриотизма, чем творческой выдумки; похоже, что представители ландштурма непременно хотели сами сочинить этот образчик поэзии, а ландштурм, как известно, это прусская национальная гвардия.
От этой первой площадки к вершине Драхенфельса ведет живописная извилистая дорожка, посыпанная песком, наподобие тех, какие бывают в английских парках. Сначала вы поднимаетесь к первой квадратной башне, в которую можно лишь с немалым трудом пролезть через расщелину; за ней идет круглая башня: она полностью разворочена временем, и проникнуть в нее легче. Эта башня стоит на Драконовой скале. Название "Драхен-фельс" восходит к старинной легенде времен Юлиана Отступника. В пещере, которую еще и сегодня показывают на полдороге к вершине, некогда поселился огромный дракон, настолько пунктуальный в отношении своих трапез, что если ему забывали доставлять каждый день в условленное место какого-нибудь пленника или преступника, то он спускался в долину и пожирал первого попавшегося прохожего. Разумеется, сам дракон был неуязвим.
Все это происходило, как уже было сказано, в те времена, когда Юлиан Отступник привел свои легионы на берега Рейна и встал там лагерем. И вот римские воины, которым не более, чем местным жителям, хотелось быть съеденными, воспользовались тем, что они находились в состоянии войны с какими-то окрестными племенами, и, благодаря этому, без всяких жертв со своей стороны кормили чудовище. Среди их пленников оказалась девушка такой дивной красоты, что из-за нее поспорили два центуриона, а поскольку ни тот, ни другой не собирались ее уступать, они чуть было не убили друг друга; и тогда военачальник решил, что во имя их примирения следует отдать эту девушку на съедение дракону. Все восхитились мудростью подобного решения, которое кое-кто даже сравнивал с решением царя Соломона, и готовились насладиться зрелищем.
В назначенный день девушку, одетую во все белое и увенчанную цветами, привели на вершину Драхенфельса и привязали к дереву, как Андромеду к скале; однако она попросила оставить ее руки свободными, и ей не смогли отказать в такой небольшой просьбе.
Как мы уже сказали, чудовище вело чрезвычайно размеренную жизнь и обедало, как и сегодня обедают в Германии, от двух до половины третьего пополудни. И потому в тот самый момент, когда все ожидали появления чудовища, оно выползло из своей пещеры и поднялось, то волоча брюхо по земле, то взлетая в воздух, к тому месту, где ему всегда оставляли пищу. В тот день дракон выглядел еще более свирепым и голодным, чем обычно. Накануне то ли по какой-то случайности, то ли из утонченной жестокости ему подали на обед старого пленника-варва-ра, у которого только и было, что кожа да кости, и которого невозможно было прожевать; так что, учитывая вдвойне возросший аппетит дракона, зрители надеялись получить двойное удовольствие. Само же чудовище при виде того, какую лакомую жертву ему поднесли, взревело от удовольствия, стало бить в воздухе чешуйчатым хвостом и кинулось к ней.
Но, когда дракон уже был готов схватить девушку, она, будучи христианкой, сняла с груди крест и показала его чудовищу.
Увидев Спасителя, чудовище застыло в оцепенении, а потом, понимая, что с этим ему не совладать, поспешно уползло к себе в пещеру, издавая жуткий свист.
Впервые народ увидел, что дракон спасается бегством. И потому, пока одни кинулись к девушке, чтобы развязать ее, другие бросились вдогонку за драконом и, преисполнившись храбрости при виде его испуга, набросали у входа в пещеру кучу вязанок хвороста, сверху насыпали серу, налили терпентинную смолу и все это подожгли.








