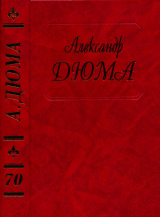
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 45 страниц)
Что же касается железных дорог, которым в настоящее время Бельгия уделяет исключительное внимание, то нужно увидеть станцию Мехелен, являющуюся их центром, чтобы составить себе представление о своего рода лихорадке, овладевшей всем населением страны. Это напоминает массовое безумие, всеобщее умопомешательство; кажется, что всякий человек имеет дела исключительно вдали от того места, где он живет; тридцать, сорок составов прибывают ежедневно, выбрасывая на небольшое пространство тридцать или сорок тысяч человек, которые на мгновение заполняют его целиком, перемешиваются, расходятся, устремляясь к своим вагонам, и со скоростью ветра удаляются во все стороны, чтобы уступить место другим, которые в свою очередь исчезнут, теснимые теми, кто следует за ними, и так бесконечно, безостановочно, напоминая числом скопище душ, которое Данте наблюдал на берегах Ахеронта, удивляясь тому, скольких людей унесла смерть начиная с момента зарождения жизни.
Продолжая поддерживать властью и деньгами промышленное предпринимательство, король Леопольд не пренебрегает и развитием искусств. Вынужденный отказаться от национальной литературы, загубленной на корню незаконной перепечаткой книг в Брюсселе и оказавшейся фатальной даже для Бельгии, поскольку она постоянно противопоставляла произведениям, созданным четырехмиллионным народом, сочинения, которые были созданы всем человечеством и которые она продавала за бесценок, король стал поощрять исторические изыскания и школы живописи: барон Рейффенберг в Брюсселе, г-н Вуазен в Генте, г-н Дельпьер в Брюгге и г-н Полей в Льеже старательно рылись в неисчерпаемых и разнообразных залежах древних национальных хроник, и все они, в награду за свои первые публикации, получили посты, позволявшие им продолжать эти исследования. Рейффенберг и Вуазен – библиотекари: один в Брюсселе, другой в Генте; Дельпьер и Полей – хранители архивов: первый в Брюгге, второй в Льеже; они готовят для будущего историка Фландрии работу, схожую с той, которая, благодаря трудам Гизо, Огюстена Тьерри и Мишле, уже ожидает будущего историка Франции. Менее скованный в своих действиях в области живописи, король Бельгии сделал для этого вида искусства более всего, поскольку, несмотря на скудость своего цивильного листа, он за шесть лет приобрел более шестидесяти полотен. Под его влиянием возродилась и приобрела размах фламандская школа, так что салон 1836 года занял заметное место среди самых лучших брюссельских выставок.
Следует отметить, что, таким образом, расцвет школ живописи фламандских провинций пришелся на три великих периода их независимости: при Филиппе Добром, с 1419 по 1467 годы, братья Ван Эйк и Мемлинг задали точку отсчета для искусства; при Альбрехте и Изабелле, с 1598 по 1635 годы, Рубенс, Ван Дейк, Крайер, Розе и Снейдерс достигли его апогея, и наконец, при Леопольде I, с 1832 по 1838 годы, Вербукговен, Густав Вапперс и Кей-зер своими произведениями выразили протест против упадка, в пучину которого, по общему мнению, оно погрузилось. Так что Леопольд, по сути дела, удовлетворил всем требованиям страны, которой он правил: в политике он исполнил волю бельгийского народа, вплоть до последней минуты протестуя против возвращения Лимбурга и Люксембурга; в области индустрии он усовершенствовал все предприятия, приняв личное участие в каждом из них; и наконец, дабы помочь исторической науке и живописи вырваться из состояния упадка, он поощрял изыскания ученых и усилия художников. Король выступил в роли сеятеля, теперь земля должна дать всходы.
Чтобы закончить разговор о политике, людях и прочем, я скажу несколько слов о принце де Лине, первый необдуманный поступок которого стоил ему в 1832 году потери популярности, а второй возвратил ее в 1838 году. Мне хочется напомнить о двух полностью забытых сегодня событиях, в свое время наделавших много шума: я имею в виду выкуп лошадей принца Оранского и проход под бельгийским флагом перед Флиссингеном.
В момент наложения бельгийским правительством секвестра на имущество принца Нассау его дворцы и мебель были подвергнуты аресту; и тогда партия роялистов решила выкупить его лошадей, которыми принц очень дорожил, и преподнести ему в дар. Вследствие чего был пущен по рукам подписной лист, который предъявила принцу де Линю дочь маркиза де Тразеньи, протестантка и, соответственно, сторонница Оранской династии; де Линь, готовившийся жениться на мадемуазель де Тразеньи, не хотел огорчать невесту отказом и поставил свою подпись. Впрочем, он считал, что это дело касается взаимоотношений вельмож и де Линь вправе сделать такое для Нассау. Однако у него не было сомнений, что партия, к которой он, совершив этот благородный поступок, примкнул, позднее использует его порыв ему же во вред. Список был опубликован; тем временем принц де Линь вступил в брак с мадемуазель де Тразеньи, и народ счел себя вдвойне обманутым, полагая, что человек, на которого возлагались такие большие надежды, отрекся от нации и предал ее интересы и как католик, и как патриот. Его дворец был разграблен, скорее даже разгромлен, вся мебель была выброшена из окон и разбилась о булыжную мостовую.
Три года спустя, овдовев, принц де Линь женился на польской княгине, известной своей набожностью. Этот брак способствовал постепенному восстановлению его репутации в глазах общества, поскольку в Бельгии религиозная принадлежность по-прежнему вызывает как одобрение, так и осуждение; принц уже вкушал радость возвращения к нему былой популярности, и тут пришло время коронации английской королевы. Принц, не уступавший в щедрости своим предкам, обратился к королю Леопольду с просьбой разрешить ему отправиться за свой счет в Лондон, чтобы представлять там бельгийское правительство; эта милость была ему любезно оказана. По возвращении из Лондона, проходя мимо Флиссингена, принц де Линь не позволил спустить бельгийский флаг, который не разрешен на голландских рейдах; однако выше него был поднят британский флаг, и при этом на грот-мачте развевался личный штандарт самого принца. Этот жест, который был не более чем опасной бравадой, народ расценил как проявление мужества. Популярность принца была разом восстановлена, и, в то время как король Леопольд втайне сожалел об этой неуместном бахвальстве, способном повлечь за собой новые Лёвен и Антверпен, общество Великой Гармонии исполняло серенады под окнами посла, а народ кричал: «Да здравствует принц де Линь!»
До тех пор все шло замечательно, но неожиданно дело испортило письмо принца, которое правда, не подорвало стихийного энтузиазма толпы, но задело интеллектуальную элиту. Одна голландская газета написала об этой истории, допустив кое-какие неточности; принц де Линь счел своим долгом ответить. Вот это письмо, и да простит за него Господь принца из уважения к письмам его деда:
«Господин редактор!
Я прочел в Вашей газете от 4-го числа выдержку из статьи, опубликованной в „Ханделсбладе“; в ней в следующих выражениях излагается история с бельгийским флагом, поднятым на паровом судне, на борту которого я возвращался в Антверпен:
„Снявшись с якоря в Лондоне, „Пироскаф“ поднял бельгийский флаг; но, когда лоцман из Флиссингена, стоявший у руля, заметил капитану, что этот флаг не разрешен на наших рейдах, капитан велел его спустить ".
Это не соответствует действительности; стяг Бельгии не переставая развевался над кораблем от Лондона до
Антверпена, но, когда мы подошли к Флиссингену, капитан предложил мне спустить бельгийский флаг, оставив поднятым лишь британский; на это я ответил, что буду стоять на палубе, под стягом, и скорее пойду на дно, чем подчинюсь такому приказу. Таким образом, бельгийский флаг развевался в виду пушек Флиссингена и голландских судов.
Что же касается моего личного штандарта, поднятого на грот-мачте, то, как известно, это привилегия чрезвычайных и полномочных послов; я был горд тем, что он реет рядом с бельгийским стягом, и не спустил его перед голландцами. Представители династии Нассау хорошо знают, что этот штандарт, начиная со времени царствования Филиппа Ни вплоть до правления короля Леопольда, ни разу не был спущен в присутствии их флага.
Принц де Линь".
Ссылка была точной, но неудачной. Господин принц де Линь забыл только об одном – о том, что Филипп II, которому служили его предки, был тираном, в то время как Нассау, которых его предки побеждали, выступали за независимость.
Но поскольку народ не обязан помнить больше, чем помнит принц, эта громкая фраза вызвала шумное одобрение.
Существует три способа осмотра города. Первый – посещать его достопримечательности в хронологическом порядке; второй – разделить его на кварталы и осматривать их один за другим; третий – идти куда глаза глядят, полагаясь на волю случая.
Я чаще всего предпочитаю этот третий способ, ибо тогда все для меня становится неожиданным и, тем самым, куда сильнее поражает мое воображение. Так как обычно подготовительное изучение страны, которую я намереваюсь посетить, позволяет мне обходиться без экскурсовода, без путеводителя и даже без карты, известное заранее описание не лишает ни величия, ни необычности те исторические здания, на которые я внезапно натыкаюсь, повернув за угол или выйдя на какую-либо площадь; они предстают передо мной, населенные воспоминаниями, которые я заставляю проплывать передо мной, одно за другим, наподобие призраков. Поскольку никто не указывает мне дорогу, я чувствую себя первооткрывателем, и ощущение это становится еще острее, когда я вижу, как равнодушная толпа, словно не замечая ничего вокруг, проходит у стен такого здания или посреди красот, перед которыми я замер в восхищении: и эти красоты, и это здание кажутся мне тогда волшебным творением, которое воздвигнуто на моем пути и которое, стоит мне двинуться дальше, немедленно исчезнет.
Именно таким образом, выйдя из гостиницы "Шведская королева", единственной, где мне удалось найти свободный номер, я свернул направо и, поплутав какое-то время по узким и извилистым улочкам, внезапно оказался напротив городской ратуши – готического здания, построенного архитектором Ван Рейсбруком в 1441 году и окруженного домами, которые были сооружены в период испанского владычества и отличаются характерными признаками кастильской архитектуры. Дома эти придают площади особый облик, который, не будучи полностью однообразным, ибо в этом месте сталкиваются духовные устремления двух разных народов, являет собой столь живописный ансамбль, что если это и не самая красивая из известных мне площадей, то, по крайней мере, одна из самых необычных. Наиболее значительное сооружение, помимо ратуши, – это расположенное почти напротив нее здание магистратур, откуда вышел на казнь граф Эгмонт; туда была пристроена затянутая в черное галерея, которая вела с балкона прямо на эшафот. Эта предосторожность была предпринята для того, вероятно, чтобы осужденный оказался вне досягаемости для тех, кто попытался бы спасти его, напав на стражу. К огорчению тех почитателей истории, которые предпочитают видеть, как одни памятные события увековечиваются наряду с другими, здание это уже не то, каким оно было прежде. Построенное в начале XV века, оно дважды перестраивалось: первый раз в 1625 году Изабеллой, которая посвятила его Богоматери Мира, в память о Святой деве, избавившей Брюссель от чумы, войны и голода, как это явствует из полустершихся, но еще различимых слов: "А peste,fame et hello, libera nos, Maria pads[4]; второй раз это произошло в 1695 году, после бомбардирования, которому подверг город маршал Вильруа.
Ступени этого здания и общий вид ратуши изумительны; башня, поставленная сбоку, как в Палаццо Веккьо во Флоренции, с величественной легкостью устремляется на высоту трехсот шестидесяти четырех футов; ее венчает позолоченная медная фигура архангела Михаила, высотой в семнадцать футов, которая вращается на ветру подобно флюгеру, а снизу напоминает детскую игрушку.
С одним из залов ратуши связано чрезвычайно важное историческое событие. Здесь, в зале, именуемом Концертным, 9 сентября 1556 года Карл V отрекся от короны в пользу своего сына Филиппа II. Мне хотелось увидеть этот зал, ибо у меня была надежда, что я отыщу в его старых стенах какой-нибудь след этой торжественной и значительной церемонии: увы, они кокетливо покрыты небесно-голубыми обоями и украшены гирляндами увядших цветов, оставшихся здесь от последнего бала.
Несколько залов, украшенных прекрасными гобеленами, воссоздают жизнь Хлодвига, увиденную сквозь призму века Людовика XIV, и ведут в зал Совета, где картины, выполненные в том же стиле, изображают въезд Филиппа Доброго в Брюссель, отречение Карла V и коронацию Карла VI, отца Марии Терезии. Именно в этом зале, довольно посредственный плафон которого работы Янсенса изящно обрамлен карнизами, хранятся золотые ключи, которые на блюде из позолоченного серебра последовательно вручались: в 1809 году – Наполеону, в 1815-м – Вильгельму Нассау, а в 1831-м – Леопольду I. По всей видимости, ключи эти только открывают двери, но не закрывают их.
Не знаю, когда бы я решился покинуть эту великолепную площадь, если бы в просвете между домами не заметил башни церкви святой Гудулы, возвышающиеся над всем городом. Чем ближе подходишь к ней, тем яснее становится, что здание это напоминает собор Парижской Богоматери в уменьшенном размере, хотя оно было построено позже и потому украшения ее менее суровы. Филипп Добрый, герцог Бургундский, провел там первое, а Карл V – восемнадцатое собрание ордена Золотого Руна.
Когда входишь в эту церковь и бегло оглядываешь ее величественную архитектуру, то прежде всего замечаешь великолепные витражи и необычную кафедру; витражи датируются 1500 годом, а кафедра – 1699-м. Неизменно восхищаясь изощренным кокетством Ренессанса, воплощенным в рисунках витражей, нельзя не сожалеть о наивной выразительности, на смену которой пришла эта эпоха, и, хотя брюссельские витражи вызывают всеобщее восхищение, я все же предпочитаю им витражи Руанского и Кёльнского соборов. Что же касается кафедры, то это, безусловно, произведение, отмеченное дурным вкусом, хотя и исполненное мощи и воображения; на ней изображены Адам и Ева, изгоняемые из земного рая ангелом и преследуемые Смертью. Змей, хвост которого волочится у ног тех, кого он соблазнил, смело ползет вверх, обвиваясь вокруг ствола дерева, но там, на венчающей части балдахина, его голова будет раздавлена ножкой младенца Иисуса, которого испуганно прижимает к себе мать. Создателю этой кафедры Хендрику Вербрюггену потребовалось двадцать лет, чтобы выполнить ее по заказу иезуитов из Лёвена. Мария Терезия купила ее у них и преподнесла в дар церкви святой Гудулы.
На клиросе церкви плита из белого мрамора закрывает склеп герцогов Брабантских; эрцгерцог Альбрехт был погребен здесь в 1621 году в одежде францисканского монаха, а инфанта Изабелла – в 1633-м в монашеском платье. Закрытый с того времени, склеп был открыт снова для сына короля Леопольда. Справа и слева от него находятся надгробия эрцгерцога Эрнста и герцога Иоанна.
К этим старинным памятным знакам, связанным с монархией, недавно прибавилось еще одно новое и демократичное. В часовне Богоматери Избавления установлено надгробие графа Фредерика де Мероде, убитого в Берхеме в 1830 году. Памятник работы Гефса, лучшего бельгийского ваятеля, изображает смертельно раненного графа, который, приподнявшись на локте, готовится выстрелить из зажатого в руке пистолета; на нем тот самый наряд, в который он был тогда одет: блуза, панталоны и гетры.
На передней стороне надгробия, под золотым гербом графа, окаймленным закругленными лазурными зубчиками и рассеченным красными столбами, с девизом "Больше чести, чем почестей!", начертана следующая надпись, в которой соединились демократические и религиозные идеи, что является в наши дни наиболее характерной чертой бельгийского народа:
FREDERICO COMITIDE ME RODE INTER LIBERATORES BELGIIPROPUGNATORISTRENUO QUI, CATOLICjE fidei patrleque jura tuendo, PERCUSSES AD BERCHEM MECHLINIJE PIE OCCUBUIT ANNO DOMINI MDCCCXXX.[5]
Господин де Мероде принадлежал к одной из самых знатных семей Нидерландов: согласно преданию, этот род восходит к самому Меровею. Таким образом, движение, начатое народом Бельгии, затронуло высшие слои аристократии, что, впрочем, характерно для всех религиозных революций.
В пятистах шагах от церкви, свернув на улицу Этюв, я оказался перед фонтаном, посмотреть который при посещении Брюсселя непременно входило в мои планы и о существовании которого я совершенно забыл, приехав туда; на этом фонтане установлен брюссельский палладиум, знаменитый Manneken-Pis[6], о котором наш читатель, вероятно, слышал.
Создатель этой маленькой статуи, избранной брюссельцами в качестве местного божка, по-видимому, уповал на привилегию, которой наделены все дети – что бы они ни делали, они не могут выглядеть непристойно, – ибо не побоялся изобразить своего героя совершающим на глазах у всех действие, при виде которого даже парижане, эти великие циники эпохи современной цивилизации, обычно поворачиваются к нему спиной. И вот какое предание служит если и не оправданием, то, по крайней мере, объяснением этого странного замысла.
Сын одного из герцогов Брабантских сбежал из дворца своего отца и заблудился на брюссельских улицах. При виде печали несчастного герцога весь двор ринулся на поиски ребенка; они продолжались два дня, но безуспешно, и вот, наконец, среди всеобщей растерянности, один из придворных, более удачливый или более энергичный, чем его собратья, отыскал беглеца, стоявшего между улицей Этюв и улицей Шен как раз в том положении, в каком, благодаря отцовской любви, он и остался изображен. Брюссельцы же перенесли почтение, которое они питали к отцу, на изображение сына; и, после того как первая статуя, изваянная из камня, была сломана, в 1648 году изготовили вторую, отлитую из бронзы и с большой точностью воспроизводившую и позу, и выразительность предыдущей; ее автором был знаменитый Дюкенуа, оставивший о себе скандальную память, и воздвигли ее на том же самом месте, чтобы замена первоначального материала ни в коей мере не повлияла на почитание, которое вызывал у горожан Писающий Мальчик.
С тех пор общественное положение Писающего Мальчика, в отличие от положения самых знатных вельмож, полагавших себя не менее высокопоставленными особами, чем он, продолжает лишь улучшаться. Брюссельцы назвали его старейшим жителем города, точно так же, как армия нарекла Латур д'Оверня первым гренадером Франции: курфюрст Баварский, имевший честь быть ему представленным, подарил ему полный гардероб и дал ему в услужение камердинера, который должен был одевать и раздевать его. Людовик XV, желая загладить оскорбления, нанесенные статуе несколькими французскими гвардейцами, в 1747 году объявил его кавалером своих орденов и подарил ему костюм придворного, шляпу с плюмажем и шпагу; и наконец, в 1832 году городской совет единодушно решил даровать ему право ношения мундира офицера национальной гвардии: именно в этом самом знаменитом своем наряде он предстает с тех пор в день праздника города, приходящийся на середину июля. Не стоит и говорить, что в течение всего того времени, когда он облачен в одежды, он прекращает свою оросительную функцию, а тотчас же по окончании праздничного гулянья возобновляет ее к великой радости толпы.
3 октября 1817 года Брюссель проснулся и впал в растерянность: ночью его палладиум исчез. Сначала подумали, что он остался недоволен церемонией своего последнего торжественного появления перед народом и отправился предложить свои услуги другому городу, способному в большей степени выражать свою признательность. Но, справившись у его камердинера, узнали, что накануне в процессе раздевания он не выказал никаких признаков недовольства; и тогда все стали приходить к мысли, что действия, в результате которых Писающий Мальчик исчез из поля зрения горожан, нельзя приписать его доброй воле; вследствие этого правдоподобного умозаключения полиция начала расследование и обнаружила статую у бывшего каторжника по имени Ликас, который ее и украл. Велико же было ликование в тот день, когда объявили эту радостную весть: стреляли из пушки, как после разрешения королевы от бремени, и город был иллюминирован. И наконец, 6 декабря 1818 года, после почти годичного отсутствия, Писающий Мальчик был торжественно водружен на свой пьедестал, где, едва заняв привычное место, он радостно возобновил свои функции, словно ничего не произошло, и откуда, благодаря надежной охране, он с тех пор больше не исчезал.
Что же касается Ликаса, то, как он ни изображал особое почитание старейшего жителя города, пытаясь оправдать своим пылом совершенный им поступок, его, тем не менее, вновь отправили на каторжные работы.
Поскольку я располагал уже почти всеми фактами биографии Писающего Мальчика и к тому же время поджимало, мы направились в сторону дворца принца Оранского; дворец сохранил свое прежнее название, так как принц Вильгельм, которому он принадлежал на правах личной собственности, не пожелал после 1830 года ни уступить права на владение им, ни вынести из него мебель, вероятно надеясь однажды вечером вернуться в него, так же как однажды утром он покинул его.
Войдя в переднюю, мы вынуждены были подвергнуться процедуре, необходимость которой я оценил лишь позднее: нам было предложено надеть поверх сапог такие огромные мягкие туфли из грубого войлока, что это тотчас же заставило нас отказаться от нашего привычного способа передвижения. Начиная с Адъютантского зала ходить уже невозможно: приходится скользить, как на коньках; к тому же эти упражнения выполняются на великолепном паркете, сделанном из древесного капа, и без этой меры предосторожности сапоги оставили бы на нем царапины: это по-настоящему аристократические полы, по которым можно ходить лишь тем, кто обут в бархат и шелк. Впрочем, неловкость, вызванная этим новым способом передвижения, сразу же забывается, когда оказываешься перед тремя шедеврами, представляющими три различные школы – "Мадонной" Андреа дель Сарто, автопортретом Рембрандта и великолепной головой кисти Гольбейна.
В соседнем Голубом салоне – "Поппея" Ван Дейка и портрет Дианы де Пуатье, который приписывают Леонардо да Винчи; чуть дальше, в обеденной зале, висят два портрета Ван Дейка и два – Веласкеса: все четыре настоящие шедевры, и подобными не владеет, наверное, ни один музей. Наконец, в салоне Придворных дам находится прекрасный "Святой Августин", автора которого я не могу вспомнить, и одна из тех чудесных картин Перуджи-но, которые за проникновенность и выразительность я предпочитаю картинам его знаменитого ученика, художника с ангельским именем и божественным талантом.
Я не стану говорить о консоли и чаше из малахита, которые одни стоят 500 000 франков, ни о столе из ляпис-лазури, которую, как говорят, оценивают в полтора миллиона. Это уже дело декоратора, а не художника.
Выйдя из дворца, я увидел человека, который по внешности показался мне французом; он, со своей стороны, остановился и стал меня разглядывать; тогда, опасаясь, что он подойдет ко мне, я бросился в Парк, ибо соотечественник – это худшее из того, что может встретиться в Брюсселе. Это утверждение требует пояснений, и я поспешу их дать.
Во все времена Брюссель предоставлял убежище изгнанникам: Мария Медичи, отправленная в ссылку собственным сыном, приехала туда просить гостеприимства у Изабеллы; Карл, герцог Лотарингский, укрылся там, изгнанный из собственных владений своими подданными; Кристина, сложив с себя корону Швеции, отреклась там от лютеранской веры; и наконец, Карл II и его брат герцог
Йоркский прибыли туда в поисках приюта, спасаясь от преследований протектората Кромвеля.
Эти знаменитости стали в наши дни примером для подражания; однако политических изгнанников сменили те, кто уклоняется от судебных вердиктов; все те, кто совершил подлог или обанкротился, все те, наконец, кто пытается в Париже спрятать свое лицо, а затем неожиданно исчезает с Гентского бульвара или площади Биржи, чтобы с гордо поднятой головой объявиться на Зеленой аллее в Брюсселе; и если только эти благородные беженцы умеют хоть немного писать, чтобы поставить на переводном векселе чужое имя, они кормятся за счет скандалов, распускают в какой-нибудь литературной клоаке клеветнические слухи о Франции, которая отбрасывает их прочь, как река – нечистоты, и в глазах чужестранца они являют собой постыдное зрелище блудного сына, который, вместо того чтобы раскаяться и смириться, при всех ежедневно плюет в лицо собственной матери; и потому я должен признать, что, со своей стороны, я отнюдь не порицаю недоверия бельгийцев на наш счет, и меня всегда удивляет, что, прежде чем протянуть французу руку, они не просят показать, нет ли у него на плече позорного клейма.
ВАТЕРЛОО
Отправляясь в Брюссель, я поставил себе главной целью посетить Ватерлоо.
Ведь не только для меня, но и для всех французов битва при Ватерлоо была не просто великим политическим событием, а одним из тех воспоминаний юности, которое оставляет глубокий и неизгладимый след на всю оставшуюся жизнь. Мне довелось увидеть Наполеона лишь дважды: в первый раз, когда он направлялся в Ватерлоо, второй – когда он оттуда возвращался.
Городок, в котором я родился и где жила моя мать, находится в двадцати льё от Парижа, на одной из трех дорог, ведущих в Брюссель, так что это была одна из артерий, по которым текла благородная кровь, обреченная вот-вот пролиться в Ватерлоо.
Уже три недели город напоминал военный лагерь; каждый день около четырех часов пополудни раздавались звуки барабана или трубы, мужчины и дети, которым не наскучило это зрелище, бежали на шум и возвращались, сопровождая несколько великолепных полков той старой гвардии, что считалась навсегда разгромленной, но теперь, при звуках голоса своего командира, казалось, восстала, словно призрак былой славы, из ледяной могилы: солдаты шли в своих старых потертых меховых шапках, держа в руках знамена, пробитые пулями Маренго и Аустерлица; на другой день проходило несколько великолепных полков егерей в высоких меховых шапках со свисающим набок длинным матерчатым языком или неполные эскадроны драгунов в пышных мундирах, которых сегодня не увидишь, ибо для мирного времени они, наверное, чересчур роскошны; еще через день раздавался приглушенный грохот приподнятых на лафетах пушек, от которого содрогались близлежащие дома, и все эти пушки, как и полки, которым они принадлежали, носили имя, предвещавшее победу. И не было среди них никого, включая слабый и почти уничтоженный отряд мамелюков, покалеченный обломок консульской гвардии, кто не стремился бы внести свою каплю крови в это гигантское человеческое жертвоприношение, которому предстояло свершиться перед алтарем отечества. И все это – под звуки патриотических мелодий, под пение старых республиканских песен, которые никогда не замолкают во Франции, песен, которые застревали в горле у Бонапарта и которые так надолго запрещал Наполеон, на этот раз оказавшийся к ним благосклоннее, ибо ему было понятно, что иначе он не найдет достаточной поддержки и должен взывать к воспоминаниям не о 1809-м, а о 1792 годе. Тогда я был еще ребенком, как уже было сказано: мне едва исполнилось двенадцать; не знаю, как действовало это зрелище, этот шум, эти ожившие воспоминания на других, но я пребывал в исступлении! Две недели я не мог заставить себя ходить в школу; я бегал по улицам и проезжим дорогам, словно лишившись рассудка.
И вот однажды утром, это было, кажется, 12 июня, мы прочли в газете "Монитёр":
«Завтра Его Величество император покинет столицу и отправится в расположение армии. Его Величество будет двигаться по направлению к Суасону, Лану и Авену».
Таким образом, Наполеон проследует той же дорогой, что и его армия: Наполеон проедет через наш город: я увижу Наполеона!
Наполеон! Это имя казалось мне великим, хотя идеи, которые он представлял, были мне совершенно чужды.
Я слышал, как его проклинал мой отец, старый республиканский солдат: он отослал назад герб, который был ему прислан, и ответил, что у него уже есть родовой и этого ему вполне довольно* Хотя это был достаточно красивый герб, чтобы присоединить его к гербу предков: на нем были изображены пирамида, пальмовое дерево и головы трех лошадей, которые были убиты под моим отцом во время осады Мантуи; девиз же его звучал спокойно и при этом твердо: "Без ненависти, без страха".
Я слышал, как его восхвалял Мюрат, один из немногих друзей, оставшихся преданным моему отцу, когда он оказался в опале; Мюрат, солдат, которого Наполеон сделал генералом, генерал, которого он сделал королем и который забыл об этом однажды, в то самое время, когда ему следовало все это помнить.
И наконец, я слышал, как его с беспристрастностью истории судил Брюн, мой крестный, воин-философ, который шел в бой, держа в руке томик Тацита, и всегда был готов пролить свою кровь за отчизну, независимо от того, какое имя носил человек, зовущий его на это: Людовик XVI или Робеспьер, Баррас или Наполеон.
Все это бурлило в моей юной голове, когда стал распространяться слух, пришедший из Парижа, да еще через официальный орган: через наш город проедет Наполеон.
Однако "Монитёр" пришел 15-го, так что Наполеона следовало ждать в тот же день.
Никто не собирался ни произносить длинных речей, ни возводить триумфальные арки: Наполеон спешил. Наполеон сменил перо на шпагу, от приказов перешел к действиям: Наполеон пронесся как молния, в надежде, что он будет разить как гром.
"Монитёр" не сообщал, в котором часу проедет Наполеон. С раннего утра весь город собрался в конце Парижской улицы; я с группой своих одногодков отправился вперед и расположился на пригорке, откуда дорога просматривалась на целое льё.
Мы стояли там с утра до трех часов пополудни.
В три часа вдали показался курьер. Он быстро приближался и вскоре поравнялся с нами.
– Так что, император едет? – окрикнули мы его.
Он протянул руку к горизонту и произнес:
– Вот он!
И в самом деле, мы заметили там две стремительно мчавшиеся кареты, каждая из которых была запряжена шестеркой лошадей. Кареты на мгновение скрылись из виду в лощине, а затем появились снова в четверти льё от нас. И тогда мы побежали к городу, крича на ходу: "Император! Император!"
Мы примчались, с трудом переводя дыхание и обогнав императора не больше чем на пятьсот шагов. Я подумал, что он не остановится, какой бы огромной ни была ожидавшая его толпа, и помчался на почтовую станцию; добежав до нее, я в полном изнеможении упал на каменную тумбу, но успел вовремя. Тотчас же из-за поворота показались взмыленные лошади, потом украшенные лентами возницы, потом сами кареты, а затем бежавшие за ними люди. Возле почтовой станции кареты остановились.








