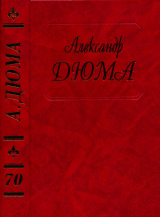
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
С этими словами он вернул меч г-ну Видеману, а затем обратился к г-ну Г..:
– Не окажете ли вы мне последнюю услугу – не проводите ли меня на эшафот?
Господин Г., утвердительно кивнул; он чувствовал, что если произнесет хотя бы слово, то разрыдается. Тогда Занд поднялся, опершись на его руку, и сказал, обращаясь к г-ну Видеману и другим присутствующим:
– Итак, господа, чего мы ждем? Я готов.
При этих словах г-н Видеман, ничего не ответив, первым пошел к двери. Занд, опираясь на г-на Г… пошел вслед за ним. Остальные двинулись следом за Зандом.
Занд спустился по лестнице и вышел во внутренний двор. У дверей стояла небольшая открытая карета, которую купили в Гейдельберге, не сказав, правда для каких целей: во всем Мангейме не нашлось ни одного каретника, согласившегося сдать внаем или продать карету, которая отвезла бы Занда на эшафот. В ту минуту, когда осужденный появился во дворе, все остальные заключенные прильнули к окнам и стали выкрикивать слова прощания. Не имея достаточно сил, чтобы ответить, Занд помахал им рукой и стал подниматься в карету.
Поставив ногу на подножку, он наклонился к г-ну Г..
– Вы сядете со мной, не так ли? – спросил он его.
– Я же обещал вам.
– Спасибо! И если вы заметите, что я слабею, произнесите шепотом мое имя, слышите? Этого будет довольно.
Затем он сел в карету. Господин Г., занял место рядом, и тюремные ворота открылись.
Улица была запружена народом, и, несмотря на прохаживавшиеся повсюду многочисленные патрули, толпа была так велика, что карета с трудом могла продвигаться вперед. В ту минуту, когда она появилась, все закричали в один голос:
– Прощай, Занд! Прощай, Занд!
И тотчас в карету полетели букеты, а те, кто стоял далеко и не мог добросить цветы, кидали их в толпу, и оттуда их передавали вперед.
Было пасмурно, и, хотя стояла самая лучшая пора года, май, всю ночь лил дождь. Еще слишком слабый, чтобы сидеть самостоятельно, Занд склонил голову на плечо г-на Г… Лицо его, как обычно, выглядело кротким, спокойным и страдальческим. У него был высокий лоб, его глаза были полны жизни, но он так настрадался за четырнадцать месяцев заключения, что всем своим обликом, если так можно выразиться, казался лет на десять старше. Однако время от времени он поднимал бледное лицо, обрамленное прекрасными черными волосами, и с улыбкой глядел на толпу; и тогда со всех сторон поднимался новый шквал неистовых криков, и каждый раз эти крики звучали столь душераздирающе и горько, что, слыша их, Занд, всегда такой спокойный и выдержанный, не мог сдержать слез, которые против воли текли у него из глаз.
Наконец, кортеж прибыл к месту казни. Как мы уже говорили, оно находилось в сотне шагов от проезжей дороги, посреди красивого луга, на пригорке, у подножия которого протекал ручей. Кортежу пришлось ненадолго остановиться, потому что подручные палача, которых не поставили в известность об изменении времени казни, расселись завтракать на эшафоте. Через несколько минут кортеж продолжил путь и карета подъехала к небольшой лестнице из восьми ступенек, которая вела на площадку.
Занд с полнейшим спокойствием оглядел эшафот, а затем повернулся к г-ну Г..
– До сих пор, – сказал он, – Господь давал мне силы.
И Господь давал ему силы до самого конца. Занд вышел из кареты и поднялся на эшафот, согнувшись от боли, но не издав ни единого стона. Поднявшись на площадку, он выпрямился, вытер влажный от испарины лоб, потом спокойно посмотрел на толпу сочувствующих ему людей, которые, казалось, сопровождали его сюда не из любопытства, а из чувства долга. Потом, переведя взгляд на эшафот, он произнес:
– Вот где окончатся мои страдания! Благодарю тебя, Господи, что ты дал мне силы добраться сюда.
И тут г-н Г., увидел, что он побледнел.
– Садитесь, Занд, – сказал он ему, – садитесь.
Занд сел, но почти в ту же минуту начали оглашать приговор, и он встал, потому что хотел выслушать его стоя, как это полагалось. Когда оглашение закончилось, он вытянул вперед руку и громко сказал:
– Я умираю, препоручив себя Господу…
Но его тут же перебил г-н Г… шепнув ему на ухо:
– Что вы делаете, Занд? Вы же обещали молчать.
– Да, верно, – ответил тот, – я совсем забыл. Впрочем, всем и так известно, что я умираю за свободу Германии.
Затем, скатав в комок носовой платок, которым он только что утирал предсмертный пот, Занд бросил его в толпу, как Конрадин – свою перчатку. В тот же миг платок был разорван на тысячу кусочков, и все, кому достались его обрывки, подняли руки, крича:
– Занд! Занд!.. Прощай, Занд!
Послышался грохот барабанов.
– Сударь, – сказал палач, – вы позволите мне отрезать прядь ваших волос?
– Разве это необходимо? – спросил Занд, живо поднеся руки к шее.
– Это для вашей матери.
– О! Тогда конечно, конечно! – воскликнул Занд.
Палач отрезал локоны, ниспадавшие на спину, и один за другим передал их ему. Занд взял их, сложил вместе, а потом пристально посмотрел на палача:
– Вы даете слово чести, господин Видеман, что это для моей матери?
– Слово чести! – ответил тот.
– Тогда вот они.
Оставшиеся волосы подняли на затылке и перевязали лентой.
– А теперь, – сказал палач, – необходимо, чтобы вы позволили связать вам руки.
– Связывайте, – сказал Занд, протягивая их.
Палач связал ему руки за спиной; но, поскольку в таком положении руки приговоренного были сильно стянуты и из-за раны он был вынужден опустить голову на грудь, пришлось развязать их и, положив на колени, закрепить в таком положении; благодаря этой новой позе, Занд смог снова поднять голову.
– Держитесь! – сказал ему палач.
– А вы сохраняйте твердость! – ответил Занд.
После этого короткого обмена словами наступила гробовая тишина. Меч сверкнул как молния и обрушился вниз. И тотчас в толпе раздался страшный крик: голова, лишь наполовину отделенная от тела, не упала на эшафот, а повисла на груди. Палач нанес второй удар и отсек голову целиком, но одновременно он отрубил и кисть руки, привязанную к левому колену.
В ту же минуту толпа, которую невозможно было остановить, смела цепь солдат и устремилась на эшафот; каждый обмакивал свой носовой платок в кровь, а те, кто подбежал позже, когда кровь уже была осушена, разломали стул, на котором сидел Занд во время казни: одни уносили щепки, другие солому; потом прибежали те, кому не досталось ни крови, ни обломков стула: они стали откалывать куски от досок эшафота, чтобы заполучить хотя бы их. Но тут, наконец, войска пришли в себя, оттеснили толпу, после чего голову и тело, положенные в один гроб, в сопровождении многочисленного военного эскорта отправили каретой в тюрьму.
В полночь труп казненного перевезли без факелов и свечей на небольшое протестантское кладбище, расположенное на дороге в Гейдельберг. Там, в уголке, была приготовлена незаметная для посторонних глаз могила. И правда, дерн был с предосторожностью снят на всю ее длину, а вырытую землю положили на кусок полотна; когда же гроб опустили и засыпали землей, а сверху положили дерн, всех присутствующих заставили поклясться никому не указывать место, где находится эта могила. Они поклялись и разошлись. Ворота кладбища закрылись за ними, оставшуюся землю высыпали в тюремном дворе, и все было кончено.
Что же касается луга, где казнили Занда, то с того самого дня он получил название, которое носит и поныне; народ называет его Зандс Химмельфартсвизе.
Это означает:
"Луг вознесения Занда".
ДОКТОР ВИДЕМАН
Как нетрудно понять, выяснение этих подробностей, частью предоставленных г-ном Г… а частью выписанных из официальных документов, отняло у меня весь вечер и часть следующего дня, поэтому я смог отправиться в Гейдельберг лишь в шесть часов вечера. Так что я снова сел в карету, горячо поблагодарив перед этим г-на Г… но мне не хотелось покинуть Мангейм, не сказав последнее прости Занду, и я попросил отвезти меня на маленькое кладбище, где он был похоронен.
Именно здесь, в двадцати шагах друг от друга, покоятся жертва и убийца, или, если кто предпочитает называть их иначе, предатель и мученик: Коцебу и Занд.
На могиле Коцебу, расположенной в центре кладбища, прямо напротив входа, стоит памятник странной формы: его основание представляет собой груду увитых плющом камней; на этой груде камней поставлен своим острием другой камень, обтесанный в форме ромба и поддерживаемый с двух сторон масками Комедии и Трагедии; на плоской части этого камня выгравирована следующая надпись:
Мир безжалостно преследовал его, клевета омрачила его жизнь, счастье он обретал лишь в объятиях жены, а покой обрел лишь на смертном одре.
Неусыпная зависть усеивала его путь терниями, а любовь расцвечивала розами.
Да простит его небо, как он простил землю.[42]
Поскольку уже давно участников ночного погребения Занда освободили от их клятвы и все те, кто обмакивал свои платки в его кровь, к настоящему времени тщательно отстирали их и одни стали теперь советниками, а другие – судьями, никто не считает в наши дни необходимым держать эту могилу в тайне, так что меня отвели к углу кладбищенской ограды и показали небольшую деревянную раму длиной в шесть футов и шириной в три, внутри которой, в грунте, растет дикая слива: это и есть могила Занда.
Я отломил веточку сливового дерева с могилы Занда, оторвал кусочек плюща с памятника Коцебу и унес их, обвив веточку плющом.
Мы снова проехали мимо луга, так как я хотел еще раз взглянуть на пригорок, на котором был сооружен эшафот; затем, погрузившись в мысли, подобные тем, какие некогда заставили Брута сказать, что добродетель – всего лишь слово, я сел в карету и продолжил путь в Гейдельберг.
Как ни велико было мое желание как можно скорее нанести визит г-ну Видеману, чтобы дополнить полученными от него сведениями рассказ г-на Г… прибыл я в этот университетский город в столь позднее время, что ни о чем другом, кроме ужина и ночлега, думать уже было невозможно; я так и поступил, попросив в гостинице, чтобы меня разбудили в восемь утра.
Едва проснувшись, я оделся и помчался к г-ну Видеману по адресу, указанному на рекомендательном письме, которое было при мне. Господин Видеман проживал на Большой улице, в доме № 111. Так что у меня не было нужды никого расспрашивать, и я сразу нашел этот дом. Перед дверью я на мгновение остановился. Признаться, мысль о необходимости докучать палачу в его собственном доме, выпытывая у него сведения о казни, пробудила во мне все присущие французам предрассудки; но я приехал так издалека не для того, чтобы отступить: протянув руку, я позвонил в небольшую дверь, которая вела в узкий проход между домами.
Мне открыла старуха; проход тянулся в сад. В середине коридора, образованного проходом, располагалась каменная лестница, которая вела на второй этаж. У подножия лестницы, по левую сторону от нее, была дверь. Старуха открыла ее и пригласила меня войти, сказав, что г-н Видеман сейчас спустится.
Комната, в которую меня ввели – очаровательная гостиная, одновременно служившая библиотекой, – была оклеена бумажными обоями небесно-голубого цвета в белый цветочек. На каминной доске и на полках было выставлено множество диковин: чучела птиц, гадюки, обвившиеся вокруг невысоких деревцов, перламутровые и пурпурные раковины, и, наконец, среди всего этого были развешены в форме трофея ружье, ягдташ и пороховница, указывающие на то, что хозяин дома – охотник. Я разглядывал все эти предметы, не имеющие, как видно, никакого отношения к профессии человека, к которому я пришел с визитом, как вдруг послышался звук отворяющейся двери. Я повернулся и оказался лицом к лицу с г-ном Ви-деманом.
Это был красивый молодой мужчина лет тридцати – тридцати двух, смуглолицый и черноволосый, с бакенбардами, подстриженными таким образом, что они обрамляли все его лицо. Он подошел ко мне, продемонстрировав превосходные манеры, и спросил, чем он обязан такой неожиданной чести.
Признаться, в ту минуту я не нашелся, что ответить, и лишь протянул ему письмо пастора Д… Он прочел его, а потом снова поклонился:
– Я к вашим услугам, сударь, и готов ответить на любой вопрос, который вам будет угодно мне задать. К несчастью, я не вызываю большого интереса как палач, – добавил он с легкой иронической улыбкой, – принимая во внимание, что мне не довелось еще совершить ни одной казни; но не стоит за это на меня обижаться, сударь: это не моя вина, а вина славных немцев, которые не совершают преступлений, или же вина великого герцога, который, будучи превосходным государем, готов помиловать кого только можно.
– Сударь, – сказал я ему в ответ, – я пришел увидеться с доктором Видеманом, сыном человека, который был принужден выполнить страшную миссию, но, выполняя ее, до последней минуты проявлял по отношению к несчастному Занду знаки уважения, хотя это могло доставить неприятности тому, кто так достойно себя вел.
– В этом нет большой его заслуги, сударь; все любили и жалели Занда, и, конечно же, если бы отец полагал, что его самопожертвование может спасти юноше жизнь, он скорее отрубил бы себе правую руку, чем казнил бы его. Но Занд был приговорен, и он должен был понести наказание.
– Я знаю, что ваш отец облегчил, насколько это было возможно, последние минуты его жизни; так что в этом отношении, сударь, вы вряд ли сообщите мне что-то новое: все это мне рассказал господин Г… Но мне подумалось, что, возможно, существуют какие-то ускользнувшие от него подробности, а поскольку я собираюсь написать о Занде, то хотелось бы узнать их от вас.
– Я был тогда еще совсем юным, – ответил г-н Виде-ман, – мне едва исполнилось четырнадцать лет, и потому в моей памяти мало что сохранилось. Единственная подробность, которую я могу вам сообщить, если для вас она сколько-нибудь интересна, это то, что мой отец попросил построить на его собственные средства новый эшафот, дабы сохранить тот, на каком был казнен Занд, и чтобы какой-нибудь заурядный убийца не обесчестил эшафот, обагренный кровью этого благородного и несчастного юноши. Когда просьба отца была удовлетворена, он велел сделать из досок эшафота Занда ставни и двери своего деревенского дома.
– А далеко отсюда этот дом?
– В миле от города, среди виноградников, слева от дороги в Карлсруэ; это маленький белый домик с красной крышей, серыми ставнями и круглым слуховым окном над дверью. Если вам будет любопытно туда поехать, вы его тотчас же узнаете; впрочем, вам любой его покажет. Двери и окна в доме изрезаны, потому что в течение пяти или шести лет он был местом паломничества студентов, которые лезвиями своих ножей откалывали от них щепки; но затем мало-помалу посетители начали появляться все реже и реже, а в конце концов перестали приходить совсем. Поэтому, сударь, не удивляйтесь, что вначале я встретил вас несколько холодно и, возможно, не совсем надлежащим образом; но, вероятно, уже лет десять никто не говорил со мною о бедном Занде, так что воспоминания о нем, если и не забылись, то, по крайней мере, притупились.
– Благодарю вас, сударь, но мой визит был сам по себе достаточно бесцеремонным, чтобы вызвать еще более холодный прием, нежели тот, что вы мне оказали. Спасибо за сведения, которые вы мне предоставили; я непременно съезжу посмотреть на этот домик, ставший необычным памятным свидетельством того интереса, который вызывал к себе Занд. Но у вас во владении должно быть и нечто другое, что мне очень хотелось бы увидеть, хотя я не знаю, как вам об этом сказать.
– Что другое? – спросил г-н Видеман со слегка иронической улыбкой, которую я подметил у него еще прежде.
– Замечу, – ответил я, – что вы не поощряете мое желание обратиться к вам с этой просьбой.
Выражение его лица изменилось.
– Простите, – сказал он, – я был неправ. Что именно вы хотите увидеть? Мне доставит удовольствие показать вам это.
– Меч, которым был обезглавлен Занд.
Лицо г-на Видемана залилось краской. Но, словно смахивая ее, он тут же тряхнул головой.
– Я покажу вам его, сударь, – сказал он, – но вы увидите, что он в очень плохом состоянии. Слава Богу, им не пользовались уже двенадцать лет, а что касается меня, то я возьму его в руки впервые. Я бы велел одному из своих помощников его почистить, сударь, если бы заранее знал, что вы окажете мне честь своим визитом; но вы меня простите, вам ведь известно лучше, чем кому-либо другому, что ваш визит застал меня врасплох.
С этими словами г-н Видеман поклонился и вышел, оставив на моем лице выражение куда большего замешательства, чем то, что читалось на его лице. Однако, раз уж мне пришлось взять на себя эту глупую роль, я решил доиграть ее до конца.
Через минуту г-н Видеман вернулся, держа в руках длинный меч без ножен, более широкий у острия, чем у гарды; лезвие его было полым и содержало некоторое количество ртути, которая, устремляясь от рукоятки к острию, придавало удару большую силу. На некоторых частях лезвия, в самом деле, образовалась ржавчина; как известно, ржавчина почти всегда появляется в тех местах, которые были запачканы кровью.
– Вот меч, который вы хотели посмотреть, сударь.
– Я снова приношу извинения за мою бесцеремонность и еще раз хочу поблагодарить вас за вашу любезность.
– Ну что же, сударь, если вам и в самом деле кажется, что вы чем-то обязаны мне за эту любезность, позвольте мне потребовать за нее плату.
– Какую, сударь?
– Помолитесь вместе со мной Богу, чтобы мне приходилось касаться этого меча исключительно ради удовлетворения любопытства чужестранцев, которые соблаговолят почтить своим визитом бедное жилище гейдельбергского палача.
Я понял, что пришло время уходить. Дав обещание г-ну Видеману выполнить то, что он просил, я поблагодарил его и вышел.
Впервые в жизни меня столь безоговорочно оставили в дураках, причем за все время получасового разговора мне так и не представился случай отыграться.
Впрочем, я все же сдержал обещание, данное г-ну Видеману, и, по всей видимости, наша общая молитва оказалась действенной, поскольку я не слышал, чтобы после моего визита ему пришлось очищать меч от ржавчины.
ГЕЙДЕЛЬБЕРГ
В этом университетском городе я снова увидел точно такие же типажи студентов, какие мне уже довелось наблюдать в Бонне: внешне они отличаются друг от друга лишь формой курительных трубок.
Был еще достаточно ранний час для того, чтобы успеть перед завтраком посетить здешние развалины. Так что я принялся взбираться в гору, и через четверть часа мы уже стояли во дворе пфальцграфского замка. Как и в случае с Кёнигштейном, эти руины – дело наших рук, однако они относятся ко временам Людовика XIV и восходят к войне за Пфальцское наследство; развалины эти определенно принадлежат к числу самых красивых и живописных, какие есть на свете.
Внутри замка (ибо несколько комнат там еще заперты и обитаемы) сохранились две достопримечательности, одна из которых интересна для антиквариев, а другая для любителей выпить: это кабинет г-на Карла фон Граймберга и большая бочка Карла Теодора.
Тридцать лет назад г-н фон Граймберг вошел в развалины Гейдельберга, намереваясь осмотреть их; он оставался там в течение целого дня и вернулся туда на второй день, на третий, пока, наконец, не обнаружил какую-то маленькую комнатку, из окна которой открывался такой дивный вид, что он попросил принести в нее кровать. С того самого времени он там и поселился.
С той поры г-н фон Граймберг с необычайным упорством собирал все, имеющее отношение к замку и городу Гейдельбергу: книги, гравюры и картины, так что его комнатка, к которой теперь присоединены еще три или четыре других, превратилась в настоящую галерею, и он с крайней любезностью всегда торопится показать ее путешественникам.
Что же касается большой бочки, то ее история гораздо длиннее, поскольку это история целой династии: существовала большая бочка I, большая бочка II, большая бочка III и большая бочка IV.
Большая бочка I обязана своим появлением на свет Иоганну Казимиру, прозванному Благочестивым. Как-то раз, когда он стоял на верхней террасе замка, откуда открывается вид на уходящие к самому горизонту долины и холмы, сплошь покрытые виноградниками, ему, как Горацию, пришла в голову мысль воздвигнуть себе памятник. Этим памятником и стала большая бочка.
Иоганн Казимир пригласил ко двору всех без исключения бочаров и объявил им, что он желает иметь такую огромную бочку, какую еще никто никогда не видел; при этом он предоставлял им полную свободу и открывал им неограниченный кредит в своем казначействе. Мастера, задетые за живое, стали наводить справки о том, что лучшее в этом роде есть на свете. Узнав, что существуют большие фламандские бочки, вмещающие от тридцати до сорока тысяч бутылок, они пожали плечами и принялись за дело. Через полгода бочары пригласили Иоганна Казимира взглянуть на их творение, которое они только что отделали начисто. Большая бочка вмещала сто пятьдесят тысяч бутылок.
Иоганн Казимир был чрезвычайно доволен тем, что получилось, и, рассудив, что ничего лучше ему уже не сделать, принял решение умереть, чтобы остаться на вершине славы.
Если восторженные путешественники, восхитившись этим творением, пожелают составить себе представление
0 его создателе, они обнаружат его статую во дворе замка, на нижнем этаже часовни, построенной его племянником: это та статуя, голова которой, почти отделенная от тела, откинута назад в глубину ниши. В это плачевное состояние фигуру привел какой-то подлый снаряд, выпущенный из шведской пушки в 1633 году от воплощения Господа Бога Иисуса Христа.
К несчастью, с бочкой Иоганна Казимира произошло то, что происходит со всяким творением рук человеческих: политические события отвлекли от нее внимание, ее забыли наполнить, она рассохлась, растрескалась и лопнула; так что когда по окончании Тридцатилетней войны курфюрст Карл Людвиг лично спустился в свои подвалы, чтобы увидеть собственными глазами, в каком состоянии находится диковина Иоганна Казимира, на общем совете было решено, что разумнее будет изготовить новую бочку. Такое решение весьма отвечало причудам курфюрста Карла Людвига, которому лавры дядюшки не давали спать спокойно. Он велел соорудить новую бочку, которая как размером, так и богатством отделки должна была затмить первую. Мастера взялись за дело, и в 1664 году большая бочка II была готова; она на треть превосходила прежнюю и вмещала двести двадцать тысяч бутылок.
"Помимо прочего, – гласит история, – перед бочкой восседала на лежащем льве фигура Бахуса, увенчанного ветвями виноградной лозы и пребывающего во хмелю, как и подобает родоначальнику пьянства; казалось, он взывает к пьяницам, с победоносным видом протягивая им правой рукой огромный чеканный сосуд, а левой – не менее внушительных размеров кубок",[43]
Кроме того, наверху бочки соорудили обнесенную перилами площадку, на которой четыре человека могли бы свободно станцевать кадриль.
Поэты пожелали внести свой вклад в создание отечественного творения, восславив Карла Людвига. На боковой стороне исполина было выгравировано множество четверостиший, в которых стихотворцы предсказывали друг другу бессмертие, и славный курфюрст успокоился, уверенный в том, что время не властно над его именем после того, как создано подобное чудо. Время, однако, восторжествовало над самим чудом.
Карл Людвиг выдал свою единственную дочь Елизавету Шарлотту замуж за Месье, брата Людовика XIV. Когда курфюрст Карл, сын Карла Людвига, умер после недолгого правления, не оставив потомства, Филипп Орлеанский предъявил права на семейное наследство, целиком принадлежавшее его жене и дававшее ей право голосовать в имперском сейме. Ему ответили, что в Германии не принято, чтобы женщины наследовали ленные владения, и, следственно, он должен быть удовлетворен полученным им приданым. Но поскольку, несмотря на законность этих доводов, Месье удовлетворен не был, он пожаловался брату, и Людовик XIV развязал знаменитую войну за Пфальцское наследство.
Для Гейдельберга это обернулось пожаром 1689 года. А когда горит замок, то, какие бы меры предосторожности ни принимали, пожар дает себя знать и в его подвалах: жар пламени дошел до бочки Карла Людвига, она затрещала и растрескалась.
К несчастью, все были заняты более неотложными делами, чем бежать на ее стоны, да и к тому же она была такого крупного телосложения, что перенести ее в другое место было невозможно. Таким образом, ее оставили под охраной Господа, и Господь, который в это время, вероятно, должен был охранять что-то более ценное, допустил, что несчастная бочка покоробилась, растрескалась и лопнула, подобно своей предшественнице, большой бочке I. В этом плачевном состоянии она пребывала сорок лет.
Наконец, благодаря Рисвикскому миру, вернувшему Иоганну Вильгельму владения предков, курфюрсты получили обратно не только Гейдельбергский замок, но и развалины Гейдельберга. Карл Филипп услышал предание о гигантской бочке, погребенной в подвалах замка; им овладело любопытство, он решил отправиться туда и, велев расчистить лестницы, с великим трудом добрался до исполина.
Карл Филипп был ценителем красоты: его потрясло величие, которое даже в своем несчастье сохраняла большая бочка II. И как благочестивый сын он решил обновить творение своих предков, вследствие чего в 1727 году, под надзором придворного бочара Энглера, диковина Карла Людвига – переделанная, исправленная и значительно увеличенная в размерах – снова появилась на свет, уже под названием большой бочки III.
Но на этот раз бочке с ее возобновленным величием дали достойную охрану: статую шута Перкео, который никогда не ложился спать, не выпив за день восемнадцать-двадцать бутылок вина; о лучшей охране не приходилось и мечтать.
Увы, большие бочки умирают, как и короли. Вследствие несчастья, которое история вакхической династии приписывает злому року, после двадцати трех лет царствования большая бочка III скончалась, пораженная невидимой трещиной, через которую вытекало все ее содержимое.
Это несчастье произошло в царствование Карла Теодора, около 1750 года.
Карл Теодор имел в отношении наследственных прав на престол самые твердые принципы: он приказал, чтобы все было готово к торжественному восшествию на трон большой бочки IV; но, наученный опытом прошлого, он учел все, чтобы обеспечить этой четвертой царственной особе долгое и безмятежное царствование.
Мастера превзошли сами себя, и большая бочка IV появилась на свет в 1751 году, поглотив в свое гигантское чрево двести тридцать шесть обычных бочек, то есть около трехсот тысяч бутылок.
Именно этот исполин, которому посчастливилось больше, чем его предшественникам, и удалось пережить войны и революции, предлагается сегодня вниманию любопытствующих путешественников, для большего удовольствия которых по его бокам установлены приставные лесенки, лестницы и галереи. Между ним и статуей Перкео поставили обычную бочку, кажущуюся игрушечной. Однако, по мнению истинных знатоков, несчастная карликовая бочка во многом превосходит надменного великана: ведь она полная, а он пустой.
Это выглядит как символ народа и некоторых монархий XIX века.
Поскольку у нас стало возникать ощущение, что наши желудки так же пусты, как ее величество большая бочка IV, мы вернулись в гостиницу и услышали, что из студенческой залы доносится сильный шум. Утром у студентов состоялась превосходнейшая дуэль, и теперь они без конца пили пиво за победителя и за выздоровление побежденного; все это сопровождалось оглушительными криками "Ура!" и "Виваллераллера!".
Прежде, то есть с 1806 по 1820 годы, студенчество делилось на три королевства.
Существовал король Убийц, своего рода Горный Старец; ему подчинялись иллюминаты, которым надлежало с помощью кинжала освобождать мир от предателей и тиранов. То было веление времени.
Существовал король Шпаги, своего рода Дон Кихот, который должен был сражаться, по меньшей мере, трижды в неделю, дабы упражнять руку и удерживать власть над своим королевством.
И наконец, существовал Пивной король, запойный пьяница, который должен был пить, не ограничиваясь тремя, шестью или двенадцатью бутылками, выпитыми подряд, а занимаясь этим безостановочно.
В зависимости от своих склонностей: республиканских, рыцарских или вакхических – студенты присоединялись к одному из этих трех властителей. Были и такие, которых природа наградила столь щедро, что они могли присоединиться сразу ко всем трем. Эти вызывали всеобщее восхищение; когда они проходили мимо, на них указывали пальцем, и самые старые замки, даже замшелые твердыни расступались перед ними на мостовой, а уж с тем большим основанием, разумеется, это делали лисы, зяблики и филистеры.
Король Убийц скрылся из виду. Возможно, его величество еще пребывает в каком-нибудь подземелье Баварии, в каком-нибудь старинном замке Франконии или в чаще Шварцвальда; но, как бы то ни было, о нем больше ничего не слышно.
Что же касается двух других королей, то они процветают, и, хотя дуэли строго запрещены, не проходит и недели, чтобы в каждом университете не состоялось трех или четырех поединков. Впрочем, как заверяют наши законники, эти дуэли, хотя обычно и кровопролитные, редко бывают опасными для жизни. Я встретил в Гейдельберге одного пожилого доктора хирургии, который рассказал мне, что за те почти пятьдесят лет, что он живет в городе, ему довелось столкнуться лишь с двумя смертельными исходами: пьяницы погибают куда чаще, чем дуэлянты; это доказывает, что пиво усваивается здесь труднее, чем сталь.
По правде сказать, в том, как некоторые студенты пьют, есть что-то фантастическое. Например, нынешний Пивной король Гейдельбергского университета может опорожнить на выбор двенадцать бутылок пива или шесть бутылок вина, то есть двенадцать бутылок сока хмеля или шесть бутылок виноградного сока, за то время, пока часы бьют полдень. Его обычное прозвище – der trichter, что означает «воронка».
Впрочем, жизнь студентов довольно однообразна. На рассвете студиозус быстро проводит дуэль, если ему посчастливилось ее устроить. В противном случае, он выступает секундантом своего более удачливого приятеля; затем он завтракает, после чего идет на занятия по философии, теологии, медицине или ботанике. В одиннадцать он отправляется в фехтовальный зал, в полдень обходит город и прогулочные аллеи, выпуская как можно больше дыма с помощью своей трубки и издавая как можно больше шума с помощью своих шпор. С двух до трех он иногда изучает какой-нибудь специальный предмет, после чего у него остается время до полуночи, чтобы дразнить собак, приставать к девушкам, проклинать бюргеров и готовиться к завтрашней дуэли.
Если студент принимает вызов, он приходит в трактир, чтобы отыскать там секундантов, и вместе с ними судит в соответствии с правилами, изложенными в "Распорядке",








