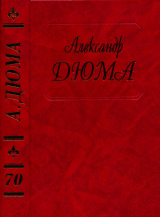
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)
Гора Сальваторберг осталась в большей степени верна своим старым порядкам, и на ней видны лишь развалины древней церкви, построенной Лотарем I, а также нечто вроде фермы, уж не знаю кому принадлежащей.
Мы вернулись в Ахен через Кёльнские ворота, и по моей просьбе кучер остановился возле проулка Домовых; свое название Хинценгесшен эта небольшая улица приобрела благодаря другому старинному преданию.
Давным-давно в Лимбурге, на том самом месте, где сегодня лежат развалины замка Эммабург, которые из-за жесткой дисциплины, установленной Фридрихом Вильгельмом, я смог увидеть, лишь рискуя свернуть себе шею, находилось огромное подземелье, конца-краю которого никто никогда не видел; это подземелье, казавшееся пустынным днем, ночью превращалось в жилище тех добрых домовых из семейства Трильби, историю которых нам рассказал Нодье; эти славные дети Земли, известные своими невинными хитростями и безудержным весельем, собирались с заходом солнца и до часа ночи сидели за длинными столами, распевая песни на неведомом языке и чокаясь маленькими золотыми кубками, звон которых настолько напоминал звяканье колокольчиков, что однажды какой-то пастух, потерявший свою телку и решивший, что она забрела в подземелье, спустился туда на эти звуки и увидел весь этот веселый подземный народец, который распивал изысканные вина и распевал шальные песни. И тогда он понял, что эти звуки, которые ему показались звяканьем колокольчика его телки, были звоном маленьких золотых кубков, и тотчас убежал; причем домовые, хотя и видели его, не причинили ему ни малейшего вреда.
Правда, они надеялись, что пастух будет держать язык за зубами, но, выйдя из подземелья, он первым делом отправился к своему духовнику, чтобы рассказать ему о маленьких бесенятах, любящих так хорошо поесть; духовник был монахом строгих правил, который не жаловал тайные праздники и считал, что развлекаться можно лишь в дни, дозволенные календарем. Он устроил сбор пожертвований, собрал значительную сумму, и на том самом месте, где пастух вошел в подземелье, построил церковь, водрузил крест на ее куполе и со всей торжественностью, в сопровождении духовенства, отправился в нее, чтобы отслужить там обедню, а затем, в соответствии с обрядом, провести изгнание бесов.
Но все эти церемонии оказались ненужными: с первыми же ударами колокола несчастным бесенятам-домовым пришлось спешно убраться из подземелья.
Однако изгнанники, оставшись без своего старого пристанища, избрали себе новое жилище, и, в то время как пастух, наказанный за свою болтливость, умирал от затяжной чахотки, они обосновались в подземелье башни, расположенной между Кёльнскими воротами и воротами Занд-Кауль. Но, увы, бедные бесенята, второпях покидая старое жилище, не успели захватить с собой домашний скарб, которым оно было заполнено; и вышло так, что у них не осталось ни серебряных блюд, ни золотых кубков; и теперь каждый раз, когда они отмечали какой-либо праздник, им приходилось заимствовать котелки, кастрюли и стаканы у жителей соседних улиц; войдя в дом через дымоход, они со страшным шумом уносили нужную им утварь, а наутро хозяева обнаруживали ее аккуратно сложенной у порогов своих домов. И тогда эти хозяева поняли, что когда какие-нибудь признаки вроде потрескивания огня в очаге, ржанья коней или позвякивания кухонной посуды дают знать о приближении праздника у домовых, то лучше самим выставлять у дверей домов утварь, которую ночные посетители имели обыкновение брать во временное пользование, и впредь так и поступали. Признательные домовые перестали шуметь, и жители соседствующих с башней улиц могли, наконец, спать спокойно.
Но однажды вечером двое бравых солдат, которые квартировали на постоялом дворе Соваж, расположенном на той самой улице, что сегодня называется улочкой Домовых, увидели, как хозяин постоялого двора, проявляя особое усердие, чистит свои кастрюли, а потом, надраив их до блеска, выставляет на пороге дома. Они спросили у него, для чего он так старается, и, узнав, что делается это ради домовых, принялись хохотать, а поскольку то были люди бесстрашные, не верившие ни в Бога, ни в черта, они сказали ему:
– Ну ладно, забирай назад свои кастрюли, мы сами встанем у дверей, и, когда пожалуют домовые, вместо кухонной утвари их будут поджидать острые шпаги.
Хозяин изо всех сил старался отговорить их от этого безрассудства; но солдаты, подкрутив усы, принялись богохульствовать, так что хозяину пришлось отступиться и не мешать им исполнять задуманное.
Когда настала ночь, солдаты и в самом деле встали у двери, которую хозяин запер за ними; ему было слышно, что какое-то время они дружески переговаривались, а потом, часов в десять вечера, стали повышать друг на друга голос, потом начали спорить, а потом скрестили оружие; какое-то время он слышал, как звенят клинки, но затем внезапно все стихло и наступила полная тишина.
Наутро с приходом зари хозяин вышел на улицу и обнаружил обоих солдат мертвыми: они закололи друг друга.
Никто ни минуты не сомневался в том, что это месть домовых; и потому, когда слух об этой истории дошел до монаха, он замыслил изгнать домовых из города, как прежде изгнал их из Эммабурга; вооружившись кропильницей и кропилом, он спустился в подземелье башни и все его окропил святой водой, сопровождая каждое движение кропила чудодейственной молитвой, с помощью которой он уже изгонял домовых.
С тех пор домовые исчезли из Ахена, и никто не знает, что с ними сталось; но, в память об их пребывании в подземелье башни, улица, на которой нашли двух мертвых солдат, теперь называется Хинценгесшен, или проулок Домовых.
Поскольку осматривать в Ахене нам больше было нечего, мы с чистой совестью вернулись в гостиницу "Великий Монарх", имея твердое намерение отправиться в путь на следующее утро и заночевать уже в Кёльне.
И так как домовые не стали мешать осуществлению этого плана, назавтра мы привели в действие первую его часть, покинув Ахен в шесть утра.
КЁЛЬН
В Кёльн мы приехали в десять вечера. Поскольку наш кучер совершенно не знал города, он завез нас в лабиринт улочек, которые в конце концов вывели к какому-то притону, именуемому гостиницей «Голландия». Когда в Германии незадачливый путешественник попадает в гостиницу в неурочное время, он оказывается пойман там, как мышь в мышеловке. За ним захлопывается дверь, и приходится ждать следующего утра, чтобы узнать, что ему было уготовано. Однако испытанные нами неудобства пошли на пользу любопытству: назавтра, на рассвете, мы уже были на улицах Кёльна.
Кёльн обязан своим возникновением римскому военному лагерю. В один прекрасный день Агриппа счел расположение этого места удачным и обосновался на холме, который тянется от церкви Богоматери до площади Святой Марии-на-Ступенях. Римские лагери со своими рвами, оборонительными стенами и башнями являли собой настоящие крепости. И потому несколько боязливых лачуг, выросших на восточном берегу Рейна, преодолели водную преграду и пристроились возле римского лагеря, надеясь, что он их защитит. Остальные, одна за другой, последовали их примеру, так что, когда по прихоти судьбы здесь во время походов Германика родилась Агриппина, древний лагерь Агриппы уже оказался в окружении домов. Это послужило для Клавдия поводом основать здесь римскую колонию, получившую название Колония Агриппины, что придало военному лагерю городской облик. Позднее Вителлий был провозглашен здесь императором, и с тех пор город стал числиться в римских летописях и занял место в мировой истории.
Еще сегодня там можно увидеть развалины четырехугольной в плане стены, возведенной римлянами, этими великими строителями, и не составляет труда определить границы колонии Агриппины в то время, когда оттуда ушел Траян, которого призвал Нерва, чтобы разделить с ним власть, то есть к концу первого века.
С тех пор Кёльн, ставший столицей Нижней Рейнской Галлии, расценивался как значительный город: император Константин построил там великолепный мост, арка которого исчезла, но опора еще видна, когда уровень воды в Рейне понижается.
Между двумя этими периодами, примерно в 220 году, нашествие готов грозило снести с лица земли зарождающийся город: именно с этим нашествием связана легенда об одиннадцати тысячах девственниц.
В 508 году Хлодвиг был провозглашен в Кёльне королем. Именно через этот город и через предместье, носящее название Дёйц, происходило вторжение рипуарских франков. Пипин, перед тем как стать королем франков, был герцогом Кёльнским; Карл Великий, как известно, часто посещал этот город; и наконец, Оттон Великий присоединил его к Германской империи, даровал ему большие привилегии и отдал его под покровительство своего брата Бруно, архиепископа Кёльнского и герцога Лотарингского.
В средние века, к концу XIV века, Кёльн, по-прежнему развиваясь, превратился в самую надежную опору союза городов, именуемых ганзейскими. Он один мог выставить 50 000 воинов и насчитывал 11 коллегиальных и 19 приходских церквей, 58 монастырей, 49 часовен и 16 больниц.
В XV веке начался упадок Кёльна; Фландрия, Брабант и Голландия подрывают его торговлю; религиозные гонения отнимают лучшую часть его крови; и наконец, в 1794 году Кёльн оказывается включенным в состав Французской республики. Вплоть до этого дня, то есть в течение более чем шестнадцати веков, он сохранял римский патрициат, тоги консулов и ликторов с их фасциями. В 1814 году его заняли русские, но через год они уступили его пруссакам, которые на всякий случай построили укрепления, добавив к восьмидесяти трем уже имевшимся башням еще семь. Впрочем, эти фортификационные работы имели странную цель, которая последовательно проводилась в жизнь на всех рейнских рубежах: скорее угрожать городам, нежели защищать их.
И в самом деле, рейнские провинции, насильственно отделенные от Франции и переданные его величеству Фридриху Вильгельму в качестве расширения территорий, лишь на живую нитку пришиты к Пруссии и по первому же зову сами от нее оторвутся. И без того отделенный от своих подданных религиозной пропастью, которая вследствие гонений все углублялась и сократить которую могла лишь веротерпимость, их новый повелитель, вместо того, чтобы оставить здешним жителям кодекс Наполеона, действовавший у них в течение двадцати лет; вместо того, чтобы избрать среди них государственных чиновников, призванных ими управлять; вместо того, наконец, чтобы позволить им свободно исповедовать свою религию, которую они получили от предков и хотели бы передать детям, постепенно отнимает у них французские законы, заменяя их прусским деспотизмом, находит правительственных служащих вовсе не на тех территориях, которыми им поручено управлять, и хочет, чтобы сын каждого протестанта следовал религии отца, что, возможно, было бы разумным для всякой другой страны, но здесь, где все жизненные перспективы открываются лишь благодаря брачному союзу с иностранцем, а все иностранцы являются лютеранами, становится проявлением высшей несправедливости.
Именно против этого последнего решения, понимая всю его важность, выступил архиепископ Кёльнский Клеменс Август, сумевший прослыть мучеником в то время, когда в мученичество уже никто более не верил. Ссылаясь на духовную власть, которой его наделил папа римский, архиепископ объявил, тем самым противопоставляя себя мирской власти короля, что он разрешает впредь священникам благословлять смешанные браки лишь после того, как отцы, вопреки королевскому указу, возьмут на себя строгое обязательство воспитать своих детей в католической вере, и напомнил, что за неимением католических священников есть лютеранские пасторы, а для тех, кто считает венчание перед лицом Господа ненужным, остается брак перед лицом закона. Через несколько дней после этого заявления гражданский губернатор провинции и полковник жандармерии, пребывавшие в Кобленце, приехали в Кёльн и в сопровождении бургомистра города явились к архиепископу. Будучи допущены к Клеменсу Августу, они строго предписали ему следовать распоряжениям правительства. Архиепископ ответил, что в делах мирских он действительно подчиняется королю, но в вопросах духовных подвластен только Риму. Тогда ему приказали отказаться от архиепископства; но он ответил, что поскольку на эту должность его назначил папа, то лишь папа вправе отрешить его от нее. После этих слов его взяли под стражу и препроводили в крепость Минден, где, правда, он оставался свободен, но свободен в протестантском городе, а прислуживали ему двое солдат, переодетых в штатское платье.
Невозможно представить себе, какие последствия имел этот арест; словно нервная дрожь пробежала по всей цепи городов, впавших в оцепенение под гнетом чужеземного владычества, и они вдруг проснулись, вспомнив времена собственной свободы. Под предлогом наблюдения за бельгийцами и голландцами, находившимися в то время в состоянии тяжбы из-за Лимбурга и Люксембурга, прусские войска продвинулись к берегам Рейна; крепость Эренбрайтштейн, господствующая над Кобленцем, средоточием волнений, наполнилась порохом и ощетинилась пушками, все жерла которых, по мере того как они незаметно выдвигались на огневую позицию, словно сами по себе поворачивались в сторону левого берега Рейна. Принц Вильгельм, посланный туда с надуманной миссией провести смотр войск, остановился в Кёльне, где его освистали, а затем отправился в Кобленц, чтобы принять участие в празднике, который провинция устраивала в честь генерала Борстеля. Вот по какому случаю устраивали этот праздник, и вот что там произошло.
Старый генерал Борстель, командовавший войсками в Кобленце с 1827 года, заканчивал пятидесятый год своей службы; по этому случаю провинция устроила праздник, на который съехались представители всех рейнских городов и всех административных ведомств. После смотра войск, который генерал провел на главной площади и по завершении которого принц Вильгельм подвел к нему полки, словно во второй раз возлагая на него командование ими, состоялся торжественный обед. За десертом, пытаясь снова привлечь к себе внимание и сорвать аплодисменты, достававшиеся исключительно генералу, принц Вильгельм спросил, обращаясь к присутствующим, не помнит ли кто-либо из них какую-нибудь старинную песню о Рейне. И тогда поднялся один из гостей и пропел куплеты, которые я привожу ниже, в точности сохраняя в переводе их простоту, но избегая их первозданной грубости:
Так воспоем величие реки,
Принесшей нам привет от вольного народа!
Рейн воспоем, чьи воды глубоки,
Рейн, словно дар морям, катящий эти воды.
Он, плодоносный берег орошая,
Течет, чтоб гроздь созрела золотая.
Рейн издавна душа вина.
Рейнвейн – двух слов союз природой данный. Так пусть они приводят в дрожь тирана!
Так воспоем могущество вина!
В его благом хмелю, как братья, все равны мы.
Рабу свобода во хмелю дана,
Всем угнетателям он враг непримиримый.
Любовь, дремавшая в стакане, наконец,
Лачугу чудом превращает во дворец.
Рейн издавна душа вина.
Рейнвейн – двух слов союз природой данный. Так пусть они приводят в дрожь тирана!
Владык крикливо славит весь народ,
Стыд рабства своего сам от себя скрывая.
Обману не поддастся только тот,
Кого поит рейнвейн, стихия огневая.
Те, в чьих сердцах понятье чести живо,
Не могут без свободы быть счастливы.
Рейн издавна душа вина.
Рейнвейн – двух слов союз природой данный.
Так пусть они приводят в дрожь тирана![24][25]
Эти три куплета были встречены бешеными аплодисментами, которые и на сей раз были адресованы не принцу Вильгельму, так что он удалился сильно раздосадованный, после чего под тем же предлогом необходимости наблюдения за бельгийскими границами были приведены в движение новые войска; вследствие всего этого, города, стоящие на левом берегу Рейна, от Кельского моста до Нимвегена, представляют собой лишь длинную пороховую дорожку, которая может воспламениться от любой искры. И если пожар вспыхнет, то сомнительно, особенно в том случае, если сохранится его религиозная подоплека, чтобы он не перекинулся если и не на правительство, то, по крайней мере, на народ Бельгии, который будет всей душой поддерживать своих собратьев по вере.
Берлинский двор никогда не упускал возможность продемонстрировать свою ненависть к Франции, смешанную с завистью и контрреволюционными настроениями. Франция же, со своей стороны, не может забыть Ватерлоо; так что будь у наших министров хоть немного готовности, дело можно было бы уладить ко всеобщему удовлетворению.
Что же касается нас, тех, кто верит в будущее, то мы предложили бы Луи Филиппу отбросить смехотворную бумажную папку, ставшую гербом Июльской революции, и взамен взять за основу старинный французский гербовый щит, разделив его на четыре части.
В первой изобразить галльского петуха, с которым мы взяли Рим и Дельфы.
Во второй – наполеоновского орла, с которым мы взяли Каир, Берлин, Вену, Мадрид и Москву.
В третьей – пчел Карла Великого, с которыми мы взяли Саксонию, Испанию и Ломбардию.
В четвертой – лилии Людовика Святого, с которыми мы взяли Иерусалим, Мансуру, Тунис, Милан, Флоренцию, Неаполь и Алжир.
Затем к этому можно будет добавить девиз, которому нужно постараться следовать лучше, чем это удалось королю Вильгельму Голландскому:
Deus dedit, Deus dabit.[26]
И тогда, попросту говоря, у нас будет самый прекрасный герб на свете.
СОБОР
Прежде всего мы посетили собор.
Мысль построить собор возымел около 1225 года архиепископ Энгельберт, прозванный святым, однако лишь его преемник Конрад фон Гохштаден, в 1247 году решивший привести этот замысел в исполнение, вызвал лучшего в городе архитектора и приказал ему построить здание, которое должно было превзойти по красоте все, что было создано до того в области религиозной архитектуры. Для этой цели он предоставил в его распоряжение казну капитула, одного из богатейших в мире, и каменоломни, расположенные на самой высокой из вершин Семигорья – горе Драхенфельс.
Подобные предложения сводят с ума творцов; поэтому архитектор, к которому обратился достопочтенный прелат, вышел от архиепископа, еще не веря в то, что ему поручили исполнить столь славную миссию; но, тем не менее, ему пришлось в это поверить, поскольку в тот же день Конрад прислал ему мешок золота на первые расходы.
Архитектор, к которому обратился щедрый прелат, был скромен, как все гении, и потому прежде, чем приступить к делу, он решил осмотреть все самые красивые церкви Германии, Франции и Англии. Так что он пошел к архиепископу и попросил позволения совершить такую поездку. Архиепископ дал на это согласие, но с условием, что тот вернется не позже, чем через год. Архитектор настойчиво просил предоставить ему еще несколько месяцев, но просьба эта оказалась тщетной: большего добиться он не смог, так не терпелось архиепископу увидеть, как его план претворяется в жизнь.
Через год архитектор вернулся из поездки, пребывая в еще большей растерянности, чем прежде. Он вполне определился с символической стороной своего замысла, иначе говоря, он хотел, чтобы у собора было две башни как напоминание о том, что христианин должен воздевать обе руки к небу; чтобы у него было двенадцать часовен в память о двенадцати апостолах; чтобы он был построен в форме креста, дабы верующие ни на минуту не забывали о символе их искупления; чтобы клирос имел небольшой наклон вправо, потому что, умирая, Иисус Христос склонил голову на правое плечо; и наконец, чтобы дарохранительница освещалась светом из трех окон, ибо Бог един в трех лицах и весь свет исходит от Бога. Но в этом, если можно так выразиться, заключалась лишь душа храма; оставалось еще его тело, его форма, то есть зримое воплощение религиозной мысли, столь могучей в средние века, что она, словно живительная влага, заставляла всходить любую гранитную поросль; и вот эту форму архитектор искал утром и вечером, в любое время дня и повсюду, где бы он ни находился.
И вот как-то днем, по-прежнему погруженный в свои мысли и сам того не заметив, он вышел за городские стены и оказался в месте для гулянья, носившем название Франкские ворота; там он присел на скамейку и концом палочки принялся чертить на песке фасады и контуры собора, стирая их прежде, чем они обретали законченный вид, ибо все казалось ему незавершенным и жалким по сравнению с тем роскошным храмом, какой в его воображении возводили ангелы; наконец, после множества разных попыток он сделал набросок храма, полного величия и благородства, и уже было начал взирать на него с некоторым удовлетворением, как вдруг позади него раздался пронзительный голос:
– Браво, друг мой! Это ведь Страсбургский собор.
Архитектор обернулся и увидел, что за спиной у него,
чуть ли не положив ему голову на плечо, стоит старичок с клинообразной бородкой, какую носят евреи, с запавшими, но горящими глазами и язвительной улыбкой, одетый в черный узкий камзол, так плотно облегающий его тело, что можно было подумать, будто он сшит из кожи негра, еще более худого, чем обладатель камзола. Весь облик старичка не внушал особой симпатии нашему герою; однако, поскольку это замечание было не лишено справедливости и зодчий вынужден был признать, что ему лишь показалось, будто этот набросок заключает в себе нечто новое, а на самом деле все в нем лишь повторение уже существующего, он, вместо того чтобы защищать свою работу, со вздохом ответил:
– Да, это так.
Затем он стер свое почти завершенное творение и приступил к другому. Но едва его палочка начертила на зыбкой поверхности первые контуры нового здания, тот же пронзительный голос, сопровождаемый все той же язвительной улыбкой, произнес:
– Замечательно, это же Реймсский собор.
– Да, да, – прошептал архитектор, – и лучше бы я никуда не ездил и ничего не смотрел, ибо существует только один истинный создатель – Господь Бог.
– И Сатана, – прошептал старичок с такой интонацией, что у архитектора прошла дрожь по телу.
Но поскольку его занимала лишь одна единственная и неотступная мысль, он снова стер неудачный набросок, нимало не интересуясь металлическими нотками, прозвучавшими в голосе незнакомца, и снова принялся за дело. Так он рисовал почти четверть часа, успокаиваемый одобрительными возгласами соседа, который шептал ему на ухо: "Хорошо! Очень хорошо! Превосходно!", как вдруг, нарушая эту безмятежность, его благожелательный критик произнес:
– Вы, должно быть, много путешествовали, не так ли?
– Почему вы так думаете?
– Да потому, что, проехав по Эльзасу и посетив Францию, вы вернулись домой через Англию.
– Кто вам об этом рассказал?
– Очертания этой церкви: это ведь Кентерберийский собор.
Зодчий тяжело вздохнул: критика старичка была убийственной, но справедливой. Он стер ногой рисунок, а затем, не в силах сдержать нетерпение, повернулся к старичку и протянул ему свою палочку.
– Черт возьми, метр, – сказал он ему, – не могли бы вы, умея так хорошо выискивать недочеты у других, присоединить к своим упрекам какой-нибудь пример для подражания и, в свою очередь, показать мне, на что вы сами способны?
– Охотно, – ответил старичок, со своим неизменным смешком беря у него палочку.
Архитектор хотел было уступить ему свое место, но он, отрицательно покачав головой, одной рукой оперся на плечо архитектора, а другой на весу начал чертить на песке линии – столь смелые, изящные и точные, что зодчий тотчас же воскликнул:
– О! Теперь я вижу, что мы собратья!
– Добавь к этому, – заметил старичок, посмеиваясь, – что ты ученик, а я учитель.
– Я почти готов это признать, – с честностью, на какую способны лишь гении, ответил архитектор, – но для этого я должен увидеть нечто большее, чем отдельные линии. Деталь, сама по себе, ничто, все дело в ансамбле.
– Ты способный малый, и из тебя может выйти толк, – сказал старичок, – но больше рисовать я ничего не буду.
– Почему же? – спросил архитектор.
– Потому что иначе ты позаимствуешь мой проект.
– Стало быть, вы тоже собираетесь строить собор?
– Надеюсь, что да.
– И какой именно?
– Кёльнский.
– Как, мой собор?
– Твой?
– Разумеется, мой.
– Да, если ты представишь проект.
– Я и представлю.
– А я представлю свой, и монсеньор Конрад выберет из двух.
Архитектор побледнел.
– Ха-ха! – воскликнул незнакомец, ухмыляясь. – Ты боишься, что тебе придется возвращать мешок с золотом, которое ты получил от архиепископа и, за исключением ста экю, все потратил на свое бесполезное путешествие по Франции и Англии?
Архитектор огляделся и увидел, что уже начинает смеркаться и он здесь со старичком один на один.
– Послушай, – сказал он, – я не знаю, как тебе удалось узнать, что от задатка, который я получил от монсеньора Конрада, осталось всего сто экю, но, если ты закончишь свой рисунок, они станут твоими.
Старик расхохотался и, вынув из камзола небольшой кожаный кошелек, открыл его и показал архитектору, что кошелек полон бриллиантов, самый мелкий из которых стоил, по меньшей мере, тысячу золотых экю.
Архитектор тяжело вздохнул, увидев, что ему нечем подкупить этого человека; он застыл с удрученным видом, ибо невольно был вынужден признать непонятное и неоспоримое превосходство чужестранного зодчего. Тем временем старичок как бы шутя добавил к своему рисунку несколько новых штрихов, столь дерзких по замыслу, что наш архитектор сразу понял, что он проиграет, довелись ему сразиться с подобным соперником. И тогда в полном отчаянии, не владея собой, он решил взять силой то, чего не мог получить с помощью денег, а так как в эту минуту старичок снова перестал рисовать и с насмешливым видом смотрел на него, он схватил его за руку и приставил ему к груди кинжал.
– Старик, – сказал он ему, – заканчивай свой рисунок, или ты умрешь!
Стоило ему произнести эти слова, как он почувствовал, что кто-то схватил его поперек туловища: он оказался повален на спину, грудь его была придавлена коленом, а его же собственный кинжал, вырванный у него из рук, сверкал у его горла.
– Ах ты мздодатель и убийца! – произнес старик, посмеиваясь. – Ну что ж, хорошо, хорошо! Значит, не вся еще жатва человеческих душ собрана на этом свете!
– Лучше убейте меня, но только не поднимайте на смех! – сказал архитектор.
– А если мне не хочется тебя убивать?
– Тогда отдайте мне свой проект.
– Согласен, но при одном условии.
– Каком?
– Сначала встань на ноги, – сказал старик, отпуская противника, которого до этого он держал прижатым к земле, и возвращая ему кинжал, – так неудобно разговаривать, давай сядем.
И странный человечек присел на край скамьи, положив одну ногу на другую, скрестив руки и опершись ими на колено; при этом он неотрывно смотрел на пристыженного архитектора, который поднялся, отряхивая пыль с одежды, но при этом не сошел с места.
– Ну же, подойди ближе, – сказал старичок, – ты ведь прекрасно видишь, что я зла на тебя не держу.
– Но кто вы такой?! – воскликнул архитектор.
– Кто я такой? Хорошо, я скажу тебе.
Архитектор подошел на шаг, ибо любопытство в нем пересилило страх.
– Слышал ли ты, – спросил старик, – о Вавилонской башне, садах Семирамиды и Колизее?
– Конечно, – ответил архитектор, подсаживаясь к нему.
– Так вот, их построил я.
– Так вы Сатана? – вскочив на ноги, воскликнул несчастный архитектор.
– К вашим услугам! – ответил Сатана со своим неизменным смешком.
– Vade retro![27]– вскричал архитектор, осенив себя крестным знамением.
Смех перешел в зубовный скрежет; блеснула молния, земля разверзлась, и дьявол исчез.
ОТЕЦ КЛЕМЕНТ
Архитектор вернулся домой, где к ужину его ждала бедная старушка-мать. Но ему не хотелось садиться за стол; вместо этого, взяв бумагу и карандаш и не отвечая на настойчивые просьбы матери, он попытался запечатлеть хоть какие-то ускользающие от него линии, которые начертил палочкой Сатана.
Бедная старушка вся в слезах отправилась спать; после того как сын вернулся из путешествия, она с трудом узнавала его, таким взволнованным и измученным он выглядел и так сильно, на ее взгляд, эти треволнения и муки изменили его.
Архитектор провел всю ночь, рисуя линии и тут же их стирая. В этом таинственном чертеже, только небольшую часть которого ему удалось увидеть, была какая-то фантастическая смелость, достичь которой ему никак не удавалось. С рассветом он бросился на кровать, сломленный усталостью; но сон, вместо того чтобы принести ему успокоение, подверг его новой пытке. Он проснулся в полубезумном состоянии и бросился в церковь святого Гереона, особо им почитаемую.
Подойдя к ней, он остановился возле портала. Это была небольшая массивная романская базилика XI века, которую архиепископ Анно построил на месте древнего храма святой Елены и которая скорее напоминала надгробие, чем церковь. И тут он не смог удержаться и принялся размышлять о разнице между устремленными ввысь башнями, острыми шпилями и оригинальными небольшими колоннами, на глазах у него возникавшими накануне под волшебной палочкой Сатаны, и массивным сооружением в византийском стиле, стоявшим перед ним. В итоге он совершенно забыл о том, что пришел молиться, и двинулся куда глаза глядят, поглощенный одной-единственной и неотступно преследующей его мыслью.
Так он бродил весь день напролет, а к вечеру, не помня по каким дорогам он шел и не отдавая себе отчета в том, как он сюда забрел, снова оказался за Франкскими воротами, на прогулочной аллее, возле скамейки, где сидел накануне. Наступила ночь; аллея была пустынной, и только один человек, как и он, остался за городскими стенами. Это был тот самый старичок. Архитектор с первого взгляда узнал его и подошел к нему.
Старичок стоял возле крепостной стены и что-то рисовал на ней стальным прутом. Каждый штрих являл собой огненную линию, которая мало-помалу затухала, так что по мере того, как великолепный план, который он чертил, продвигался вперед, самые первые его линии начинали бледнеть и в конце концов совсем исчезали. Поэтому глазом невозможно было проследить новые линии, а память не удерживала старые; прерывисто дыша, архитектор наблюдал, как перед глазами у него возникает, проступая в мельчайших деталях, фосфоресцирующий собор, который через мгновение исчезал во мраке и который ему не удавалось охватить целиком.
Он тяжело вздохнул.
– А, это ты, – сказал Сатана, оборачиваясь. – Я поджидал тебя.
– Вот и я, – ответил архитектор.
– Я знал, что мы не поссорились. Смотри, я набросал план. Что ты скажешь об этом портале?
Он снова провел своей палочкой по стене, и на ней возник трехчастный портал пламенеющей базилики.
– Он превосходен! – воскликнул архитектор, даже не пытаясь скрыть свой восторг.
– А об этой башне? – продолжал Сатана, повторив тот же трюк.








