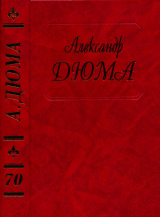
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)
В течение трех дней гора, подобно вулкану, извергала пламя; в течение трех дней было слышно, как бьется в своем логове дракон, издавая свист; наконец, свист стих: чудовище было зажарено.
Еще сегодня в пещере видны следы огня, а каменный свод, обожженный пламенем, крошится, стоит только до него дотронуться.
Понятно, что это чудо весьма способствовало распространению христианской веры. В конце IV века на берегах Рейна уже насчитывалось большое число ярых приверженцев Христа.
Пока я любовался изумительным пейзажем, разворачивающимся на расстояние в двадцать пять льё вокруг Дра-хенфельса, самой высокой вершины Семигорья, владелец Гансика указал мне на небольшую черную точку на Рейне, далеко за Бонном, примерно в четырех-пяти льё отсюда: с такого расстояния она казалась почти неподвижной, но с помощью подзорной трубы я признал в ней наш пароход, этого новоявленного дракона, который двигался, изрыгая дым и пламя из своей разверстой пасти и ударяя по воде своими железными крыльями. Мы стали спускаться с горы, Гансик припустил что было сил, и мы вовремя прибыли в Кёнигсвинтер.
На пароходе я встретил двух своих знакомых англичан – так называемого студента сорока пяти лет и его друга милорда С…, безутешного вдовца, о котором я уже рассказывал в предыдущей главе, посвященной Бонну; они вместе поднимались вверх по Рейну в Майнц, чтобы посмотреть, как продвигается работа над надгробием миледи С…
Кроме них, на пароходе был еще голландец, который по обычаю своей страны путешествовал вдвоем со своей невестой. Это замечательный голландский обычай, и разрешение путешествовать вместе, которое обрученные получают от своих родителей, весьма напоминает манеру приучать рыбу к воде. Поскольку путешествие – это та жизненная ситуация, в которой как нигде больше проявляются как хорошие, так и дурные привычки, то за одно лишь плавание вверх по течению Рейна от Нимвегена до Страсбурга будущие супруги успевают узнать характер друг друга так, как если бы они прожили уже десять лет вместе. Если молодой человек и девушка подходят друг другу, они возвращаются рука об руку к своим дедушкам и бабушкам, которые дают им свое благословление и женят их. Если же они друг другу не подходят, то расстаются и возвращаются домой порознь, на разных пароходах, а потом отправляются в новое плавание: жених с новой невестой, невеста – с новым женихом. Вследствие подобного хитрого приема редко случается так, чтобы после седьмого или восьмого путешествия две половинки единой души, которые, согласно Платону и г-ну Дюпати, пытаются отыскать друг друга, не соединились бы.
Поженившись, голландцы уже никуда больше не ездят.
Как только молодой человек узнал, кто я такой, он счел своим долгом представить меня своей невесте; это была красивая дородная голландка, вообразившая, что ей необходимо сделать вид, будто она читала мои книги. Что же касается жениха, то он в разговоре со мной долго рассуждал о голландской поэзии и поинтересовался, знаком ли я с двумя поэтами, которых он назвал, в ответ на что мне пришлось сказать, что я не имел подобной чести. Услышав мое признание, жених сообщил мне, что два эти стихотворца намного превосходят Ламартина и Гюго и что они были бы известны во всем мире, если бы где-нибудь еще, кроме Голландии, могли бы произнести их имена.
Я посочувствовал судьбе двух этих непризнанных гениев, обреченных на забвение вследствие заговора непроизносимых согласных. Этим заявлением я весьма расположил к себе невесту с женихом, которые стали предлагать мне всяческое содействие на тот случай, если меня когда-нибудь охватит желание отправиться в Леккеркерк. Так называлось их селение.
К счастью, открывшийся перед нами изумительный пейзаж предоставил мне возможность прервать этот разговор с голландцами, в который я оказался втянут помимо своей воли. В эту минуту мы проплывали между Роландсе-ком и Нонненвертом.
Паломничество в Роландсек, или к руинам Роланда – это настоятельная потребность чувствительных душ, обитающих не только по обоим берегам Рейна от Шаффхаузена до Роттердама, но и в пятидесяти льё от берега реки. Когда Роланд, вняв призыву своего дяди, поднимался вверх по Рейну, чтобы отправиться в Испанию сражаться там с сарацинами, то именно здесь, если верить легенде, он гостил у старого графа Раймонда. Граф, узнав имя прославленного паладина, которого он имел честь принимать у себя, пожелал, чтобы его собственная дочь, прекрасная Хильдегунда, прислуживала за столом гостю. Роланду было не столь важно, кто подает ему еду, лишь бы угощение было обильным, а вино добрым. Когда же он протянул свой бокал, открылась дверь и прекрасная юная девушка, держа в руках чашу, вошла в комнату и направилась к рыцарю. На полпути их взгляды встретились, а затем – странное дело! – и Роланда, и Хильдегунду охватил такой трепет, что половина вина выплеснулась на каменный пол, причем повинны в этом были как гость, так и виночерпий.
Роланд должен был отправиться в путь на следующий день, однако старый граф Раймонд настоял, чтобы он провел неделю в замке. Роланд прекрасно понимал, что долг обязывает его быть в Ингельгейме, но Хильдегунда подняла на него свои прекрасные глаза, и он остался.
Прошла неделя, влюбленные так и не признались друг другу в своей любви, однако в последний вечер Роланд взял за руку Хильдегунду и отвел ее в часовню. Возле алтаря и он, и она в едином порыве опустились на колени, и Роланд произнес:
– У меня никогда не будет другой жены, кроме Хиль-дегунды.
Хильдегунда же добавила:
– Господь мой! Клянусь, я сделаюсь твоей, если не буду принадлежать ему.
Роланд отправился в путь. Прошел год. Роланд творил чудеса храбрости, и молва о его подвигах докатилась с Пиренеев до берегов Рейна; потом вдруг стали доноситься слухи о неком поражении и прозвучало название Ронсе-валь.
И вот однажды вечером какой-то проезжий рыцарь попросил приюта в замке графа Раймонда; рыцарь возвращался из Испании, куда он сопровождал императора. Хильдегунда осмелилась произнести имя Роланда, и тогда рыцарь поведал о том, как, оказавшись в Ронсевальском ущелье в окружении сарацин и видя, что он один против ста, Роланд протрубил в свой рог, чтобы призвать на помощь императора, и протрубил он с такой силой, что император услышал его на расстоянии полутора льё и хотел было вернуться, но его удержал от этого Ганелон, и звук рога постепенно затих, ибо Роланд стал терять силы. И тогда, для того чтобы его славный меч Дюрандаль не достался неверным, он попытался сломать его о скалу; но меч, привыкший разрубать сталь, расколол и гранит, и Роланду пришлось вонзить клинок в расщелину и сломать его, надавив на него сверху. Затем, весь израненный, он упал рядом с обломками своего меча, шепча имя какой-то женщины, которая звалась Хильдегундой.
Дочь графа Раймонда не издала ни единого крика и не пролила ни единой слезы; она лишь поднялась, бледная как смерть, и подошла к графу.
– Отец мой, – сказала она ему, – вам известно, в чем поклялся мне Роланд и в чем поклялась ему я. Завтра с вашего позволения я уйду в Нонненвертский монастырь.
Отец посмотрел на дочь, горестно покачал головой и спросил себя:
"Стало быть, Роланд для нее все, а я ровным счетом ничего?"
Но затем граф вспомнил, что прежде всего он христианин, а уже потом отец.
– Да сбудется во всем воля Господня! – ответил он.
И на следующий день Хильдегунда вступила в монастырь. Но девушке не терпелось постричься в монахини, ибо ей казалось, что, чем дальше она уйдет от мира, тем ближе будет к Роланду, и потому она добилась у местного епископа, доводившегося ей дядей, согласия на то, чтобы срок испытания для нее сократили до трех месяцев, и, по прошествии этих трех месяцев, принесла монашеский обет.
Не прошло и недели, как еще один рыцарь попросил приюта в замке графа Раймонда. Когда граф вышел ему навстречу, рыцарь застыл в изумлении, ибо за три месяца, которые отец провел в разлуке с дочерью, он постарел больше, чем на десять лет. И тогда рыцарь поднял забрало своего шлема.
– Отец, – сказал он, – я сдержал свое слово. Сдержала ли свое Хильдегунда?
Старик издал горестный стон. Перед ним стоял Роланд. Полученные им раны были глубокими, но не смертельными. Выздоравливание его длилось долго, но затем он сразу тронулся в путь, чтобы встретиться со своей невестой.
Граф оперся на плечо Роланда; затем, собравшись с духом, он молча отвел его в часовню и, знаком велев ему встать на колени, опустился на колени рядом с ним.
– Давай помолимся, – сказал он.
– Она умерла? – чуть слышно спросил Роланд.
– Она умерла для тебя и для мира! Разве она не обещала, что будет принадлежать только тебе или Богу?! Она сдержала свою клятву.
На следующее утро, оставив коня и доспехи в замке старого графа, Роланд пешком ушел в горы и к вечеру добрался до одной из вершин, возвышающихся над рекой; внизу, на оконечности утопающего в зелени острова, он увидел Нонненвертский монастырь. В эту минуту монахини возносили вечернюю молитву, и среди всех этих благочестивых голосов, устремлявшихся к небу, один проник прямо в сердце рыцаря.
Роланд провел ночь, лежа на утесе; на следующий день, на рассвете, монахини стали служить утреню, и он снова услышал этот голос, заставивший трепетать все фибры его души. И тогда он решил построить себе скит на вершине этой горы, чтобы, по крайней мере, быть ближе к той, которую он любил. И Роланд принялся за дело.
В одиннадцать часов монахини вышли из обители и разбрелись по острову; но одна их них отделилась от своих подруг и села под ивой у края воды. Лицо ее было скрыто покрывалом, она была одета точно так же, как и остальные, однако Роланд ни на минуту не усомнился в том, что это Хильдегунда.
На протяжении двух лет, по утрам и вечерам, Роланд различал в хоре голосов монахинь этот столь дорогой для него голос; на протяжении двух лет, каждый день, в тот же самый час, та же одинокая монахиня приходила в то же место на берегу, хотя с каждым днем она двигалась все медленнее и медленнее. И вот как-то вечером он не услышал в хоре знакомого голоса. Наутро голос тоже не зазвучал. Наступило одиннадцать часов, но тщетно было ожидание Роланда. Монахини, как обычно, разбрелись по саду, но ни одна из них не села под ивой у края воды. Около четырех часов дня четыре монахини, сменяя друг друга, стали рыть яму у подножия ивы; когда яма была выкопана, Роланд снова услышал пение, в котором ему по-прежнему не удалось различить самый нежный и самый красивый голос, и из монастыря вышли все без исключения монахини, сопровождая гроб, в котором лежала увенчанная цветами дева с открытым бледным лицом.
Впервые за два года Хильдегунда сняла свое покрывало.
Через три дня пастух, потерявший свою козу, взобрался на вершину горы и увидел там Роланда, который сидел, опершись спиной о стену своего скита и опустив голову на грудь. Он был мертв.
Двое подданных голландского короля, жених и невеста, о которых я рассказывал выше, попросили высадить их в деревне Роландеверт, и, пока пароход еще не обогнул мыс Ункельбах, мы видели, как они появились, нежно обнявшись, на вершине Роландсека.
Напротив мыса Ункельбах, на противоположном берегу, расположена деревня Ункель с ее каменоломнями базальта, несколько столбов которого встают со дна Рейна, словно развалины затонувшего города; по другую сторону находится Ремаген, бывший Ригомагум древних римлян, через который пфальцекий курфюрст Карл Теодор начал прокладывать дорогу, законченную в 1801 году Бонапартом. За шестнадцать веков до этого Марку Аврелию пришла в голову такая же мысль, и он проделал такую же работу. Поэтому рабочие повсюду натыкались на остатки римской дороги, мильные камни, монеты, колонны, надписи и гробницы; так что, строго говоря, строителям оставалось лишь идти по следам древних. За Ремагеном возвышается Аполлинарисберг, где хранится голова святого Аполлинария, которая, как утверждают, являет собой необычайно чудодейственную реликвию.
Тут ко мне подошел великовозрастный английский студент, по-прежнему сопровождаемый милордом С…, которого траурная лента на шляпе и траурная повязка на рукаве делали похожим на старую плакальщицу. В руке студент держал бутылку и два стакана, третий стакан нес милорд С…
– Возьмите, – сказал он мне, протягивая стакан, – следует попробовать лейвейн, когда находишься напротив горы, на которой собирают для него виноград, и, хотя вы не произвели на меня впечатления большого любителя вин, я хочу услышать ваше мнение о нем…
– О! – воскликнул я, пригубив. – Это же прекрасное вино.
– И я так полагаю, – ответил англичанин, прищелкнув языком. – После йоханнисберга и либерфраумильха это лучшее из всех рейнских вин.
– И где же производится этот нектар?
– Взгляните, – сказал мне англичанин, – видите эту базальтовую скалу?
– Да, и что?
– Можете поприветствовать ее, это и есть родина нектара.
– Но на этой скале нет и на палец земли, если только вино не течет из какого-то источника…
– Видите ли, дорогой сударь, если бы вы учились тридцать лет, как я, вы бы знали, что человек, будучи животным изобретательным, всегда сумеет найти выход из положения и всякий раз, когда это необходимо, перенимает и исправляет то, что создал Творец. И вот человек счел, что здесь, где Творец и не думал разбивать виноградники, виноградник будет как нельзя кстати; и тогда он посадил виноградную лозу в корзины, отнес эти корзины с лозой на гору; виноград там прижился, он созревает, как если бы рос прямо из земли, и из него делают это вино.
– Оно отменное.
– Я тоже так думаю. Милорд, another glass, to the memory of that dear lady?[37]
– Гм! – хмыкнул милорд, с печальным видом опорожняя стакан лейвейна.
– Видите, – сказал мне его спутник, – как сказал царь Давид, питье свое он растворяет слезами. Мне-то больше нравится неразбавленное вино; еще стаканчик?
– Благодарю.
– А вот я, – продолжал студент, – проезжая мимо этого места, всегда выпиваю трижды. Первый раз за свое собственное здоровье, второй – из благодарности неизвестному изобретателю, придумавшему систему выращивания винограда в корзине, а третий – в честь сеньора фон Альпенара. Как видите, сударь, вы отстаете от меня на два стакана.
– Отлично! Первый я выпил, чтобы быть с вами наравне. Второй выпью из благодарности человеку с корзинами. Что же касается третьего, то, поскольку рейнское вино, которое, впрочем, я очень высоко ставлю, невыносимо возбуждает мои нервы, позвольте задать вам вопрос, прежде чем я стану пить за сеньора фон Альпенара: кто это такой?
– Ну что ж, сеньор фон Альпенар был достойный рыцарь, поместье которого находилось на берегу реки, именуемой Ар и впадающей в Рейн вон там, справа от нас. Как-то раз на поместье рыцаря напал один из его врагов, имя которого я не помню, но это не имеет значение; в тот момент, когда осаждающие уже водружали свой флаг на крепостной стене, сеньор фон Альпенар появился на балконе, верхом и в полном вооружении, и обратился к неприятелю.
"Граф Герман, – воскликнул он (того звали Герман), – ваши стрелы и ваши камни истребили моих людей. Голод и болезни унесли мою жену и моих детей; в замке не осталось никого, кроме меня и моего боевого коня, но вам не взять живым ни его, ни меня. Прощайте, граф Герман, и будьте прокляты!"
С этими словами он пришпорил коня, который с громким ржанием перемахнул через перила и исчез в волнах вместе со своим хозяином.
– О, в таком случае я не могу отказаться и не выпить стакан рейнского вина в память столь доблестного рыцаря: налейте мне полный, сэр… Если вы не забыли свое имя, так же как не забыли имя графа Германа, позвольте мне узнать его.
– Сэр Патрик Уорден.
– Но мне кажется, сэр Патрик, вы поступаете несправедливо.
– Почему же?
– Вы пьете в память рыцаря фон Альпенара, но забыли его коня!
– Клянусь Господом, вы правы! В таком случае мне предстоит выплатить огромный долг! Вот уже десять лет я плаваю вверх и вниз по Рейну четыре раза в год (по самым скромным расчетам), и выходит, я должен еще сорок стаканов призраку этого несчастного коня. Официант, еще бутылку лейвейна! Милорд, господин Дюма сделал очень справедливое замечание, – продолжил сэр Патрик по-английски, обращаясь к милорду…
Я воспользовался тем, что он пустился в объяснения, и перешел на другой конец парохода, откуда мне было видно, что милорд явно признал допущенную его спутником ошибку и, в меру своих сил, старался помочь ему ее исправить.
Они опорожнили уже шесть бутылок лейвейна, однако сэр Патрик, будучи человеком методичным, вновь навел порядок в своих подсчетах.
Тем временем мы продолжали двигаться вперед и миновали Лойбсдорф с белой башней его церкви; Линц, который Карл Смелый взял в 1476 году, то есть за год до своей смерти; Зинциг, бывший римский Сентиакум, основанный Сентием, сподвижником Августа; Аренфельс и его старинный замок; Рейнек, где в 1544 году умер последний мужчина из рода, носившего это имя; Броль – очаровательное селение, красные и синие крыши которого сверкают сквозь листву тополей. И наконец, Хаммерштейн, знаменитый гостеприимством, которое он оказал в давние времена императору Генриху IV.
Это произошло в конце 1105 года. Владельца древнего замка, от которого сегодня остались одни развалины, звали Вольф фон Хаммерштейн; род на нем обрывался, поскольку у него не было сыновей, а были только две дочери такой красоты, что их прозвали Рейнскими розами.
Но, вместо того чтобы служить старому отцу утешением, две юные графини были для него вечным укором, и, несмотря на всю их красоту, он, не задумываясь, променял бы их на сына, будь даже тот последним уродом, посланным ему по воле Господа, лишь бы сын этот отличался храбростью и сумел бы достойно передать благородное имя, полученное от предков, своим сыновьям.
Поэтому, когда он видел, как его дочери пряли веретеном льняную пряжу тоньше, чем паутинка, или расшивали иглой ткань, более яркую, пеструю и цветастую, чем его майские луга, он восклицал в гневе:
– Чем вы тут занимаетесь? Это что, ваше свадебное платье? А вы чем тут занимаетесь? Это что, мой смертный саван?
И дочери отвечали ему кротко и со слезами на глазах, ибо они понимали, какая тоска снедает его сердце:
– Отец, я вышиваю вовсе не свой свадебный наряд, ибо я никогда не выйду замуж, а навсегда останусь подле вас.
– Отец, я тку вовсе не ваш смертный саван, ибо, хвала Богу, ничто не заставляет меня торопиться, и у вас впереди еще долгие годы.
Однако как-то вечером, когда старый граф был мрачнее обычного, поскольку в небе бушевала гроза, ветер тоскливо свистел в башнях старого замка, а капли дождя стучали в окна, изредка озаряемые голубоватыми яркими вспышками молний, он услышал, что кто-то стучится в ворота замка, и вздрогнул, настолько было неожиданно, что в подобное время и в подобную погоду какой-то путник поднялся так высоко в гору, в то время как он мог заночевать в деревне; девушки же вскочили, взволнованные и испуганные. В эту минуту вошел слуга и сообщил, что какой-то старик просит дать ему приют в замке.
При этих словах сестры бросились навстречу гостю и вскоре вернулись, поддерживая под руки седовласого мужчину с седой бородой; его выпачканная грязью одежда, с которой ручьями стекала вода, свидетельствовала о том, что он проделал пешком долгий путь; поэтому девушки не стали спрашивать его, какого он звания, и, несмотря на то, что на нем были грубые одежды, отвели его в самую лучшую комнату замка, ибо так было заведено у графа фон Хаммерштейна: кто бы к нему ни пожаловал, гостю всегда предоставляли почетное место за столом, а кровать ему постилали в парадной опочивальне.
Вольф подошел к старику, но стоило гостю поднять голову и показать свое лицо, как, к великому изумлению дочерей графа, их отец бросился перед ним на колени.
– Значит, ты узнал меня, Вольф, мой старый друг, – произнес странник.
– О мой император! – ответил граф. – Почему вы покинули свой дворец в Ингельгейме или в Кёльне? Должно быть, с вами случилось нечто ужасное, если вы пришли один, пешком в такое время и в такую непогоду и постучали в дверь вашего смиренного слуги?
При первых же словах отца девушки, уяснив, что старик, которого они держали под руки, был не кто иной, как император Генрих IV, почтительно отошли в разные стороны и стали взирать на него с глубоким почтением.
– Случилось так, мой старый знаменосец, – ответил странник, – что я теперь не только не король и не император, но и, более того, еще вчера, в это самое время, был узником, а сегодня, как ты видишь, я беглец, что ничуть не лучше.
– Но кто посмел поднять руку на дважды помазанника Божьего?
– Тот, кто должен защищать его от всех и перед всеми, плоть от плоти моей, тот, кто носит мое имя; это Генрих, мой сын.
Девушки закрыли лицо руками, граф фон Хаммер-штейн попятился назад, а старый император испустил горестный вздох.
– Да, это мой сын, – продолжал он. – Он написал мне, что болен и находится в замке Клопп. Ты знаешь, как я любил его. Я даже не стал тратить время на то, чтобы созывать свиту; к тому же, мог ли я опасаться собственного сына? Я оседлал коня и двинулся в путь. Я скакал всю ночь напролет и весь день, всю дорогу умоляя Господа забрать у меня те немногие дни, что у меня еще остались, и даровать их моему сыну. Наконец, я добрался до замка; меня поджидала стража, и я решил, что она здесь для того, чтобы оказать мне почести; вернее, я просто не придал этому значения. Я лишь спросил, где мой сын; мне пальцем указали на крыльцо, и я без всякой опаски поднялся на него. Я переходил из одной комнаты в другую, призывая: "Сын мой! Сын мой!" И по мере того, как я продвигался вперед, двери, словно сами по себе, одна за другой закрывались за мной и слышалось, как скрипят засовы. И тогда меня охватила дрожь, но не потому, что я опасался за свое бренное тело, просто я перестал понимать, что происходит, и испугался за свою душу. Увы, я не ошибся: письмо, которое он написал мне, оказалось ловушкой. Несчастный! Он действовал в расчете на мою нежную любовь к нему, и я стал узником.
– Сын! Сын! – прошептал старый граф.
Девушки же отступили назад еще дальше и скрылись в темноте.
– Так я провел две недели, каждый миг надеясь, что он войдет и падет к моим ногам. И каждый раз, когда отпирали дверь, я протягивал руки, чтобы принять его в свои объятия. Через две недели дверь медленно отворилась, и вошел охранявший меня солдат.
"Что тебе нужно?" – спросил я.
"Монсеньор, – ответил он, – вы слышите шум, доносящийся из города?"
"Да, а что там происходит?"
"Монсеньор, сюда идут князья-епископы. Майнцский сейм под председательством вашего сына низложил вас и избрал его; теперь он император, и они приближаются к замку Клопп, чтобы забрать хранящиеся здесь корону, меч и державу".
"И для этого ты отпер дверь?" – спросил я.
"Нет, государь, я решил сказать вам на тот случай, если вы хоть сколько-нибудь опасаетесь за свою жизнь, что я знаю дорогу, которая выведет вас из замка".
Я внимательно посмотрел на этого человека, ибо мне было чем-то знакомо его лицо.
"Кто ты такой? – спросил я у него. – Ты предлагаешь помощь человеку, которого предал собственный сын, от которого отвернулись друзья, отреклась земля и которого забыло небо".
"Кто я такой? Увы, монсеньор, я всего лишь простой солдат, который видел, как в Вормсе вас посвящали в рыцари. Мы с вами ровесники, и вы выглядели тогда таким гордым и таким воинственным, что я поклялся навеки связать свою судьбу с вашей. Я был обычным пехотинцем в войске Цевинга, когда восставшие саксонцы вынудили вас бежать из Харцбурга. Я сопровождал вас, когда мы переходили через Альпы, чтобы спуститься в Италию, и папа римский заставил вас ждать босым на заснеженном дворе его замка Каносса. Я участвовал в сражении при Мерзебурге и остался лежать раненным на поле боя. Вслед за тем нужда заставила меня вступить в майнцские войска, и, бесспорно, на то была воля Божья, иначе бы я не встретился здесь с вами. Увидев моего императора в таком бедственном положении, когда он не только утратил свободу, но и, возможно, когда существует угроза для его жизни, я вспомнил клятву, принесенную мною в Вормсе. Если вы решите бежать, у вас есть проводник, если вы решите сражаться, у вас есть солдат".
"Благодарю тебя, – сказал ему я, – сохрани свою преданность мне для другого часа и другого случая; сегодня я не стану бежать".
"Вы мой император и мой господин, и я должен подчиняться вам, – ответил солдат. – Пусть же исполнится ваша воля, ибо в моих глазах вы по-прежнему правите".
И с этими словами он удалился.
Едва за ним закрылась дверь, я пошел в комнату, где хранились знаки императорской власти, опоясался мечом Карла Великого, надел на голову корону, набросил на плечи мантию, а в руку взял державу; затем, услышав, что они уже вошли в соседнюю комнату, я направился им навстречу. Увидев меня, они попятились, ибо ожидали увидеть во мне жалкого пленника, а не императора, привыкшего повелевать.
"Что привело тебя сюда, Рутхард Майнцский, что ищешь ты в этом замке, архиепископ Кёльнский?" – спросил я.
На мгновение они застыли, раскрыв от удивления глаза и не в силах произнести ни слова; но Рутхард, мой старинный недруг, скоро обрел дар речи:
"Мы пришли потребовать у тебя то, что тебе больше не принадлежит. Майнцский сейм тебя низложил, Церковь исторгла тебя из своего лона; отдай же нам то, что тебе отныне запрещено носить и что принадлежит императору Генриху Пятому; отдай этот меч, отдай эту корону, отдай эту мантию, отдай эту державу".
"Подойдите сами и возьмите", – ответил я, смеясь, ибо, признаюсь, я не мог предположить, что они осмелятся поднять руку на императора.
Однако Рутхард кинулся на меня и сорвал корону, архиепископ кинулся на меня и сдернул императорскую мантию, а остальные, расхрабрившись, тоже бросились ко мне и вырвали у меня державу и меч, тогда как остальные рыцари – и те, что стояли на ступенях замка, и те, что подошли к самым дверям комнаты, где я находился, – закричали:
"Да здравствует император Генрих Пятый, наш великий государь!"
В тот же вечер меня перевезли в замок Ингельгейм, и я провел там пять месяцев в неволе, но вот однажды дверь отворилась и вошел тот самый старый солдат из Клоппа.
"Мой государь, – сказал он, – это снова я, твой верный слуга, вернулся предложить тебе свою помощь. Сегодня ночью, с десяти до полуночи, я стою на страже возле твоей двери, и, если ты пожелаешь последовать за мной, ты будешь свободен".
Я согласился и последовал за ним, но два часа назад солдаты моего сына внезапно появились в деревне, где мы устроили короткий привал. Увидев их, беспредельно преданный мне старый солдат предложил поменяться со мной одеждой, и, пока они бросились за ним в погоню, я во тьме, при вспышках молний, отправился искать дорогу к твоему замку, зная, что найду здесь и хлеб, и кров.
– Монсеньор, монсеньор! – вскричал старый граф. – Вы не ошиблись: и замок, и его хозяин целиком в вашем распоряжении.
И говоря это, он дал ему самые лучшие свои одежды и пожелал сам облачить его в них; затем, когда император оделся, граф попросил его сесть за стол и сам подавал ему еду; потом, когда трапеза императора закончилась, граф проводил его в отведенную ему спальню и встал на страже у двери, обнажив меч.
Назавтра, когда император покинул замок, граф позвал своих дочерей и, прижав их к сердцу, промолвил:
– Вы обе – небесные ангелы, да благословит вас Господь!
И больше никогда не случалось ему сожалеть о том, что Бог не послал ему сына вместо двух его дочерей.
С небольшого островка, расположенного напротив Хаммерштейна, уже виден Андернах с его высокой башней; это древний Антуннакум римлян и один из семи рейнских городов, взятых Юлианом во время. его похода против германцев в 359 году. Римские ворота и высокая башня восходят, вероятно, к этому времени. У франкских королей здесь стоял дворец, прямо из окон которого, как утверждают древние историки, можно было ловить рыбу в Рейне. Но либо эти историки ошибаются, либо Рейн сильно изменил свое русло, ибо руины дворца, расположенные на юго-востоке города, сегодня находятся в четверти льё от берега. В 1688 году Андернах, как и многие другие города Пфальца, был сожжен Тюрен-ном.
В то время, когда мы, прибегнув к помощи зрительных труб, внимательно рассматривали старинный римский город, наш рулевой испустил громкий крик радости, подхваченный и другими членами команды; он увидел, что на уровне Ирлиха прямо на нас движется то, что здесь называют большим плотом, другими словами, одно из самых занятных сооружений, которые со времен Ноева ковчега были построены людьми.
Все выбежали на палубу.
Навстречу нашему пароходу, поднимавшемуся вверх по течению, по Рейну величественно спускался большой плот, который напоминал гору плавающих на воде бревен. Длина его была, вероятно, не меньше восьмисот – девятисот футов, а ширина – шестидесяти – семидесяти. По мере того как он приближался, мы начали различать на нем деревню, ее жителей и стадо скота. Деревня эта состояла из дюжины хижин, жители представляли собой семьсот-восемьсот гребцов и работников, а стадо составляли три десятка быков и более сотни баранов, сопровождаемых убойщиками скота. Я было подумал, что это обитатели какого-то разрушенного города, которые переселяются куда-то со всем своим скарбом. Но капитан объяснил мне, что это всего-навсего плот, с помощью которого сплавляют лес – дуб и сосну – из Майнца в Дордрехт.
Поскольку было шесть вечера, то есть время ужина, мы вскоре стали свидетелями нового зрелища. Ровно в шесть лоцман что-то выкрикнул, и на длинный шест была водружена корзина; по всей видимости, это был сигнал к ужину, ибо все оторвались от своих занятий, кроме лоцмана и дюжины гребцов, которые при помощи длинных шестов продолжали управлять этой громадиной; каждый подходил с миской к огромному котлу, где помещалось не меньше восьмисот или девятисот порций супа. Мы пожелали всем приятного аппетита.
Если вы хотите получить представление об этом огромном мире, именуемом большим плотом, то могу сообщить, что его население за время плавания по Рейну обычно потребляет от сорока пяти до пятидесяти тысяч фунтов хлеба, от восемнадцати до двадцати тысяч фунтов свежего мяса, от восьми до десяти квинталов солонины, от десяти до двенадцати тысяч фунтов сыра, от десяти до пятнадцати квинталов сливочного масла, от тридцати до сорока мешков сухих овощей, от пятисот до шестисот бочонков пива и от восьми до десяти больших бочек вина.
Нужно быть искусным лоцманом, чтобы провести такую громадину среди излучин, скал и водоворотов Рейна; поэтому иногда случается так, что от плота отваливаются какие-то части или же он вообще целиком уходит под воду. Вот почему обитатели рейнских берегов имеют привычку говорить: у владельца плота три капитала – один на воде, второй на земле и третий в кармане. В самом деле, плот, движущийся по реке, обходится его владельцу в сумму от 350 до 400 тысяч флоринов, то есть более миллиона в наших деньгах.








