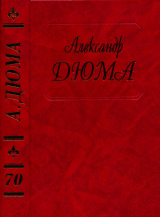
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
– Но как же, черт тебя подери, ты ухитрился заработать четыре миллиона?
– Ну, разными мелочами, которые слишком долго было бы перечислять, монсеньор; но вы все увидите в кассовых книгах.
– И ты полагаешь, что я возьму эти деньги? Я возьму свои два миллиона, остальное – твое, я коммерцией не занимаюсь.
– Ваше высочество ошибается: с таким оборотным капиталом, какой находится в вашем распоряжении, вы могли бы браться за большие дела, поскольку, если только с двумя миллионами…
– Верни мне, повторяю, два миллиона, которыми ты распоряжался, и оставь себе прибыль в четыре миллиона.
– Но я же сказал вам, что уже получил свою небольшую долю!
– Ах так! Если ты скажешь еще хоть слово, я вообще ничего не возьму.
– Но, монсеньор, существуют законы, даже для бедных евреев; я заставлю вас взять деньги.
– Взять шесть миллионов, когда я дал тебе всего лишь два? Черт возьми, это уж слишком!
– Нет, – после недолгих раздумий продолжал еврей, – нет, я не могу заставить ваше высочество взять эти шесть миллионов, поскольку вы можете отрицать, что дали мне разрешение пустить ваши деньги в рост, а если вы этого не говорили, то я окажусь виновен.
– Ну, что ж, – сказал князь, – я этого не говорил, я не разрешал тебе пускать в рост мои два миллиона, и, если ты произнесешь еще одно слово, я вчиню тебе иск за незаконное пользование доверенными тебе деньгами.
– Нет правды в этом мире! – сквозь зубы процедил еврей.
– Что ты сказал? – спросил князь.
– Ничего, монсеньор, я сказал, что вы великий государь, а я всего-навсего бедный еврей. Вот ваши два миллиона в обеспеченном векселе на предъявителя в венское казначейство; что же касается четырех миллионов, то, раз вы категорически от них отказываетесь (тут еврей тяжело вздохнул), мне придется оставить их себе.
И еврей вернулся во Франкфурт, унося четыре миллиона и потеряв всякое представление о том, как следует вести дела.
Этим евреем был г-н Ротшильд-отец.
Вот каково происхождение столь огромного богатства, как мне рассказали об этом во Франкфурте; и я воспроизвожу эту историю, поскольку она не только никого не оскорбляет, а напротив, возвышает всех, кто носит это имя.
Впоследствии меня представили г-ну Ротшильду из Франкфурта, который является неаполитанским консулом, подобно тому, как его брат из Парижа – австрийский консул, и я был принят так, как г-н фон Ротшильд всегда обходится с иностранцами – с отменной доброжелательностью. Что же касается его жены, то я ничего не буду говорить о ней, за исключением того, что быть образцом хорошего вкуса и прекрасных манер – привилегия женщин семейства Ротшильд, вне зависимости от того, где они живут – в Лондоне, Париже или Франкфурте.
В завершение визита мой проводник предложил мне посетить еврейскую больницу, построенную и содержащуюся главным образом на деньги г-на фон Ротшилдьда.
Эта больница похожа на все остальные больницы, разве что, наверное, она немного почище. Может быть, она такая, чтобы отбить у франкфуртских евреев желание болеть?
Одно из окон больницы выходит на кладбище. Я ни разу не видел ничего тоскливее, чем этот заброшенный приют мертвых: все надгробные камни там одинаковые, и если где-то на свете существует равенство, то бесспорно оно обретается на этом клочке земли. Здесь живет козел; вне всякого сомнения, это козел отпущения. Пощипывая могильную травку, он, должно быть, исполняет свое предназначение, состоящее в переваривании грехов тех, кто под ней покоится. Впрочем, выполняет он эту работу добросовестно: мне не доводилось еще встречать более жирного и более здорового на вид козла. Если только он не боится призраков, то, по правде сказать, мало кто еще может похвастаться такой привольной жизнью: сменив здесь козла, умершего от старости, он тоже умрет в свой черед от старости. Это та смерть, к которой стремился Арлекин, а Арлекин вовсе не глуп.
Вернувшись в гостиницу, я вспомнил, что аббат Смете снабдил меня письмом к пастору Д… Я отправился к пастору Д…, но оказалось, что он находится на водах в Висбадене. В этом письме содержалась просьба дать мне сведения относительно Занда. Я написал пастору Д… К его ответу прилагалось письмо г-ну Видеману, доктору хирургии, проживавшему в Гейдельберге, на Большой улице, № 111.
ЭКСКУРСИЯ
Окрестности Франкфурта весьма любопытны; особенно интересно небольшое княжество Хомбург, которое заслуживает внимания не столько само по себе, сколько благодаря его французской колонии.
Представьте себе целую протестантскую деревню, изгнанную из Франции во времена отмены Нантского эдикта, то есть примерно в 1686 году, и вывезшую с собой из родной страны обычаи, язык и, по существу говоря, даже одежду того века; для обитателей этой деревни земля вращалась с того времени без пользы; все их знания основываются исключительно на преданиях; они верят, что протестантов по-прежнему преследуют с помощью драгонад, и говорят вам о Кавалье и г-не де Бавиле так, как если бы те умерли вчера; и все это на языке, который не назовешь французским, с такими оборотами речи, какие теперь можно встретить только у Мольера; поэтому, когда слушаешь их разговоры, может показаться, что ты читаешь письма г-жи де Севиньи или Бюсси-Рабютена, лишенные, правда, их остроумия.
Приехав в столицу, от которой французская колония находится на расстоянии примерно одного льё, я увидел двух солдат, прогуливавшихся рука об руку. Поскольку мне никогда не приходилось видеть таких мундиров, какие были на них, я спросил у трактирщика, к каким воинским частям принадлежат эти солдаты.
– Это наша пехота, – ответил он.
– Ах вот как, это ваша пехота.
– Да, сударь. Вчера я бы мог показать вам нашу кавалерию, но наша кавалерия умер этой ночью.
– Как это, ваша кавалерия умер?
– Ну да, уме р. Это был гусар. Мы должны выставлять конфедерации трех солдат: двух пехотинцев и одного кавалериста. Двое пехотинцев перед вами, что же касается кавалериста, то он умер. Но завтра у нас будет новый.
Князь Хомбург, обладающий в своих владениях правом жизни и смерти, является заместителем коменданта крепости Люксембурга, а это означает, что, несмотря на его титул монарха, главный комендант может отправить его под арест, если он провинится по службе.
– Выходит, – продолжал я, – ваш князь один из самых мелких правителей Германии, если он расценивается всего в три солдата?
– Ну что вы, сударь, – ответил трактирщик, – есть и куда мельче: некоторые расцениваются в два солдата, одного солдата или даже в полсолдата.
– Полсолдата? Это как?
– Ну, они договариваются с кем-нибудь, кто обязан выставить полтора солдата. Один предоставляет солдата, а другой снабжает его обмундированием.
Через две недели мы встретили в Бадене князя N… С этим все обстояло еще интересней!
Поскольку он был младшим в семье, ему досталась по разделу лишь деревенька с десятком домов.
Князь продал один за другим эти десять домов, а следовательно, и всех своих подданных, за исключением одного, которого он взял себе в адъютанты. Но, приехав в Баден, он поссорился со своим адъютантом, и адъютант, чтобы насолить ему, подал в отставку; таким образом, он по-прежнему был владетельным князем, но у него не было больше подданных.
От ярости бедный князь рвал на себе волосы. Все его права свелись теперь к возможности колотить свою собаку.
Надеюсь, что в один прекрасный день он так сильно поколотит ее, что бедное животное от этого взбесится и покусает его.
Впрочем, забыл сказать, что, как нам показалось, подданные князя Хомбурга обожают его. Что ж, пусть лучше будет мало тех, кто тебя любит, чем много тех, кто тебя ненавидит.
Экскурсия по Хомбургу придала нам бодрости, и мы решили совершить на следующий день прогулку по Тау-нусу.
Таунус – одна из самых красивых горных цепей, какие мне доводилось видеть. Она наделяет Франкфурт изумительной панорамой горизонта, который днем каждый час меняет краски, а по вечерам постепенно гаснет вслед за лучами заходящего солнца. Некогда в этих горах находились серебряные копи, которые разрабатывали римляне. Порой на здешних склонах находят широкие отверстия, глубокие пещеры, где можно разглядеть следы кирки легионера; кроме того, кое-где здесь видны остатки дороги, которая кажется дорогой гигантов и строительство которой приписывают то Германику, то Адриану, то Карлу Великому.
Мы отправились утром, имея намерение посетить Вин-тернёде с его красивой речкой Ниддой; Зоден с его четырнадцатью минеральными источниками, несколько из которых имеют привкус чернил; Зельтерс, шипучая вода которого, подслащенная и заправленная лимонным соком, напоминает шампанское, и наконец, Кёнигсфель-ден, или Королевскую скалу.
Несмотря на громкое название, которое они носят, руины Кёнигсфельдена никак не связаны со средневековыми легендами; история сообщает об этой крепости лишь то, что, когда в 1581 году последний отпрыск графского рода, владевшего ею, умер, ее превратили в тюрьму, куда архиепископ Майнцский заключал своих узников. В 1792 году Кёнигсфельденом завладели французы и выдержали там осаду, предпринятую пруссаками, которые в своем стремлении овладеть крепостью вели яростное наступление на нее днем и ночью; но, поскольку в темноте их неточно пущенные ядра терялись, французы, чтобы дать противнику возможность сберечь порох, зажигали фонари и развешивали их на стенах. Пруссаки были так оскорблены этой насмешкой, что сняли осаду; в итоге французы владели Кёнигсфельденом вплоть до 1796 года, а затем взорвали его.
У герцога Нассау спросили, почему он не хочет восстановить крепость, возместив тем самым ущерб, нанесенный французами Кёнигсфельдену.
– Нашли глупца! – ответил он. – Этот замок стоит у них на пути.
Мы уже имели возможность заметить, что герцог Нассау – весьма здравомыслящий человек.
У нас возникло желание пообедать среди этих развалин, которые были делом наших рук. Я побежал в деревню, чтобы раздобыть там какую-нибудь провизию, но это оказалось непросто, учитывая мой уровень владения немецким. Так что я зашел в лавку к цирюльнику, питая надежду, что в ходе своих сношений с подбородками путешественников он имел возможность выучить французский. И я был разочарован лишь наполовину: цирюльник говорил на латыни, на настоящей латыни! До Цицерона он, правда, не дотягивал, но д'Эльвенкура оставил далеко позади. В итоге мы получили почти все, что хотели.
Что же касается цирюльника, то он решительно ничего не пожелал брать в вознаграждение за хлопоты, которые мы ему доставили, и, чтобы он взял хоть что-то, мне пришлось у него подстричься.
Из нашей обеденной залы, которую мы устроили на площадке Кёнигсфельдена, открывался восхитительный вид: слева – Альт-Кёниг, единственная вершина Таунуса, которую альпийский гриф счел достойной того, чтобы свить на ней свое гнездо, и Большой Фельдберг, куда, согласно древнему преданию, удалилась королева Бруне-гильда и где еще показывают ее скит, выдолбленный в скале; наконец, напротив нас, Фалькенштейн, или Соколиный утес, руины которого хранят старинную легенду о рыцаре Куно фон Загене и Эрмангарде.
Эти двое красивых молодых людей любили друг друга; и он, и она были молоды, богаты, знатны и соответствовали друг другу во всех отношениях. Так что они не видели иных препятствий к собственному счастью, кроме взбалмошного характера старого графа фон Фалькен-штейна. Когда рыцарь фон Заген сделал свое предложение, у отца Эрмангарды, вероятно, начались боли в желудке, ибо он вывел того, кто желал стать его зятем, на балкон, откуда открывался вид на все горы, посреди которых стоял замок, получивший название Соколиный утес, ибо, так сказать, добраться до него можно было только на крыльях этой птицы, и повел с молодым человеком такой разговор:
– Вы просите в жены мою дочь? Ну что ж, она ваша, но с одним условием: прорубите в горах дорогу, по которой можно будет подняться верхом вплоть до самого замка, ибо я начинаю стареть и мне тяжело идти в гору пешком.
– Это непросто, – сказал Заген, – ну да все равно! Мои рудокопы – лучшие во всем Таунусе, и я возьмусь за это. Сколько времени вы мне даете?
– Даю вам срок до завтрашнего утра, до шести часов.
Загену показалось, что он ослышался.
– До завтрашнего утра?! – повторил он.
– Ни часом больше, ни часом меньше; завтра утром приезжайте верхом просить руки моей дочери, причем по дороге, по которой я мог бы сопроводить ее верхом в церковь, и Эрмангарда будет вашей.
– Но это невозможно! – воскликнул Заген.
– Для любви все возможно, – со смехом ответил старик. – Итак, до завтра, зять мой.
И он закрыл дверь перед носом несчастного рыцаря.
Заген в задумчивости стал спускаться по опасной тропинке: даже продвигаясь по ней пешком и с великими предосторожностями, трудно было избежать риска сломать себе шею. По пути он то и дело ударял по камням лезвием своего меча, и то, что он видел, казалось ему настоящим проклятием. Гора была сложена из самых твердых пород, из настоящего гранита древнейшей формации.
Так что лишь для очистки совести и чтобы ему не в чем было себя упрекнуть, он направился в сторону своих копей. Подойдя к штольне, он позвал своего старшего рудокопа.
– Вигфрид, – сказал он ему, – ты всегда похвалялся передо мной, называя себя самым умелым среди своих собратьев по ремеслу.
– Я и сейчас могу этим похвалиться, монсеньор, – ответил Вигфрид.
– Хорошо, сколько времени тебе понадобится, чтобы, собрав всех своих рабочих, прорубить от подножия Фаль-кенштейна до его вершины дорогу, по которой можно было бы проехать к замку верхом?
– Ну, – сказал рудокоп, – любому другому потребовалось бы полтора года, я же сделаю это за год.
Рыцарь вздохнул и даже не ответил. Потом он знаком велел старому рудокопу возвращаться к работе и остался сидеть, размышляя, перед входом в штольню.
Он погрузился в столь глубокую задумчивость, что не заметил, как настал час отдыха и все рабочие покинули копи.
Вскоре опустился вечер, а с ним пришло то время суток, когда день еще не угас, а ночь еще не наступила и когда туман, словно облако, поднимается от земли к небу, чтобы затем выпасть росой; но рыцарь видел лишь одно: неприступный замок Фалькенштейн, терявшийся в сказочной дымке, которая окутывала луга.
Внезапно он услышал, что кто-то зовет его по имени, и оглянулся. На верху лестницы, ведущей из нижней штольни наружу, стоял крошечный, высотой в локоть, старичок, волосы и борода которого поседели от времени, но глаза блестели, как у молодого человека.
– Рыцарь Заген! – снова произнес гном.
– Что тебе нужно от меня? – спросил рыцарь, с удивлением глядя на это странное видение.
– Я хочу предложить тебе свои услуги, ибо слышал, о чем ты спрашивал старого рудокопа.
– И что же дальше?
– Я слышал и то, что он тебе ответил.
Рыцарь вздохнул.
– Это славный малый, который хорошо знает свое ремесло, – продолжал гном, – но я-то знаю его еще лучше.
– И сколько же времени тебе потребуется, чтобы проложить дорогу?
– С помощью моих товарищей, разумеется?
– С помощью твоих товарищей.
– Мне потребуется один час.
Рыцарь вскричал от радости:
– Один час! Так кто же ты такой?
– Я старший над кобольдами, которые обитают в недрах гор.
Рыцарь перекрестился.
– О, ничего не бойся, – сказал гном, – мы не вредим людям и не прокляты Богом; мы – одно из невидимых колец, соединяющих землю с небом, однако мы так же высоко стоим над людьми, как люди стоят над животными, и обладаем множеством способностей, которые неведомы подобным тебе.
– И среди этих способностей есть и та, что позволяет проложить дорогу за один час?
– Да, но ты ведь знаешь, ничто не делается даром.
– Что ты имеешь в виду? – обеспокоенно спросил рыцарь.
– Я всего-навсего говорю с тобой на языке, принятом у людей.
– Хорошо. Проси, чего хочешь, и я дам тебе все, что в человеческих силах и что не подвергнет опасности спасение моей души.
– Прикажи, чтобы сегодня же прекратили работу в шахте Святой Маргариты, которая находится уже так близко от моего подземного дворца, что я со своей кровати слышу, как стучат молотами твои рабочие. Я не требую от тебя большой жертвы, ведь ты, должно быть, уже заметил, что жила там иссякает и руда становится бедной.
– И это все?! – вскричал рыцарь.
– Ничего больше, – сказал гном, – и к тому же я возмещу тебе убытки: копай слева от шахты, там, где увидишь лошадиную голову, и ты найдешь две обильные жилы, какие могут обогатить даже короля.
– Тысяча благодарностей, – сказал рыцарь. – С завтрашнего дня ты будешь спать спокойно.
– Обещаешь?
– Слово рыцаря! А ты?
– Слово кобольда!
– А что я должен теперь делать?
– Ничего, иди спать, мечтай о своей красавице, а завтра в пять утра садись на коня – дорога будет готова.
И с этими словами старичок исчез, словно у него под ногами провалилась лестница и он упал в шахту.
Рыцарь вернулся домой, позвал Вигфрида, приказал ему изменить с завтрашнего дня место проведения работ и с нетерпением стал ждать утра.
Когда наступила ночь, он вышел на балкон, откуда открывался вид на Фалькенштейн, и, поскольку тот находился примерно в полульё от него, ничего не услышал, но зато увидел множество слабых огоньков, двигавшихся вверх и вниз по склонам горы, причем их было так много, что они напоминали рой светлячков.
Ну а старый граф фон Фалькенштейн, напротив, услышал сильный шум и подбежал к окну, но ничего не увидел; ему показалось, что тысячи рудокопов роют подножие горы; он слышал, как стучит молот, как вгрызается в землю кирка, как перекатываются камни, и сказал себе:
"Это принялся за работу мой зять. Завтра, когда рассветет, посмотрим, что он успел".
И он преспокойно улегся в ожидании рассвета.
В шесть часов утра его разбудило ржание лошади, и в то же время в спальню радостно вбежала его дочь с криком:
– Отец, отец, дорога проложена, а вот и рыцарь Куно фон Заген, приехавший к вам на своем боевом коне.
Но старый граф не мог поверить в то, что сказала его дочь, и захохотал, пожимая плечами. Однако, услышав во второй раз ржание скакуна, он встал и подошел к окну.
Рыцарь находился во дворе, гарцуя на самом красивом и самом горячем из своих парадных коней. В эту минуту часы на замке пробили шесть.
– Граф, – сказал рыцарь, приветствуя старого сеньора, – надеюсь, вы сдержите свое обещание столь же честно, сколь точно я прибыл к вам на свидание, и сегодня же, по пути в церковь, опробуете дорогу, которую по моему приказу проложили этой ночью.
– Главное для дворянина – его слово, а мое слово дано, – ответил старый граф. – И если дорога и вправду существует, как вы говорите, то моя дочь ваша.
В тот же день из замка Фалькенштейн выехала кавалькада и направилась в церковь Кронберга, спускаясь вниз по вырубленной в скале дороге, которая существует еще сегодня и которую по сей день называют дорогой Дьявола.
После обеда мы взобрались по дороге Дьявола на самую высокую точку этого Соколиного утеса, откуда на горизонте, простирающемся на сто пятьдесят льё, можно насчитать до семидесяти городов, городков и деревень. Помимо гор между Альт-Кёнигом и Фельдбергом, до которых рукой подать, отсюда еще можно разглядеть Изельберг возле Готы, гору Меркур возле Бадена, Донон в Вогезах, Зибенгеберге вблизи Бонна и, наконец, Майн-нер в Нижнем Гессене и Хабихтсвальд возле Касселя.
Посреди этой панорамы высится старый замок Эпштейнов, легенду о котором я охотно рассказал бы, если бы и так не рассказал их уже слишком много.
Мы вернулись через Кронберг, проехав сквозь каштановую рощу, восходящую к XII веку: некоторые из самых старых ее деревьев до сих пор существуют, и это первые каштановые деревья, посаженные в Европе.
Вернувшись в гостиницу, я обнаружил там визитную карточку аббата Сметса, который, как он сообщил мне, приехал сюда отпраздновать свой юбилей; было уже слишком поздно, а вернее, я слишком устал, чтобы в тот же вечер отправиться к нему. И я отложил свой визит на следующее утро.
На следующее утро мне вручили письмо – уже упоминавшийся мною ответ пастора Д… В ту минуту, когда я выходил из гостиницы, появился аббат Смете. Мы обнялись, как старые друзья. Он уже знал, что я так и не нашел пастора Д… Я показал ему полученное письмо; он прочел адрес и, казалось, на мгновение задумался.
– Что такое? – с беспокойством спросил я. – Неужели пастор Д… ошибся? Неужели тот, к кому он меня направляет за сведениями, касающимися Занда, ими не располагает?
– Напротив, – ответил он, – располагает и, наверное, как никто другой.
– Тогда о чем вы задумались?
– Я задумался об истории, которую собираюсь вам рассказать.
– Об истории, имеющей отношение к Занду?
– Нет, но вам следует ее знать.
– Значит, она имеет какое-то отношение к этому письму, раз оно заставило вас задуматься?
– Да, косвенно.
– Дорогой аббат, вы говорите сегодня загадками, словно сфинкс.
– В Гейдельберге вы узнаете разгадку.
– Тогда перейдем к самой истории.
– Вот она: вечером того дня, когда происходила коронация Людовика Баварского, в городской ратуше устроили великолепный бал-маскарад, в котором принимала участие императрица.
На этом балу присутствовал кавалер, который был одет во все черное и лицо которого скрывала черная маска.
Он пригласил на танец императрицу: императрица приняла приглашение, и, пока они танцевали, другая маска наклонилась к уху императора и спросила, известно ли ему, с кем танцует императрица.
"Нет, – ответил император. – Наверное, с каким-нибудь владетельным князем".
"Вовсе нет", – ответила маска.
"С каким-нибудь сеньором, графом или бароном?"
"Берите ниже".
"С простым рыцарем?"
"Еще ниже".
"С оруженосцем?"
"Ниже".
"С пажом?"
"Мимо, ваше величество".
"С младшим оруженосцем?"
"Ниже".
Император покраснел от гнева.
"С конюхом?"
"Еще ниже".
"С вилланом?"
"Если бы так!" – ответил незнакомец, расхохотавшись.
"Но с кем же тогда?" – приглушенным голосом вскричал император.
"Сорвите с него маску, и вы увидите!"
Император приблизился к черному кавалеру, сорвал с него маску, и все узнали палача.
Император обнажил меч.
"Несчастный! – вскричал он. – Препоручи свою душу Господу, ибо сейчас ты умрешь".
"Государь, – ответил палач, опускаясь на колени, – убив меня, вы все равно уже ничего не сможете изменить – императрица танцевала со мной, и, если это оскорбительно для нее, оскорбление уже нанесено. Поступите иначе: посвятите меня в рыцари, и, коль скоро кто-нибудь посмеет посягнуть на ее честь, я отомщу обидчику тем же мечом, каким осуществляю правосудие".
На мгновение император задумался. Потом он поднял голову и произнес:
"Это хороший совет. Отныне ты будешь именоваться не палачом, а последним судьей".
Затем он трижды ударил его плоской стороной меча по плечу и добавил:
"Поднимись. Начиная с этого часа ты будешь последним среди дворян и первым среди бюргеров".
И в самом деле, – продолжал аббат Смете, – с этого времени на всех официальных церемониях, будь то светских или религиозных, палач идет один позади дворян и впереди бюргеров.
– Благодарю вас за эту историю, – сказал я аббату, – она очень занимательная. Но могу ли я узнать, для чего вы мне ее рассказали?
– Вполне может случиться так, что однажды вы окажетесь в обществе потомка черного кавалера, и мне приятно сознавать, что в этом случае вы будете осведомлены, на какие знаки уважения он имеет право как последний из дворян и первый из бюргеров.
– Благодарю вас за эту предосторожность, дорогой аббат, однако надеюсь, что она окажется излишней.
– Как знать… – ответил аббат.
И мы вышли вдвоем, чтобы прогуляться по ярмарке, он – насмешливо улыбаясь, я – пытаясь понять, с какой целью он рассказал мне эту притчу.
Через пять или шесть дней я покинул Франкфурт, так и не добившись от аббата Сметса никакого другого объяснения.
МАНГЕЙМ
Было решено, что в Майнце я осмотрю только памятник Гутенбергу; я прибыл туда дилижансом в два часа ночи, а уже в шесть уплывал оттуда на пароходе.
Начиная с Майнца и до самого Страсбурга берега Рейна полностью теряют свою живописность и могут привлечь лишь памятными историческими событиями, связанными с римлянами, франками, Юлием Цезарем и Карлом Великим. Старые замки исчезают, однако еще остаются старинные кафедральные соборы, и все, что можно сказать по поводу Вормса и Шпейера, проплывая мимо них, это, на самом деле, упомянуть их церкви.
Мангейм, куда мы направлялись, находится на полпути между двумя этими городами, в четверти льё от берега Рейна. Около семи вечера пароход высадил нас на берегу, где в ожидании пассажиров стояли целые вереницы омнибусов и фиакров. Через несколько минут мы сошли на главной площади.
Мангейм – город из романов Августа Лафонтена, исполненный покоя и грусти, которая не лишена очарования. Следующий день после нашего приезда туда был праздничным, и связанное с этим небольшое оживление придало городу еще большее своеобразие. Кстати, я никогда не видел более красивого населения. За те полчаса, что мы оставались у дверей церкви иезуитов, оттуда вышло на наших глазах более полусотни хорошеньких женщин. Молодые люди нисколько им не уступали, если не считать их сине-белых мундиров и причудливых шлемов, придававших им вид офицеров из комической оперы.
Мангейм – это город, которому присущи все особенности стиля рококо с мифологической символикой, сопровождавшего во Франции царствование Людовика XIV. На фасаде церкви иезуитов, непонятно по какой причине, сделаны две ниши, и в этих двух нишах стоят скульптуры Минервы и Гебы; весьма удивленные тем, что им довелось здесь очутиться, они придают церкви странный облик.
Напротив нее находится театр, который, как я полагаю, относится к тому же периоду, построен тем же архитектором и в том же вкусе. Над его дверями красуются сфинксы, олицетворяющие Комедию и Трагедию: один из них держит в лапах маску, а другой – кинжал. Волосы у них разделены на прямой пробор, что в сочетании с накладным пучком чудесным образом дополняет их египетский стиль.
Замок, постоянная резиденция великой герцогини Стефании, датируется предшествующим веком и, соответственно, отличается более величественным внешним видом. Окружающий его английский парк напоминает сад, а поскольку сад этот открыт для публики, нам посчастливилось обозревать там с двух до четырех часов пополудни все здешнее фешенебельное общество. Во второй раз наблюдая обитателей города, я утвердился в своем первоначальном суждении: Мангейм, наряду с Арлем, при всем их различии, – это, безусловно, тот город Европы, в котором больше, чем где бы то ни было, красивых женщин.
Однако я не забыл, что именно в Мангейме разыгрались сцены убийства Коцебу и казни Занда. Хозяин гостиницы приставил ко мне одного из своих коридорных лакеев, чтобы тот проводил меня к дому Коцебу. Этот дом находится на углу улицы А2, напротив церкви иезуитов. Прекрасно понимая, что поступаю невежливо, я все же позвонил в дверь, и гостиничный лакей от моего имени попросил разрешения осмотреть комнату, в которой был убит член государственного совета. Я надеялся, что хозяин дома спустится и покажет мне ее; но либо он принял меня за студента и опасался, что его может постичь та же участь, какая постигла того, кто жил здесь до него, либо был занят чем-то более неотложным – так или иначе, он разрешил мне войти и передал свой поклон, но сам так и не появился.
Я поднялся на двадцать ступенек, вошел в переднюю, а из передней – в кабинет, служивший библиотекой: именно там и было совершено преступление. У меня было желание расспросить служанку, но бедная Мариторнес не отличалась сообразительностью. Вот все, чего я сумел от нее добиться:
– Господин Занд? Я такого не знаю. Он не ходит к хозяину.
Когда я вернулся в гостиницу, меня уже ждал там кучер, пришедший справиться, в котором часу на следующий день мне нужна будет карета. Я ответил ему, что хочу ехать немедленно, так как собираюсь ночевать в Гейдельберге.
Через десять минут карета стояла у дверей. Я попросил хозяина гостиницы показать мне хотя бы место, где казнили Занда. Он сказал несколько слов по-немецки кучеру, и тот пообещал остановиться в указанном месте. И правда, на выезде из города, слева от дороги в Гейдельберг, он открыл дверцу и показал мне зеленый луг, протянувшийся примерно на четверть льё и разделенный пополам небольшим ручьем.
– Вот, – сказал он, – Зандс Химмельфартвизе.
Слово это было слишком длинным и слишком трудным для произношения, поэтому я не стал требовать пояснений и ограничился тем, что вышел из кареты и бросил взгляд на луг, даже не зная, куда именно следует смотреть.
Но, к счастью, в это время мимо шел, прогуливаясь, какой-то человек; он остановился в нескольких шагах от меня, глядя в ту же сторону, что и я. Это был мужчина лет пятидесяти, полное лицо и спокойное благодушие которого настраивало в высшей степени в его пользу. Я осмелился подойти к нему.
– Сударь, – сказал я, – не могли бы вы показать мне точное место, где был казнен Занд?
– Охотно, сударь, – ответил он.
И, сойдя с дороги на луг, он пошел впереди, пригласив меня следовать за ним. Шагов через сто пятьдесят он остановился на пригорке рядом с ручейком и стукнул тростью о землю.
– Это здесь! – сказал он.
– Здесь, в этом месте, именно тут? Вы уверены?
– Совершенно уверен, сударь. Я при этом присутствовал.
– Как, сударь?! Вы при этом присутствовали! Вы видели, как умер Занд?
– Да, я видел, как он умер.
– Вы стояли в толпе!
– Нет, сударь, я стоял на эшафоте.
Я с удивлением посмотрел на него.
– Но на эшафоте, – сказал я, – обычно стоят только священник, осужденный… и палач.
– В тот день, сударь, там стояло четверо, ибо я не являюсь ни одним из тех, кого вы только что назвали.
– Но если так, сударь, то простите меня за довольно прямой вопрос: кто же вы тогда?
– Я начальник тюрьмы, где Занд содержался тринадцать месяцев.
– В таком случае, сударь, вы, должно быть, знаете немало бесценных подробностей об этом молодом человеке?
– Я храню его дневники, его письма, свои собственные воспоминания и его портрет, возможно, единственный, какой существует.
– Боже мой, сударь! – ответил я, приходя в восторг от того, что сумел столь неожиданным образом найти то, что искал, и в то же время опасаясь упустить представившуюся мне возможность. – Я иностранец, француз, как вы можете видеть, и путешествую по вашей поэтической Германии, чтобы собрать здесь все старинные и современные предания, какие мне удастся найти. Не соблаговолите ли вы поделиться со мной какими-нибудь из сведений, которыми вы располагаете?
– А с какой целью, сударь, собираете вы эти сведения?
– С самой что ни на есть патриотической для обеих наших стран, сударь; я слышал о Занде не как об обычном преступнике, но как о человеке, который надеялся спасти свое отечество, совершив акт величайшего самопожертвования. Во Франции, сударь, Занда по сей день знают лишь по имени и вполне могут спутать с каким-нибудь Мёнье или Фиески. Но каждому должно быть отведено то место, которого он достоин, даже если речь идет о мертвых. И потому я хотел бы, чтобы в глазах моих соотечественников Занд занял то место, какое он заслуживает.








