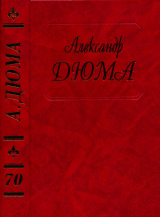
Текст книги "Прогулки по берегам Рейна"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 45 страниц)
– Но почему же, приехав с такими намерениями, вы на всякий случай не запаслись рекомендательными письмами к кому-нибудь в Мангейме?
– У меня было письмо к пастору Д… из Франкфурта; он прислал мне вот это письмо, адресованное доктору Видеману, хирургу из Гейдельберга.
– О да! – сказал он. – Этот человек может дать вам точнейшие сведения, но только относительно последних минут жизни Занда; к тому же он еще очень молод. Занд имел дело не с ним, а с его отцом.
– Но кто же этот господин Видеман? – спросил я.
– А вы разве не знаете?
– Нет.
– Это палач. Превосходный человек, который стал палачом, потому что им был его отец.
– Но вы ошибаетесь, в адресе стоит: "Доктор хирургии".
– Это немецкий обычай считать палачей хирургами, к тому же, знаете ли, должность "последнего судьи", или, как у нас говорят, "рубящего судьи", не вызывает здесь осуждения, как у вас во Франции. Здесь лалач может ходить в кафе и клубы, и если с ним не стараются сблизиться, то, по крайней мере, радушно принимают.
– Теперь меня больше не удивляет, что славный аббат Смете рассказал мне предание о черном кавалере.
– Вы знакомы с аббатом Сметсом?
– Так это он и дал мне письмо к пастору Д…
– Тогда я в обиде, что он забыл про меня; но позвольте мне, сударь, исправить его упущение: все имеющиеся у меня документы, которые касаются бедного Карла, в вашем распоряжении.
– О сударь, нет слов, чтобы выразить мою благодарность!
– Но вам потребуется целый день, чтобы разобраться с этими сведениями, – заметил мой собеседник.
– День, два, хоть неделю, если потребуется.
– Но вы же едете в Гейдельберг?
– Уже не еду!
– А ваша карета?
– Отправится назад в гостиницу.
– Ну что ж, сударь, так и сделайте. Вам ведь, наверное, необходимо дать какие-то указания; жду вас у себя.
– Буду у вас через полчаса.
– Вы будете желанным гостем, сударь.
И мы расстались: я отправился назад в гостиницу, а г-н Г., пошел приводить в порядок бумаги, которые он собирался передать мне.
Полчаса спустя я уже был у него.
Чтобы наш читатель понимал, о каких людях и каких событиях идет речь, нужно объяснить в нескольких словах, в каком состоянии находилась Германия, когда в Мангейме произошла та великая драма, о которой я собираюсь рассказать.
В главе, посвященной Бонну, мы уже говорили об успехе тайных обществ в среде немецких писателей. Эти общества, поощряемые самими монархами, которым они могли быть полезны, производили набор добровольцев и отправляли в Лейпциг и Ватерлоо почти всех университетских студентов старше шестнадцати лет. Эти молодые люди участвовали в кампаниях 1814 и^ 1815 годов, а затем вернулись в Гёттинген, Гейдельберг и Йену, чтобы продолжить образование. Но понятно, что после того, как они провели два или три года в армии, управлять ими стало не так-то легко; было нелепо обращаться, словно с детьми, с солдатами, которые были изуродованы шрамами, причем оставленными не рапирами и schlagers, а французскими саблями.
В итоге, в ходе своего рода внутренней университетской борьбы, развернувшейся после двух этих военных кампаний, сами профессора разделились на два лагеря: одни поддерживали власть, другие – молодых патриотов, столь жестоко разочаровавшихся в своих надеждах. В числе профессоров, вставших на защиту своих учеников, были доктора Окен и Луден; первый преподавал естественные науки, второй – историю.
К тому времени господин доктор Окен вот уже три года издавал периодический сборник под названием "Изида", посвященный исключительно естественным наукам, но когда г-н Окен увидел, что он сам и его ученики подвергаются нападкам и в области самых дорогих для него взглядов, и в области религиозной веры, ему стала понятна важность имевшегося у него в руках оружия, которое, будучи прежде безвредным, теперь, благодаря популярности журнала среди многочисленных подписчиков, могло стать грозным. В конце концов, доведенный до крайности, он решил сделать такую попытку, и в "Изиде" вдруг появилось несколько едких политических памфлетов, вызвавших восторг читателей и крайнее изумление властей. Тем не менее великий герцог Веймарский, превосходный государь, противник крутых мер, запретил наказывать г-на Окена; но за первыми статьями последовали новые, и Россия, Пруссия и Австрия единодушно потребовали отставки главного редактора "Изиды". Однако настойчивые просьбы великого герцога Веймарского, обращенные к трем державам, привели к тому, что ему удалось добиться поправки к этому требованию, равносильному приказу; в итоге г-н Окен должен был выбрать между кафедрой и журналом.
Этот ультиматум был предъявлен г-ну Окену, который ответил, что ему неизвестен закон, запрещающий совмещать эти две функции, и что вплоть до появления такого закона он сохранит и кафедру, и журнал. В ответ на это заявление, в июне 1819 года, он был уволен без суда и следствия, и постоянная комиссия законодательной палаты герцога Веймарского не только позволила осуществить этот государственный переворот, но даже одобрила его противозаконность.
Ученики г-на Окена выразили протест против его увольнения, преподнеся ему золотой кубок, на котором было выгравировано следующее философское изречение:
«Тебе предлагают абсент, пей вино!»
Господин Окен вновь взялся редактировать "Изиду", и журнал становился все более популярным, поскольку его редактор считался мучеником либеральных идей, которые в ту пору разделяла вся немецкая молодежь.
Господин Луден, со своей стороны, основал в 1814 году другой журнал, "Немезиду". Это издание, как указывает его название, имело целью разжигать ненависть к французам, и в этом качестве оно было принято и даже поддержано Священным союзом; но когда был заключен мир, а с ним пришло и разочарование немецкого народа, журналист обернул свое перо против тех, кто не сдержал святое слово, только что данное перед лицом всего мира. Разница состояла лишь в том, что г-н Луден, отличавшийся более спокойным и более сдержанным характером, чем его коллега г-н Окен, проводил свои атаки не так резко и с удивительной осмотрительностью, поскольку его статьи, в которых невозможно было усмотреть выпады против кого-то конкретно, предлагали лишь исторические дискуссии, касающиеся неопровержимых фактов, "Немезида" не дала повода для преследований, и ее недруги были вынуждены дожидаться благоприятного момента, чтобы нанести по ней удар. Ссора, произошедшая между Коцебу и г-ном Луденом, предоставила им эту возможность.
Статья в "Немезиде", написанная самим г-ном Луденом относительно гражданских ведомств России и ее внешней политики, содержала замечания, которые, возможно, таили в себе тем большую опасность для этого обидчивого правительства, что они были высказаны с соблюдением приличий, всегда присущих опытному автору. Статья эта попала в руки Коцебу. Все знают, какие необычные обязанности он выполнял в Германии, работая на императора Александра, а поскольку в это время государственный советник его самодержавного величества находился в состоянии открытой войны с университетами, он воспользовался тем, что ему надо было представить императору Александру второй доклад о состоянии германского либерализма, и включил туда отчет о статье г-на Луде-на, подчеркнув все те места в ней, какие могли задеть императора, и умолчав о всех тех, какие могли бы смягчить первые, причем сопроводил все это заметками самого оскорбительного толка о двуличии, которое ее автор проявляет в общественной и личной жизни. Доклад этот был написан по-французски.
К несчастью для Коцебу, оригинал доклада был испещрен пометками и необходимо было переписать его набело; для этого он отдал его какому-то общественному писарю, который унес рукопись домой и, плохо зная французский и опасаясь наделать ошибок, справлялся по поводу отдельных слов и отдельных фраз, непонятных ему, у доктора Л… Одно из таких мест как раз и было направлено против г-на Лудена. Эта резкая критика возбудила любопытство доктора Л…, который, узнав, что рукопись принадлежит Коцебу, сделал вид, что он тоже чего-то в ней не понимает, и попросил переписчика оставить ему рукопись на несколько часов. Переписчик, многим обязанный г-ну Л…, не посмел отказать ему в этой просьбе, которой, к тому же, он, вероятно, не придал никакого значения. Господин Л…, завладев на время докладом, тотчас же снял с него копию и отправил ее г-ну Лудену. Тот, отобрав самые из ряда вон выходящие пассажи и сопроводив их в свою очередь нелестными замечаниями по адресу Коцебу, отправил эти материалы в редакцию "Немизиды", чтобы они пошли в набор следующего номера. Каким-то образом Коцебу стало известно о вероломстве переписчика и о том, что из этого вероломства вот-вот должно было воспоследовать. Он тут же бросился к графу Лединьи, министру иностранных дел, и все ему рассказал. Граф Лединьи, предвидя, что эта публикация вызовет лишь еще большее брожение умов, приказал печатнику остановить набор номера; но распоряжение опоздало: тираж был запущен, и, поскольку не было официального приказа, запрещавшего публикация^.печатник поспешил передать готовые экземпляры в Иену; то, что осталось в типографии, было задержано и пущено под нож, но две или три сотни журналов уже распространялись среди студентов. И тогда г-н Окен перепечатал статью в номере "Изиды", который в свою очередь был арестован. Но запрещенная статья тотчас появилась снова в журнале, издаваемом Виландом-млад-шим. Этот журнал был в свою очередь арестован и запрещен; однако цель была достигнута: статья обошла всю Германию, и Коцебу был гласно изобличен как шпион.
Разъяренный Коцебу опубликовал брошюру, направленную против правительства великого герцога, против университетов и против профессоров, которых он называл якобинцами; это был подлинный призыв к деспотическому образу правления, это был набат, звавший выступить против либеральных настроений.
В это время в Иене жил юноша примерно двадцати двух лет от роду, выделявшийся среди товарищей нелюдимостью и серьезностью. Почти мальчиком он добровольцем участвовал в битве при Ватерлоо, а потом, как и его товарищи, вернулся в университет, чтобы завершить образование. Он был из той породы людей, мироощущение которых более всего омрачается политическими разочарованиями. Ежедневно он записывал в дневник не только те мысли, какие волновали его, но и то хорошее и то плохое, что было совершено им в течение дня. 24 ноября 1817 года в руки ему попала брошюра Коцебу, и вечером 24 ноября он записал в своем дневнике:
"Сегодня, после усердных и прилежных занятий, я вышел часов около четырех вместе с Э… Проходя по Рыночной площади, мы услышали, как там читают новую злобную ругань Коцебу. Какую же дикую ярость против буршей и всех, кто любит Германию, возбуждает этот человек!"
Впервые в этом дневнике, в котором дотоле юноша простодушно отражал свои радости и огорчения, было упомянуто имя Коцебу; но за этим первым упоминанием должно было последовать немало скрытых намеков и прямых нападок. И в самом деле, 31 декабря того же года в том же дневнике он записал в свойственной ему экзальтированной манере:
"О милосердный Боже! Этот год я начал с молитвой, но в последнее время был рассеян и пребывал в плохом настроении. Оглядываясь назад, я вижу, увы, что мне не удалось стать лучше; но я дальше продвинулся по жизни и теперь чувствую, что, если предоставится случай, у меня есть силы действовать.
Ты всегда был со мною, Господи, даже тогда, когда я не был с тобой".
На следующий день, 1 января 1818 года, молодой человек начал новый дневник и на чистом обороте его обложки написал все в том же стиле:
"Господи! Дозволь мне укрепиться в замысле освободить человечество через посредство святой жертвы, какую принес твой сын. Сделай так, чтобы я стал Христом для Германии и, как Иисус и с его помощью, сделался сильным и терпеливым в страдании".
Спустя четыре месяца он пишет:
"5 мая.
Господи, отчего же эта тоскливая печаль снова овладевает мной?! Ведь твердая и постоянная воля все преодолевает, и мысль об отчизне придает самым унылым и самым слабым радость и отвагу. Размышляя об этом, я всякий раз удивляюсь, почему среди нас не нашелся никто достаточно мужественный для того, чтобы всадить нож в горло Коцебу или любому другому предателю".
Затем, 18 мая, он продолжает:
«Человек – ничто в сравнении с народом, все равно как единица в сравнении с миллиардом, минута в сравнении с веком. Человек, которому ничто не предшествует и за которым ничто не следует, родится, живет и умирает, существуя в течение менее или более продолжительного промежутка времени, который в сравнении с вечностью короче вспышки молнии; народ же, напротив, бессмертен».
И наконец, 31 декабря 1818 года, укрепившись в своем кровавом решении, он записал:
«Этот последний день 1818 года я завершил в серьезном и торжественном настроении и решил, что прошедшие недавно рождественские праздники будут для меня последним Рождеством, которое я отпраздновал… Чтобы из наших усилий что-то получилось, чтобы дело человечества одержало верх в нашей отчизне, чтобы в эту эпоху безверия смогли возродиться и утвердиться религиозные чувства, необходимо одно условие: подлый Коцебу, мерзавец, предатель и совратитель молодежи, должен быть уничтожен! И пока я не совершу задуманное мною, у меня не будет больше покоя. Господи, ты знаешь, что я посвятил жизнь этому великому делу и теперь, когда лишь оно одно в моих мыслях, мне ничего не остается, как молить тебя: даруй мне истинную стойкость и душевное мужество».
Юного фанатика, который тем самым превращал Бога не только в соучастника, но и в подстрекателя убийства, звали Карл Людвиг Занд.
Он родился 5 октября 1795 года в Вунзиделе, в семье Готфрида Кристофа Занда, первого председателя и советника прусского королевского суда, и его супруги Доротеи Иоганны Вильгельмины Шёпф; следовательно, в то время ему только что исполнилось двадцать два года.
В юности ему удалось, словно чудом, избежать многих опасностей, что заставило кое-кого утверждать, будто судьба его была предопределена свыше.
И это роковое предопределение, как мы сейчас увидим, свершилось.
КАРЛ ЛЮДВИГ ЗАНД
И в самом деле, начиная с того момента, на котором мы остановились, Занд лишь утверждался в принятом им преступном решении. Он сменил предмет своих учебных занятий и каждый день ходил в анатомический театр, с особым вниманием наблюдая за действиями прозектора; он просил, чтобы ему подробнейшим образом объяснили, как работает сердце, и старался точно определить, какое место занимает этот орган в грудной клетке: так генерал проводит рекогносцировку местности, перед тем как начать атаку.
Несколько месяцев прошло в этих жутких штудиях, но даже ближайшие друзья Занда ничего не заподозрили. На смену его грусти и унынию, напротив, пришли спокойствие и крайняя доброжелательность. Однако время от времени он совершал непонятные поступки, и это заставляло думать, что он страдает безумием. Вот один из таких поступков, ставший известным в университете и весьма развеселивший товарищей Занда.
Как-то раз Занд, услышав шаги одного из своих друзей, поднимавшегося по лестнице, взял нож для разрезания бумаг и встал возле стола, а затем, когда его друг открыл дверь, бросился на него и приставил к его лицу острие ножа. Друг, не зная, настоящая ли это угроза или мнимая, попытался обеими руками отвести удар. В ту же минуту Занд ударил его ножом в грудь, а затем с величайшим спокойствием произнес:
– Видишь, как надо действовать, если хочешь убить человека: целишься в лицо, он поступает так же, как ты, закрывая лицо руками, и тогда вонзаешь ему нож прямо в сердце.
Три месяца спустя эта загадка была объяснена при помощи одного-единственного кровавого слова – Коцебу!
В конце февраля Занд объявил, что он пропустит занятия в университете, поскольку ему необходимо ненадолго уехать по семейным делам. Наконец, 7 марта он пригласил всех друзей к себе на вечеринку и объявил им, что его отъезд состоится через день, 9 марта. Друзья вызвались проводить его, проехав вместе с ним два или три льё, но Занд, опасаясь, что такое пусть даже совсем невинное проявление дружбы может впоследствии бросить на них тень, отказался и в тот же вечер распрощался с ними.
Оставшись один, он написал членам своей семьи следующее странное письмо:
"ВСЕМ МОИМ БЛИЗКИМ.
Верные и вечно любимые сердца!
Я спрашивал себя, стоит ли еще более усугублять вашу скорбь? Я не решался написать вам. Однако святость сердца была бы уязвлена моим молчанием. Так пусть же из моей исполненной терзаний груди исторгнется длинная и мучительная последняя исповедь, которая только одна и способна, если она искренна, смягчить боль расставания!
Это письмо – о моя мать, о мой отец, о мой брат, о мои сестры! – несет вам последнее прости вашего сына и брата.
Для любого благородного сердца нет большего несчастья в жизни, чем видеть, как богоугодное дело приостанавливается по нашей вине… и самым страшным позором было бы смириться с тем, что то высокое и прекрасное, которое отважно добывали тысячи людей и за которое тысячи людей с радостью жертвовали собой, оказывается всего лишь мимолетной грезой без всяких реальных и определенных последствий. Возрождение нашей немецкой жизни началось в последнее двадцатилетие и прежде всего в священном 1813 году, благодаря мужеству, которое вдохнул в нас Господь. И вот отеческий дом потрясен от фундамента до конька кровли. Вперед же! Возведем новый и прекрасный дом – такой, каким должен быть подлинный храм истинного Бога.
Их немного – тех, кто подобно плотине, пытается остановить стремительный поток высокой человечного сти в немецком народе. Почему же огромные толпы покорно склоняются под ярмо порочного меньшинства? И почему, едва излечившись, мы впали в болезнь еще худшую, чем та, от какой нам удалось избавиться?
Некоторые из таких растлителей душ, и это самые бесчестные, играют с нами в игру, развращающую нас; к их числу принадлежит Коцебу – самый умелый и коварный из всех; это настоящая словесная машина, которая исторгает гнусные речи и пагубные советы… Его голос способен унять все наше недовольство и всю нашу горечь от самых несправедливых мер; именно в этом нуждаются короли, для того чтобы погрузить нас в прежний ленивый сон, смертельно гибельный для народов. Каждый день этот человек постыдно предает отчизну и, тем не менее, невзирая на предательство, остается идолом для половины Германии, и она, обольщенная им, безропотно глотает яд, который он подсыпает ей в своих регулярно выходящих памфлетах, укрытый и окутанный обольстительным покровом поэтической славы. Подстрекаемые им государи Германии, забыв свои обещания, запрещают все свободолюбивое и благое, а если что-то подобное совершается вопреки их воле, они вступают в сговор с французами, дабы это уничтожить. Чтобы история нашего времени не оказалась запятнана вечным позором, Коцебу должен пасть.
Я всегда утверждал: если у нас есть желание отыскать в высшей степени действенное лекарство от того состояния униженности, в каком мы пребываем, необходимо, чтобы никто не страшился ни войны, ни страданий; подлинная свобода немецкого народа будет достигнута лишь тогда, когда славный бюргер сам вступит в бой, а каждый сын отечества, готовый к борьбе за справедливость, презрит блага мира сего и устремится к благам небесным, путь к которым лежит через смерть.
Кто же поразит этого гнусного наемника, этого продажного предателя?
Я рожден не для убийства и долго ждал в тревоге, молитве и слезах, чтобы кто-нибудь меня опередил, освободил от этой ноши и позволил мне продолжать избранный мною спокойный и мирный путь. Но, несмотря на все мои молитвы и слезы, не нашлось никого, кто нанес бы удар; и в самом деле, каждый человек, точно так же как я, имеет право рассчитывать на другого, и, пока все рассуждают так, каждый час промедления лишь усугубляет наше положение, ибо с минуты на минуту Коцебу может безнаказанно покинуть Германию – разве не станет это для нас глубочайшим позором? – и уехать в Россию проживать богатства, за которые он продал свою честь. Кто может оградить нас от такого позора, если каждому из нас – если мне самому – недостанет сил спасти возлюбленную отчизну, приняв на себя избранничество и свершив Божий суд?
Итак, вперед! Я смело ринусь на него (только не пугайтесь!), на этого гнусного совратителя, и убью предателя, чтобы его продажный голос умолк и перестал удерживать нас от исполнения предначертаний истории и Божьего промысла. Неумолимый и высокий долг понуждает меня к этому поступку с тех пор, как я постиг, сколь возвышенных целей может достичь немецкий народ в нынешнем столетии; после того, как мне стало известно об этом негодяе и изменнике, который один только и препятствует достижению этих предначертаний, такое побуждение стало для меня, как для всякого немца, стремящегося ко всеобщему благу, суровой и неукоснительной необходимостью. Пусть же этим отмщением, совершенным от имени народа, мне удастся указать всем честным и правдивым людям, где кроется подлинная опасность, и отвести от наших униженных и оклеветанных студенческих союзов страшную и такую близкую угрозу! И пусть мне удастся вселить страх в злосердечных и подлых и придать мужества и веры чистым душой! Речи и писания не ведут ни к чему; действенны только поступки.
Итак, я буду действовать, и, хотя обстоятельства вынуждают меня расстаться со светлыми мечтами о будущем, я все равно полон упований на Всевышнего; более того, я испытываю божественную радость с той поры, как, подобно древним евреям, искавшим Землю обетованную, увидел перед собой лежащий во мраке ночи путь, в конце которого мне предстоит отдать свой долг отчизне.
Прощайте же, верные сердца! Разумеется, эта внезапная разлука тяжела; разумеется, ваши надежды, как и мои упования, обмануты. Вы, несомненно, будете говорить между собой: «И все-таки, благодаря нашим жертвам он сумел познать жизнь и вкусить земных радостей и, кажется, глубоко любил родную страну и скромный удел, который был ему предначертан». Увы, это правда. Благодаря вашему попечительству и вашим бесчисленным жертвам родная страна и жизнь стали мне бесконечно дороги; да, благодаря вам я вошел в эдем науки и жил свободной умственной жизнью; благодаря вам я заглянул в историю, а затем вновь обратился к собственному сознанию, дабы приникнуть к незыблемым столпам веры во Всевышнего.
Да, я должен был мирно прожить эту жизнь проповедником Евангелия; да, я должен был, сохраняя верность своему званию, укрываться от бурь земной юдоли. Но разве этого было бы достаточно, чтобы отвратить опасность, грозящую Германии?
И разве вы сами, в своей безмерной любви, не обязаны были бы, напротив, побудить меня рискнуть жизнью ради общего блага?
Скажи кто-нибудь, что я недооцениваю вашу любовь или что ваша любовь мало для меня значит, вы не поверили бы в это. Что направляет меня к смерти, как не преданность вам и Германии и не потребность доказать эту преданность своей семье и своей стране?
Матушка, ты спросишь: «Зачем я вырастила сына, которого любила и который любил меня, сына, стоившего мне стольких забот и стольких мук, сына который, благодаря моим молитвам и моему примеру, был так восприимчив к добру и от которого мне предстояло на склоне моего долгого и трудного жизненного пути получать такую же заботу, какую некогда я оказывала ему?!.. Почему же теперь он покидает меня?»
О моя добрая и нежная матушка, возможно, вы так спросите; однако разве не могла бы задать такой вопрос каждая мать? Но ведь тогда все обратится в слова, а нужно действовать! А если никто не захочет действовать, что станет с нашей общей матерью, которая зовется Германией?
Нет, ты не унизишься до таких жалоб, и если бы теперь, в этот час, никто не поднялся за дело Германии, ты, о благородная женщина, сама послала бы меня на битву. У меня есть два брата и две сестры, прекрасные, честные люди. Они останутся с Вами, матушка, а кроме того, Вашими сыновьями станут все дети Германии, любящий свою отчизну.
У каждого человека есть предназначение, которое ему надлежит исполнить; мое состоит в том, чтобы совершить задуманный мною поступок. Если бы мне предстояло прожить еще пятьдесят лет, я не смог бы прожить их счастливей, чем жил в последнее время.
Прощайте, матушка! Препоручаю Вас покровительству Господа, и да ниспошлет он Вам то блаженство, какое неспособны более омрачить никакие горести! Поскорей проведите своих внуков, которым я так хотел быть нежным другом, на самую высокую вершину наших прекрасных гор; и пусть там, на этом алтаре, воздвигнутом самим Господом посреди Германии, они принесут себя в жертву и дадут клятву взять в руки меч, как только у них достанет силы поднять его, и не выпускать до тех пор, пока все наши братья не соединятся ради борьбы за свободу, пока все немцы, получив либеральную конституцию, не станут великими перед Богом, могучими перед лицом недругов и сплоченными между собой.
Пусть же моя родина всегда возносит счастливые взоры к тебе, Всемогущий Отец! И да снизойдет твое безмерное благословение на ее нивы, готовые к жатве, и на ее армии, готовые к сражению, и да станет среди всех народов немецкий народ, признательный за благодеяния, какие ты на него изливаешь, первым, кто поднимается на поддержку дела человечности, ибо она есть твой образ на земле.
Ваш неизменно любящий сын, брат и друг
Карл Людвиг Занд.
Йена, 8марта 1819 года".
Занд сочинял это необычное письмо в два приема: первую половину в ночь с 7-го на 8-е, а вторую – в ночь с 8-го на 9-е. Когда оно было закончено, он написал вместо адреса: "Моим самым дорогим и самым близким", положил конверт на письменный стол, на самом видном месте, лег спать и заснул, как обычно. На рассвете, позаботившись взять с собой ключ от комнаты, он отправился в дорогу, предварительно арендовав свое жилье еще на семестр и заплатив вперед за два месяца. Путь его пролегал через Эрфурт и Эйзенах. 23-го, в девять часов утра, он поднялся на вершину небольшого холма, откуда открывался вид на Франкфурт. Там он на миг задержался, для того, чтобы, как позже он сам пояснил, поискать глазами то место, где его похоронят.
Прибыв в Мангейм, Занд отправился в гостиницу Вайнберга. Как водится, его попросили расписаться в книге постояльцев, и он вписал себя туда под именем Генрих; затем он осведомился, где находится дом Коцебу, и, когда ему сказали, что дом этот расположен напротив церкви иезуитов, попросил назвать букву и номер дома, чтобы не ошибиться.
Примерно в половине одиннадцатого Занд постучал в дверь государственного советника. Как выяснилось, Коцебу ушел в парк при замке, чтобы совершить утреннюю прогулку. Занд, сославшись на то, что у него срочное дело, попросил указать ему, по какой аллее любит прогуливаться Коцебу, и отправился на его поиски. Но то ли Коцебу избрал другой маршрут для прогулки, то ли Занд получил неточные сведения относительно костюма и внешности того, кто был ему нужен, но он не встретил его в парке или просто не узнал. Занд прогуливался до половины двенадцатого. Затем, потеряв надежду найти Коцебу в парке, он вернулся в гостиницу, решив вернуться к нему домой днем.
Было как раз время табльдота; Занд, выказывая полнейшее спокойствие, сел за стол. Разговор у сотрапезников зашел о богословии; и тогда Занд, с превосходнейшим аппетитом поглащая обед, стал развивать свои взгляды на бессмертие души и говорил с такой великой убежденностью и с таким красноречием, что все притихли, чтобы послушать его. Но вскоре, видя, какое действие производит его речь, Занд остановился и с улыбкой попросил у присутствующих прощения за то, что он так завладел беседой.
После обеда Занд поднялся в свою комнату; вероятно, он молился Богу. В три часа он вышел из гостиницы и снова направился к дому Коцебу.
В тот день советник устраивал званый обед; но, узнав, что утром к нему приходил какой-то молодой человек и настоятельно требовал поговорить с ним, он приказал, на тот случай, если этот юноша явится снова, впустить его. Поэтому, едва увидев и узнав Занда, слуга сообщил ему, что советник вернулся, и проводил его в рабочий кабинет, примыкавший к прихожей. Минуту спустя туда вошел Коцебу. Занд дождался, пока он прошел почти через всю комнату, и, когда за ним закрылась дверь, повторил сцену, которую мы описывали: он выхватил из кармана нож и поднес его к лицу Коцебу. Коцебу закрыл лицо руками. В то же мгновение Занд до упора вонзил ему в грудь лезвие ножа. Сердце оказалось пробито насквозь; Коцебу слегка вскрикнул и упал.
Но, каким бы слабым ни был этот крик, его услышала дочь Коцебу. Это была шестилетняя девочка, прелестное немецкое дитя с длинными белокурыми волосами, в белом платьице и голубым бантом на поясе, наподобие тех, какими Рафаэль украшал стан своих ангелов. Увидев, что отец лежит на полу, бедная малышка с рыданиями бросилась к нему и закричала: "Папа, папочка!" Занд не мог вынести этого душераздирающего зрелища детского горя и, внезапно увидев свой поступок во всей его жуткой наготе, вонзил себе в грудь, по самую рукоятку, кинжал, еще обагренный кровью Коцебу.
Однако, к его глубокому удивлению, он не упал; тем не менее глаза его на миг заволокла кровавая пелена, и ему стало понятно, что он попадет в руки слуг живым. Инстинктивное чувство самосохранения возобладало над решимостью покончить собой. Он обернулся, едва держась на ногах, открыл дверь, бросился к лестнице и столкнулся с семейством, явившимся на обед к Коцебу; увидев человека, испачканного кровью, с ножом в груди, гости испуганно закричали и расступились перед ним, вместо того чтобы задержать его. Занд выскочил на улицу, но, оказавшись на пороге, в десяти шагах от себя увидел солдат, явившихся на смену караула в замке. Занд решил, что они прибежали на крики, раздававшиеся ему вдогонку; возможно также, что у него ослабли ноги; он упал на колени в пяти или шести шагах от дома, сложил ладони и громко произнес короткую молитву, потом вытащил нож из раны, нанес себе второй удар рядом с первым и рухнул без сознания, крикнув:
– О Боже, прими мою душу!
Что же касается Коцебу, то он был мертв.
ТЮРЬМА
Патрулем командовал баденский майор Хольцунген. Он подошел к Занду, полагая, что тот мертв, но, увидев, что это всего лишь обморок, велел перенести раненого в больницу. Там Занд находился под строжайшей охраной, хотя в этом не было надобности, ибо его раны были настолько серьезными, что он едва мог говорить; дышать же он мог только лежа на спине. Одна из его ран все же зажила, но что касается второй, то, поскольку лезвие ножа прошло между подреберной плевой и плеврой, между двумя этими пленками образовалось кровоизлияние; поэтому, вместо того, чтобы дать ране затянуться, ее намеренно держали открытой и каждое утро откачивали оттуда скопившуюся за ночь кровь, как это делается при удалении гноя из грудной полости. Три месяца Занд находился между жизнью и смертью; тем не менее по прошествии трех месяцев состояние больного улучшилось в достаточной степени для того, чтобы его можно было перевезти в тюрьму. Там он встретился с г-ном Г… который ждал его и приготовил для него лучшую камеру: дело в том, что уже тогда Занда не считали обычным преступником. Впрочем, можно составить себе представление о том, как обращались с заключенным и какие муки он испытывал, из письма, помеченного словами «мой остров Патмос»; в этом письме, написанном отцу в январе 1820 года, он благодарит его за благословение, которое старик послал ему в день своего шестидесятисеми л етия.








