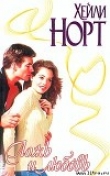Текст книги "Страсти по Фоме. Книга 2 (СИ)"
Автор книги: Сергей Осипов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц)
– Мы не прощаемся с тобой!..
– Мы никогда!..
– Мы всегда!..
– Земля пухом!..
– Небо твердью!..
– Ты с нами…
– Мы без тебя…
– Аминь, аминь, аминь! – звучало после каждого панегирика и на каждом перекрестке, но слышалось совсем другое: изыди! – и: чур меня!..
Многие вспоминали, как помогали графу Иеломойскому в борьбе против Скарта и его приспешников. Мартин-младший своевременно предупреждал его об опасности, когда Скарт подсылал наемных убийц. Мартин-старший сразу понял, что это за великий человек, подружился с ним с первой встречи и беззаветно подставил свою грудь, лишь бы спасти спасителя отечества. Мартин-младший, встав поближе, добавил, что и он – грудь!..
Венки, песок, камни стучали по голове графа…
Человек, примерно, тридцать придворных заблаговременно предупредили рыцаря Томаса о том, какую опасность представляет начальник тайной полиции, еще столько же – рассказали графу, какой вид оружия выберет злодей для поединка, и не меньше десятка нашлось таких, кто подсказали сэру Томасу, каким образом можно победить Скарта и специально поставили деньги против него, чтобы не выдать друга. Теперь вот в проигрыше, но зато страна… хотя денег жалко, но не в этом дело.
Мартин-младший, снова прорвавшись к могиле, добавил, что и он – деньги, и много, последние! Но тоже не жалко, хотя и обидно! В общем, единение было полным: все всё знали, всё заранее приготовили и подготовили самого графа Иеломойского к свержению дикого и ненавистного Скарта. Рыцарю оставалось совсем немного – бросить копье и попасть. Впрочем, копье ему тоже подобрали специальное – самонаводящееся, а Скарту дали понюхать, незаметно, жидкость для подставления головы под удар. Только что маркиз Вало не говорил, что каждый день, а то и дважды, если выздоравливал, он лично поставлял оружие графу, рискуя отдельными частями тела.
Политически выдержанную речь произнес Меркин – нудно, с разбором военно-экономического положения в королевстве и его окрестностях, забирая все дальше и дальше в дебри обществоведения; многие уснули, а проснувшись запели невпопад «как славен город наш во мраке!..»
Говорили Блейк и Торк…
Фома изо всех сил подмигивал говорившим, но они этого не замечали. Тогда он стал подмигивать Мэе – она-то должна заметить! Тщетно, она словно спала. Относительно цветущий вид графа производил на всех двойственное впечатление, хотя и служил неопровержимым доказательством его правоты. Но его пугающие появления то тут, то там, заставляли думать о преступной связи с нечистой силой. Свят, свят, хранители наши небесные, царю наш единый!..
– И глаз, вишь, один не закрывается, – шептались хоронившие. – Словно подмигнуть собирается!
– Да это он следующего высматривает! – ахал кто-то, торопливо и старательно осеняя себя кругом и прячась за спины. – За собой, значит, зовет! Не зря старухи говорят: если глядет одним глазом, хоть закройся медным тазом!
Надо закопать полностью и землю утрамбовать, советовали самые нетерпеливые, маркиз Вало, например, который предлагал сплясать на могиле, исходя из государственных интересов. И вообще все время рвался к могиле, хватался за лопату, поражая своей неловкостью, когда начинал вдруг бить ею покойника по голове, вместо того, чтобы закапывать. Лопату отбирали, но маркиз не успокаивался, предлагая посадить на могиле дерево или хотя бы забить осиновый кол, а вокруг забетонировать. Пришлось Фоме завернуть из своих параллельных прогулок и к маркизу, и провести разъяснительную беседу. После этого Вало к краю могилы не подходил, прятался в толпе и бросал оттуда комки грязи с камнями, норовя попасть в голову.
Надо еще раз отметить, что погоды стояли небывалые, настолько, что прекратились даже боевые действия – пекло! Все живое пряталось в тень, в глубь, и только несчастный двор, обливаясь потом и слезами бессилия, торжественно, раз за разом, закапывал графа Иеломойского, боясь избавиться от покойника более радикальным способом – явится еще! Поэтому странное поведение маркиза списывали еще и на жару – скорбит де!..
«Прошли примерно тысячи лет… в обе стороны, – вспомнил он, как сказал когда-то Фома, попав из Открытого мира в ту же самую ситуацию, которую они оставили накануне. – Ничего не прошло и ничего не наступило. Мы остановили мгновение, Доктор. Фауст – отдыхает!..»
Фома, как всегда невзначай, указал Доктору на одну из главных загадок Открытого мира: можно выйти из него и вернуться, не потревожив временной переменной ни одной из реальностей. Правда, при этом надо быть таким же «счастливчиком» как Фома. Забавные парадоксы, парадоксальные забавы. Можно было встретить свою смерть еще в обличии ребенка; если ты достаточно хладнокровен, чтобы «пережить» собственную смерть, то Открытый мир не скупится на такие откровения, так же как и на нечаянные встречи.
Доктор застыл, слушая Открытый мир. Он мог "сидеть" так и слушать следы целую вечность или «половину» её, как говорил тот же Фома. Половину это как, удивлялся Акра, тогда еще не привыкший к его манере изъяснения.
– А вот как прервешься, так и половина. Кто докажет обратное?
– Но сколько от бесконечности не отнимай, все равно остается бесконечность!
– Так прерываешься-то ты, а не бесконечность, ты прервался на половине, а она как была, так и осталась. Бесконечность это пропасть, середина которой всегда в тебе.
Акра поразился. Действительно, мир настолько огромен, что где бы ты не находился, ты все равно находишься в центре бесконечности, в ее пропасти, в самом эпицентре бушующего вокруг тебя урагана вселенной.
Вот почему в каждом субъекте сознания есть ощущение, что он – центр мира, его пуп, вот на чем зиждется его неистребимый эгоцентризм – аз есмь! И все вертится вокруг меня!.. Но отсюда же и необъяснимый животный страх перед этим самым миром – пропастью – как бы не пропасть!
Прошла информация о Хруппе. Почему он не хочет уходить, ведь Скарт мертв? Что-то ищет?..
Доктор снова бросился в погоню. Теперь, когда треугольник Хрупп – Скарт – король распался, сизарь становился более уязвим в поле Кароссы…
Но почему Фома не остался за Чертой, вернулся он к прежним мыслям. Что-то мешает? Смешно, что может мешать сайтеру, который от всего освободился? Не хочет?.. Это невозможно, при его любви к удовольствиям, игнорировать вечное блаженство! Тогда что? Кто может сказать? Сати? Да, достань сейчас Сати!.. Кальвин?.. Не скажет, даже если знает… Сиятельные? Но как к ним попасть, если неизвестно даже, кто они? Никто этого не знает, можно только догадываться. Ави? Геро? Моноро?.. Вряд ли кто скажет, омерта!
Фома же никак не мог остановиться, улетая и возвращаясь, словно кто-то там, наверху, в горней монтажной, клеил авангардное кино-буриме. Он был у Мамаши, у Папаши и даже у чертовой Бабушки, словно постигая потусторонний бестиарий на практике, и везде всё та же отвратительная смесь красоты и уродства и все те же четыре бетховенские ноты: па-ба-ба-баам!.. Здешнего имиджмейкера можно было увольнять, он лепил халтуру направо и налево, уповая на одноразовость посещения здешних мест, то есть не рассчитывая, что кто-то заглянет сюда дважды, трижды…
Поэтому не мудрено, что Папаша был страшно удивлен несерьезностью Фомы, заявившего протест по поводу однообразия.
– Приехали, жмурик, о чем ты? Ты разве не знаешь, что ты умер?..
Фома прислушался к пустоте в себе.
Пустота заворожено молчала, словно потрясенная услышанным не менее самого Фомы.
«Я умер?» – спросил он себя, на всякий случай. «Еще чего! – донеслось до него из самой глубины пустоты. – Я ж бессмертна, ты что забыл?! Ну-ка, свинчиваем отсюда, пока живы!..»
И Фома сразу поверил – душа не врет. Ему-то было хоть бы что, а вот она, при упоминании о смерти, тряслась так, что его колотило. Буквально на секунду глаза прикрыл, а уж сразу – покойник! Беспредел! Моргнуть нельзя! У них же тоже, наверное, есть дети? А если они проморгаться захотят?
Папаша Большой Каюк слушал его открыв рот: вроде знакомые слова, но что говорит этот рыжий? Какие глаза, какие дети? У кого?.. Что вообще происходит на том свете? Нет, пусть Мамаша сама разбирается со всем этим!
– Нет! – закричал Фома, но было поздно.
Откуда-то вылетела огромная лопата и преобразовала действительность до колокольного звона в голове. Его опять хоронили и опять не уследили за маркизом. Жизнь у него теперь была, как у вампира. Сегодня закопали, завтра откопали, днем монеты в рот, ночью какие-то люди, больше похожие на покойников, чем сам Фома, ползали у него во рту грязными заскорузлыми пальцами, раздирая щеки. Казначеи, при упоминании о Фоме, бледнели и уходили в отставку. Стоял только один вопрос: что делать? – потому что, кто виноват было предельно ясно.
Какой-то умник, вызванный из тундры, посоветовал женить графа. Там, среди вечной мерзлоты и трудностей с разложением трупов, считалось, что если покойник не тлеет, то его надо женить или присвоить какой-нибудь гражданский або воинский чин. У них, мол, в тундре все так делают и никаких «трундостей» не испытывают.
Послушали и шамана, но чин покойнику придумать не могли, только в страшном сне может присниться, что странный рыцарь твой начальник. Нет! Лучше женить! Женить же графа можно было лишь в том случае, если имелась особь женского пола, согласная связать свою жизнь с покойником, как ни душераздирающе это звучит.
Как они там живут в тундре?! – ахали старые мамзели, не выдерживая напора регресса.
Но с этим, то есть с невестами, было как ни странно легче, настолько, что если бы не Меркин, Мэя, несмотря на официальное предложение графа, так никогда и не вышла бы замуж за него, пусть и посмертно. От желающих связать свою судьбу с умершим сюзереном Иеломойи не было отбоя – завидный покойничек был по наследию, хотя и знался черте с кем!..
Но все эти мероприятия: женитьба, повышение в чине, – служили только одному – окунуть усопшего, так сказать, в мирское и тогда, глядишь, его быстро подобьет гнильцой, в его же, кстати, интересах. Разъяренные жарой могильщики грозились сами засунуть ему червей в рот и заткнуть коровяком. Неизвестно, что по этому поводу думал простой народ, дерясь по ночам на могиле за каждый оставленный кусок и монету, но двор, утомленный поминками сильно на это надеялся.
На очередных поминках (Фома был все еще как живой, чуть-чуть землицы за ушами и все – ни черта ему не делалось!) было объявлено и о помолвке, и вся Каросса гуляла нехорошо, со свистом и воем, и с помутнением рассудка вокруг глаз. Одни, допившись, дико праздновали помолвку, другие – скорбно хоронили, так как считалось, что чем сильнее веселье свадьбы и горше поминки, тем быстрее завоняется труп. Вопрос уже был мировоззренческий: кто кого? Мы его или он нас? Мы – на свадьбе или он – на поминках?!
– Проверяем! – орали монахи, отплясывая. – Чтоб, значит, без ошибки!..
А после служили молебен. Не зря говорится: один хлеб попу, одна радость – что свадьба, что похороны!.. Кругом рыдали и смеялись – в обнимку; одним тостом умудрялись отметить оба события: за здравие и за упокой. Хмельной дым в Кароссе стоял коромыслом, мужики и даже бабы валялись в городе и на дорогах, как указатели конца света, а собаки выли словно он уже наступил.
Извращенная идея о свадьбе и поминках графа за одним столом, высказанная королем перед поединком со Скартом, получала самое неожиданное и фантастическое воплощение. Воистину, шептались по углам патриоты Кароссы, Иезибальду стоило бы придерживать свой язык за зубами, дабы не пускать вразнос свой народ. «Что будет?!» – пророчески хватались они за головы.
Мэя же словно отсутствовала посреди этой вакханалии, сохраняя странное для двора спокойствие и отрешенность. Впрочем, это относили на своего рода каменную истерию, вполне понятную, но нежелательную ипостась горя, и монашку поручили Фарону. Что-то вроде сочувствия к ней ощущалось со стороны двора в эти дни. Благодаря высокому покровительству, она была даже избавлена от обязательного здесь поминального перекрестного совокупления, который зацвел на похоронах пышным траурным цветом. Есть что-то порочно-притягательное (считалось при дворе) в сочетании скорби и похоти. Игрища в виду гроба и, вообще, смерти, что может быть более изысканно непристойнее? И двор старался.
Мартин-младший, на правах лучшего друга графа, все же попытался оказать Мэе соболезнование, границы коего он приятно простирал до графского будуара, включительно. Но на пороге спальни бравому утешителю явился во всей красе сам граф Иеломойский. Явление было тихим и сердечным. Граф погладил Мартина и пообещал познакомить его с одной фехтовальной позицией, после которой безбрачие становиться нормой жизни, а целомудрие – естеством.
Бедный церемониймейстер, после этого, полдня бегал за Фароном, крича, что призрак графа пригрозил ему членовредительством, в буквальном смысле этого слова, и нельзя ли принять превентивные меры – оцинковку, например. Фарон, измученный суетой последних дней: и король, и Мэя, и покойник граф, – предложил Мартину опережающую кастрацию. Как предупредительную меру.
– Вы здорово этим разочаруете графа, – сказал он, – может быть, даже шокируете. А это, согласитесь, редко кому удавалось в нашем королевстве.
Но шокировать графа таким образом Мартин не посмел.
Свадьба и как бы одновременно банкет по случаю причисления графа к сонму святых проходили все в том же зале для торжественных церемоний. Во главе стола сидел новопреставленный новобрачный с невестой, по правую руку от него – Танер с Мартином-младшим, который теперь, наряду с обязательным кожаным нагрудником, на случай появления короля, носил хитрую масленку на чреслах, на случай графа. Мартин проклинал жару, зуд и острые края жестянки, и отсутствие короля, в ожидании которого он здесь торчал. Рядом с невестой сидели Блейк и Фарон, далее по списку.
Короля не было, он себя плохо чувствовал, но официально было объявлено, что его величество будет позже, когда освободится от важных государственных дел. В Кароссу на самом деле прибыло посольство Гимайи и высокая встреча должна была произойти в течение дня, по этой же причине отсутствовал и Меркин с кабинетом министров. Благодаря этому веселье было в полном разгаре, правда, несколько истеричное. Витала надежда, что собрались действительно в последний раз, так как даром такое кощунство рыжему не пройдет, и потому совсем уж отъявленно и многозначительно звучали тосты за здоровье новопреставленного, за продолжение его рода и тому подобное.
Про Мэю – то, что она пока жива, как-то даже и не вспомнили, совсем забыли на этой ярмарке хулы, но в общем, если отвлечься от основной странности этой церемонии – что невесту выдавали за покойника, – свадьба удалась: гости были живы и много кушали.
Главное действующее лицо этой пасторали, граф Иеломойский, был увешан гирляндами и убран цветами, как Кришна или кумир какого-нибудь полинезийского божества. На голове его были огромные рога, лицо разрисовано яркими красками, а за свадебную корону на лбу были заткнуты записки на небо с просьбами, жалобами и угрозами – возможная канонизация (на что намекали отцы церкви буде свадьба не поможет) предполагала такого типа посредничество между небом и землей.
Перед графом стоял высокий бокал с вином и сервирован прибор со всеми подобающими моменту непристойными намеками, всё, как у настоящего жениха, хотя для покойника это было слишком, но все так измучились и так отчаялись избавиться от хождений призрака, что уповали уже только на такие богомерзкие сочетания – сгинь, нечистая! Рядом с женихом стоял человек и заливал ему в рот бокал под тосты.
Мэя сидела в скромном свадебном платье, совершенно без украшений. Перед ней стояла большая черно-красная роза, которая время от времени меняла цвет, словно атласно-муаровая. Она обнаружила цветок пару дней назад, прямо в постели и никто не мог вразумительно объяснить ей, как он туда попал. Роза, повинуясь некоему закону, становилась то совсем черной, то пламенно алой. И не вяла. За все время брачной церемонии Мэя не шелохнулась и не проронила ни слова, наблюдая за цветком, как завороженная, лишь несколько раз вставала, чтобы поцеловать Фому, как того требовал обычай.
– Мэя, не надо так убиваться, – шепнул ей Блейк.
– А я и не убиваюсь, – ответила она спокойно, даже заторможено от щедрых успокоительных. – Граф ответил на поцелуй…
На место Блейка сразу уселся Фарон и стал считать пульс. Мэя повторила, что она спокойна и что граф ее поцеловал. Фарон тут же налил какую-то жидкость в бокал и заставил Мэю выпить до капли и без тоста, пообещав, что все будет хорошо.
– Я знаю, – сказала она, и стала ненормально весела…
Покойник пил вино, целовал Мэю, сидел, как живой за столом, но настроение, несмотря на эти фокусы, у всех было боевое. Гости тоже сидели не зря и выпили порядочно. Идея свадьбы выглядела примерно так: «Жениха все равно сгноим!» Это был главный внутренний тост. Где-то, на самом пике торжества и веселья, когда Фома, от влитого в него вина, уже хотел обратно в могилу, появился государственный советник с подарками от короля для новобрачных, то есть для Мэи. Это была несомненная милость со стороны больного монарха.
Музыка почтительно смолкла и в полной тишине в зал вошел Меркин, а за ним еще несколько человек, каждый из которых держал поднос. Под взвизги фанфар Мэе были вручены верительные грамоты на владение Иеломойей и графским титулом, а также несколько миниатюрных ковчежцев с ювелирными безделушками и украшениями, в одном из них было несколько золотых – приданое графа.
– Аттракцион неслыханной щедрости! – пробормотал сквозь зубы Мартин-младший, мучимый масленкой.
Вслед за этим герольд несколькими ударами церемониального жезла попросил тишины еще раз и в зал вошел Доктор.
– Сэр Джулиус, странствующий рыцарь, друг и соратник графа Иеломойского! – прокричал герольд в онемевшее пространство.
Присутствующие с большим интересом рассматривали еще одного странствующего рыцаря. Одет он был так же по походному, как и сэр Томас, когда впервые появился на балу, но больше ничего во вновь прибывшем не напоминало им их веселого покойника. Сэр Джулиус был строг и бледен, как затворник, а походка и манеры его выдавали благородную отрешенность происхождения даже под походными одеждами. Среди общего молчания он подошел к Мэе, в руках у него мелькнула бумага.
– Сэр Томас просил меня в своем последнем письме быть вашим преданным слугой! – сказал он, сдержанно поклонившись.
И тут граф ожил. Но не так, как оживают малокровные девицы и дамы с камелиями, то есть, простокваша с ванилью, а совершенно безобразно ожил, в своем дурацком стиле – бац!.. И граф вдруг с шумом распахнул свой рот. Точнее, рот сам открылся, как это бывает у людей, страдающих недержанием челюсти, как раз в той прекрасной поре, когда недержание становится основным содержанием жизни. Так вот, рот открылся и оттуда водопадом полилось вино.
– Вабль! – сказал граф довольно развязно.
– А-ах! – вздохнули за столами, и кое-кому стало дурно.
Полупарализованные гости ожидали развития событий, не разбегаясь только потому, что соотношение количества живых на одного мертвого было успокоительно подавляющим и еще потому, что от графа все-таки ожидали чего-нибудь этакого – разложения, например, показательного, прямо за свадебным столом. Но оживать через несколько дней после смерти, после мучений закапываний и раскапываний в этом адовом пекле? После свадьбы, наконец?! Этого от него никак не ожидали.
Он что теперь – будет жить?! Или это его очередная шутка, оттуда? «Покойник умер во вторник – стали гроб тесать, а он вскочил и плясать»? Какой же он тогда мученик? Он гад! Люди кушают, невеста, вон, едва жива от страха (Мэю скручивало от смеха, благодаря напитку Фарона). Примерно такое волнообразие чувств отразилось на лицах гостей, совсем их не украшая. Граф устроил-таки показательное «разложение» за столом – заговорил. Казалось, черти завыли черти во всех углах:
– А-а! сэр Хулиус!.. Ну и джули тебе здесь надо, оборотень?!
– Оборотень! – ахнули гости, не зная теперь, в какой угол бежать, кто из рыцарей опаснее.
Впрочем, проблема решилась сама собой. В руках ожившего покойника, черт знает откуда, появился меч и присутствующие, опрокидывая столы и стулья, бросились вон, разнося весть об очередном чуде странного рыцаря – свадьбе с оживлением и мечом. Слава кругам, что канонизации не было, а то бы и церковь осквернил кощунник! Этого горбатого и могила не исправила!
Мэя хохотала до слез; цветок перед ней перестал переливаться и ровно пылал алым пламенем.