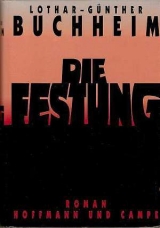
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 91 (всего у книги 111 страниц)
– Мы должны знать, когда и где Вы получали последний раз сигареты, господин лейтенант, – спрашивает меня тот же самый маат, который уже выдавал мне шоколад. – Мы совершенно за-были о полагающихся Вам сигаретах, господин лейтенант.
– При всем своем желании не могу этого вспомнить, – отвечаю ему.
– Но Вы же должны это знать, господин лейтенант. Мы же должны поставить Вас на довольствие во Флотилию...
– Что? Меня в эту Флотилию...?
– Так точно, господин лейтенант, по крайней мере, это назвалось так – На случай, если Вы не уедите отсюда.
Я стою онемев и не могу взять в толк, о чем талдычит этот маат. «Не смешно», – бормочу, наконец, про себя и думаю: Хорошо, что маат проговорился. Судя по всему, здесь кто-то здорово интригует! Но теперь я, по крайней мере, предупрежден.
– Позвольте мне об этом самому побеспокоиться! – говорю громко.
– Так точно, господин лейтенант. Это предполагается только на тот случай, что Вы отсюда не... я имею в виду, что Вы не убываете отсюда немедленно....
– Интересно! – только и могу ответить. Но, все же, успокоившись, осведомляюсь:
– А не знаете ли Вы, паче чаяния, кто это выдумал?
– Это распоряжение поступило из Парижа, господин лейтенант.
Из Парижа! Опять!
Подумать только!
Хоть вступай в переписку с Берлином, чтобы положить конец этому безобразию. Но затем я продумываю все под другим углом: У меня безупречные бумаги. Всякого рода подобная мышиная возня с моей стороны может только навредить мне же.
Ведь кто знает, что еще сможет придумать один из этих тупых долбоебов там, в Берлине.
Короче, прочь отсюда! Надо постараться пустить в ход все средства, чтобы разжиться хоть каким-нибудь драндулетом. Ничто другое не имеет значение.
– Итак, – говорю помолчав, – сигарет не получал уже целую вечность. Сколько же мне положено в день?
– 12 штук, господин лейтенант. Мне вот что пришло на ум: Вы могли бы получить вместо них денежное довольствие.
– Вполне, – приветствую это его озарение.
– Но тогда Вам надо оформить «сигаретный талон», господин лейтенант.
– Не повредит, это точно.
– Конечно нет, господин лейтенант. Мне только потребуется некоторое время оформить все в канцелярии должным образом. Возможно, Вы смогли бы затем прислать ко мне Вашего боцмана...
Сигареты никогда не заинтересовали меня – но теперь говорю себе: Пусть будут! Черт его знает, в какой момент я буду нуждаться в них: С нашими-то планами...
В этот момент ко мне, расхлябанной походкой, подходит Крамер.
– Как дела? – спрашивает он с плохо скрываемой радостью.
Kramer хочет отправиться в La Rochelle. Да, конечно, у него есть машина. Хочу ли я поехать с ним за компанию?
Меня не надо спрашивать дважды. Наконец-то появилась возможность вырваться в La Rochelle.
– Дадите мне полчаса? Надо срочно к врачу!
– Без проблем! – отвечает инженер флотилии. – У Вас 45 минут...
Врач должен прополоскать мне уши, так как я плохо слышу.
– Ну и ну! – говорит врач. – И, правда, у Вас там серы на целый грузовик! Ее надо немедленно удалить.
И когда он рассматривает, что за серные глыбы плавают в его миске, добавляет:
– Достаточно чтобы на хлеб намазать! – и затем еще: – Постоянное изменение давления содействует чрезвычайно большому производству ушной серы. Многие обрадовались бы такому количеству на своем хлебе вместо смальца...
– Немного темноват, этот продукт, – возражаю.
– Как Ваши зубы? – спрашивает врач.
– В порядке.
– Жировики тоже следует удалить.
– Они у меня на голодные времена в запасе, – отвечаю в тон, и на лице врача появляется выражение полного непонимания.
– Для вытапливания! – поясняю ему.
У меня есть еще немного времени. Значит, надо побриться. С этой арестантской бородой не хочу въезжать в La Rochelle. Чистое нижнее белье, чистые уши и сверх этого еще и чисто-выскобленная рожа – чего больше можно желать?
Пистолет не забудь! шучу невесело. Как говорится: «И побрит он и поглажен, к жопе пистолет прилажен».
Снова появляется Бартль. Он что, преследует меня?
– Здесь ничего не получится, – говорю ему. – Мы застрянем здесь на неопределенный срок, если будем полагаться на эту Флотилию.
Бартль делает странные намеки, он хочет «тоже посмотреть разок» у него есть кое-что «in petto»...
– «In petto», повторяю, – это, к сожалению, нам не слишком поможет. Извините, но я должен спешить!
Крамер едет на том же вездеходе-кюбельвагене, на котором адъютант прибыл на пристань.
Сначала едем по легкому подъему, затем въезжаем в платановую аллею. Могучие стволы с листвой напоминающей маскировочную сетку. На дороге миражи луж от жары. Асфальт кажется мягким как пластилин: Шины едва слышно шелестят.
Бартль и «в запасе»: Насколько я знаю старый Бартль, все время думает об «организовывании». В этом он – специалист.
Бартль был бы даже в состоянии украсть у кривоногого колеса с машины – просто ради того, чтобы он не смог больше ездить на рыбалку. Не удивило бы меня и то, если бы Бартль уже по-думал об этом: Запрыгнуть в тележку и рвануть мимо охраны! И это не было бы еще самой плохой его идеей.
Крамер, не поворачивая ко мне головы, говорит:
– Вы не должны так открыто удивляться, как Вы это делаете. Здесь в ходу один лозунг: Ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не вынюхивать – а лучше всего сунуть голову глубоко в песок. У нас здесь можно хоть кнутом всех гонять – но никто и шагу не прибавит... Здесь все идет своим чередом!
– Мой шеф в Бресте считал, что я, по прибытии, сразу же получу транспорт, – отвечаю и не-вольно сержусь на себя за то, что мой голос прозвучал слишком резко, почти с вызовом.
Крамер расплывается в широкой улыбке:
– Ах, когда-нибудь да, но только, к сожалению, не сейчас. Вы же знаете: Все в полном порядке – окончательная победа за нами. Мы позволим Союзникам еще немного потрепыхаться, и если они действительно так хотят, то могут спокойно трепыхаться себе до самой своей смерти.
На улицах почти не видно людей в форме. По правому борту, между стволами платанов, виднеется сиротливо стоящая открытая концертная эстрада с малахитового цвета крышей в форме епископской митры. Мне должна быть знакома эта дорога – а вместе с нею также и этот павильон, но я все вижу будто впервые. А вот появляются и первые аркадные дома с их черны-ми тенями под округлыми арками.
Выглядит так, будто эти тени являются элементами конструкций, подпирающих дома. Вытянутые высоко вверх, едва выделяющиеся на фоне покрытых серой штукатуркой стен ставни, закрыты от солнца. Все unisono серо.
– But on the other hand, – говорит вдруг Крамер по-английски, и делает согласно драматургии паузу и затем повторяет снова: – But on the other hand… они здесь держат свой автопарк желез-ной хваткой. А все почему? Потому что, в глубине души каждый из них знает, что здесь скоро прихлопнут всю эту лавочку, и тогда для любого транспорта дороже золота станет бензин. Все это довольно странно, в целом! Даже и не думайте, что сумеете разжиться здесь хоть литром бензина!
Значит, от Крамера тоже ничего не получить...
Крамер дважды сворачивает и вновь внимательно вглядывается в дорогу. Затем продолжает:
– Единственное, что сегодня действительно важно: Это предельное внимание, чтобы тебя не раздавила вся эта махина... Но для Вас это не имеет значение. Вы, конечно, не имеете намерения пустить корни в нашей прекрасной Флотилии.
В его словах звучит явная жалость к себе.
Внезапно Крамер декламирует:
– Пусть счастье, словно мотылек / С цветка порхает на цветок!
Всматриваюсь в него сбоку: Странный тип. Полная противоположность уповающего на судьбу брюзге-фаталисту. Как-то вдруг он представляет собой вошедшего в поговорку военного моряка, которого ничем нельзя потрясти. Жаль только, что инженер Флотилии не располагает собственным автопарком. Тогда бы мы с ним сладили...
Крамер направляет машину к бистро за аркадами и останавливает кюбельваген вплотную к бордюру тротуара.
– Как насчет пропустить стаканчик? Конечно, если здесь есть еще что выпить. И, кроме того, здесь разговаривать лучше, чем в La Pallice…
– И гораздо холоднее тоже, – отвечаю негромко.
– Останемся-ка лучше снаружи под аркадой – по крайней мере, здесь прохладная тень..., – решает Крамер.
Мне больше было бы по душе, если бы мы приняли на грудь по стаканчику в баре.
Наблюдаю, как Крамер поправляет портупею с кобурой. Судя по всему, хочет передвинуть пистолет вперед. Затем говорит:
– Пойду, закажу. Полбутылки охлажденного белого Bordeaux, не возражаете?
И исчезает в глубине тени. Возвратившись, сообщает:
– Военно-морская транспортная служба находится рядом, в ратуше. Как и полевая комендатура. Со стаканчиком в животе – это ерунда, а вот в голове – это да! Вы тогда гораздо веселее сможете им доложиться...
Едва только принесли вожделенный заказ и поставили на шаткий столик, Крамер улыбается, наливает и поднимает свой стакан:
– Ну, давайте – за третью Флотилию!
Честно говоря, мне не до шуток, и я спрашиваю Крамера, после того как осушили свои стаканы:
– Как, собственно говоря, понять вот что: Шишки с верфи знали, что мы прибываем – а Ваша Флотилия нет. Невероятно, не так ли?
– Не знаю, честное слово! Но так всегда: Ваша лодка задержалась с прибытием – а наш шеф не любит такой расхлябанности!
Неужто Крамер хочет меня еще больше завести?
– То, что касается расписания нашего прибытия, мы, наверное, и вовсе могли бы не придти – поминай, как звали! – говорю с яростью в голосе.
– Это точно! Ну, а тогда шеф просто решил поехать на рыбалку. Он весь склад рыбой забил!
– А фантастическая мысль о том, что мы могли по пути к вам задержаться, не могла осенить Вашего шефа? – спрашиваю язвительно.
– No, Sir, он полностью зациклен на своих нарядах и украшениях. Вы разве еще этому не уди-вились?
– Раньше я бы сказал: Он меня без ножа зарезал...
–... а теперь Вам просто нечего сказать – или нет?
Этот Крамер задает мне загадку. Даже внешне: Он голубоглазый и достаточно рослый па-рень, но при этом, однако, странно неуклюжий – так, словно у него слишком подвижные суставы. Его походка, прежде всего, совершенно невоенная. Так как он, не ходит никто, кого обучали «строевому шагу» и «отданию воинской чести в движении вне строя» на строевом плацу. Крамер принадлежит, очевидно, к тем отступникам среди офицеров-инженеров, которые мстят таким способом всему Морфлоту за обычное к ним пренебрежение со стороны офицеров ВМФ: Он отчетливо дает понять, что он почитает всех этих героев моря гораздо меньше, чем свою касту.
Беру стакан, Крамер делает также, и меняю тему:
– А не знайте ли случаем, что будет с экипажем нашей лодки?
– Знаю ли я, что планирует КПС?
– Иногда у меня такое впечатление, что в Коралле вообще никто больше не планирует и не думает. Ни один мыслящий человек не мог бы сделать такую глупость, как послать подлодку из огня да в полымя...
– Я себе точно так говорил, – бормочет Крамер, словно беседуя сам с собой, и при этом рассматривает покачивающийся носок своего правого сапога. Затем устремляет свой взор так далеко, как только возможно, не двигая телом, и говорит:
– А Вы пользуетесь успехом! Не заметили? И даже у двоих, если не у троих... Там, две красотки за столом рядом с колонной...
При этом Крамер крутит носком сапога и поворачивает его в указанном направлении.
– А вон там позади, на Вас смотрит также и дамочка в розовом... Нет, теперь не смотрят!
В то время как я верчу глазами в стороны, но остаюсь сидеть в той же позе, как сижу, спрашиваю Крамера:
– А откуда Вам известно, что это не Вас они имеют в виду?
– Ах ты, Боже мой! – отвечает тот не раздумывая. – Меня здесь знают как облупленного. Для этих charitable сестричек я не являюсь объектом интереса – или так скажем: давно никого больше не интересую. А вот Вы – это другое дело! Но помните: Местность здесь не такая без-вредная, как она выглядит...
Говоря это он встает и говорит измененным на небрежность тоном:
– А что касается меня – то я теперь должен сделать пару дел. Как я Вам уже сказал: полевая комендатура располагается в старой ратуше, в замке в стиле ренессанса, вон там, за углом. Я за-беру Вас – на этом же месте – в 15 часов. Пойдет?
– Благодарю! Надеюсь, я закончу свои дела быстрее.
– Ну, тогда погуляйте немного вокруг – но с осторожностью! У вас пистолет с собой? Подождите, я дам Вам лучше еще один магазин...
И тут же Крамер выуживает из кармана полный магазин и подает мне.
– Я, собственно, не намерен вести перестрелку, – произношу с вызовом.
– Запас задницу бережет! Надеюсь, Вам и в самом деле не придется действовать здесь таким об-разом, но пахнет уж больно подозрительно... Ладно...
И Крамер салютует мне, приложив ладонь к козырьку фуражки, вместо того, чтобы вскинуть вверх правую руку, и усаживается за руль своего кюбельвагена. Затем произносит:
– Кстати, здесь имеются хорошие морские языки, и если Вам повезет, то даже омары. Этим Вы можете сэкономить себе на густом супе во Флотилии!
И уже отъезжая кричит:
– So long!
Я хочу расплатиться, но узнаю, что Крамер давно уже сделал это. Благодаря его предупреждению дарю дамам несколько беглых, растерянных взглядов и с важным видом выхожу на улицу.
Мне, конечно, надо поторопиться, чтобы господа, которым я хочу представиться и попросить об услуге, не исчезли на обед.
Может быть, стоило бы спросить Крамера о том, где и что он должен делать в La Rochelle?
На площади перед ратушей несколько черных Ситроенов. Их запасные колеса, будто мишени, прикреплены к задним крышкам багажников. Крылья словно настоящие, далеко раскинуты. Машины выглядят так, как будто только сейчас подъехали с улицы, где только-только развили настоящую скорость.
А между ними стоят легковые вездеходы с навесом из брезента, и, как ни странно, даже двухколесные тележки на велосипедных колесах, высокозадравшие в небо свои дышла, а между всеми этими транспортными средствами длинные ряды здоровенных деревянных бочек.
На фронтоне ратуши огромная, свежеокрашенная вывеска: «Полевая комендатура. Отделение города La Rochelle». А над нею стрелковые амбразуры, думаю, фасад эпохи Возрождения, и стройная, заостренная круглая башня с часами и изящным венком.
Украшения из песчаника почти такие же тонкие и изящные, как и кромки плетеного на коклюшках кружева.
Принуждаю себя к тому, чтобы остановиться и все тщательно осмотреть: В La Rochelle ты уже никогда в жизни не вернешься! говорю себе.
Через заостренный в готическом стиле портал во дворе, мой взгляд выхватывает часового с карабином на плече. Прямо над часовым возвышается пропорционально точная полуголая Юстиция вырезанная из камня, обрамленная круглыми колоннами, перед темно-серым обветшалым фронтоном.
Черно-бело-красная косо окрашенная будка часового, стоящая перед каменной пещерой полукруглой арки, является излишне воинственной декорацией: Часовому там, где он находится в данный момент, достаточно и козырька от дождя. Если здесь вообще когда-либо идет дождь!
Часовой пристально и настороженно смотрит на меня. Он, очевидно, не знает, что должен делать, но когда я беру курс на лестницу, он рвет карабин с плеча и салютует приемом «на ка-раул». Вздрагиваю от испуга: такое гримасничанье не для моих нервов.
Обер-лейтенант пехотинец идет по лестнице навстречу мне и говорит:
– Они совсем спятили!
Звучит не слишком ободряюще, думаю про себя.
В коридорах пахнет Eau de Javel и отупляющей скукой.
Перед дверью полевой комендатуры собираюсь как актер перед выходом и даю себе инструкцию: Войти мягко, поступью ягненка, напустить на лицо стесненно-скорбный вид, как у Иисуса!
И настроившись таким образом, сильно стучу, опускаю вниз дверную ручку и выхожу на сцену.
Меня встречает толстый капитан, который удивляется мне словно некоему экзоту. При этом я тоже таращу на него глаза: Толщина его тела необычна.
Господин гауптман ведет себя как стоик из книги Образцов. Однако, при этом он выражает собой абсолютную, полную флегматичность, которая, наверное, и помогла ему в создании такого брюха. Короткая светловолосая щетина над складками лба, напоминающими скорее стиральную доску, кажется, растет на голове свиньи. Светлые ресницы еще более усиливают это сходство.
Как далеко продвинулись Союзники теперь, господин гауптман не может мне сказать. Я не могу получить от него даже вполовину точную информацию, где сейчас стоит противник. А что если – надо было бы мне спросить его – мы уже давно оттеснили союзников обратно в море и до сих пор об этом ничего не знаем? К чему имеются наши, разбросанные по занятой нами Франции, полевые комендатуры? Если уже наша разведка больше не может получать информацию с воздуха, то ведь можно же было бы разузнать по телефону как далеко продвинулись ударные моторизированные соединения Союзников.
Но, по-видимому, здесь не ставят во главу угла какой-либо особый интерес в таких сведениях.
Господин гауптманн также не может содействовать мне в получении машины, но Транспортная служба военно-морского флота находится прямо в этом здании – даже на этом же этаже...
Говорю себе: Скорее прочь отсюда!
И не узнав ничего, я должен теперь, как примерный ученик, поблагодарить господина капитана и послушно вскинуть свой плавник в нацистском приветствии!
Оказавшись опять в коридоре, не знаю, взорваться мне от смеха или от ярости.
Офис Транспортной службы ВМФ выглядит так же как и то городское управление по делам молодежи в Хемнице, в котором, между горшками с резедой, восседал мой опекун по назначению: Здесь тоже повсюду зелень. А между растениями восседает, с двумя маатами и несколькими писарями, гаупт-фельдфебель. Этот человек такой краснолицый, будто воротник кителя слишком тесен ему и вот-вот задушит его – еще один типичный представитель нашей «непроинформированной» расы господ.
Можно ли ожидать от этого человека реальной помощи? В состоянии ли он понять, по край-ней мере, свое собственное положение?
Я излагаю – в какой уже раз? – свою просьбу. При этом гаупт-фельдфебель склоняет голову набок и с интересом рассматривает меня.
Когда я договорил свою пылкую речь, мой визави принимает позу старшего преподавателя и объясняет мне:
– Предположим, господин лейтенант, что мы дали бы Вам машину – но удалось ли бы Вам про-скользнуть, при сложившейся сегодня ситуации, мимо террористов вообще, да еще и в одиночестве – это еще тот вопрос! Сегодняшние условия, скажем так, чрезвычайно обострились, к сожалению, господин лейтенант. И как будет дальше, пока сказать не могу...
– Мне нужно не Ваше карканье, а машина! – зло бросаю ему и думаю: Этого мне еще как раз не хватало, чтобы из меня здесь делали дурака.
Только не этот зануда!
– Так Вы можете помочь мне сейчас или нет? – спрашиваю сквозь зубы и сразу понимаю, что я наверняка могу все сам испортить, разговаривая с ним таким образом.
Но гаупт-фельдфебеля моя ярость ни в коем случае не вывела из состояния полнейшего спокойствия. Он объясняет мне с успокаивающими нотками опытного снисхождения в голосе, что просто так нехорошо сложились сегодня обстоятельства. То, что мне вообще удалось прибыть к ним именно теперь, это, так сказать, совершенное чудо!
И правда-правда, у них нет ни машины, ни бензина для меня, но скоро отправится конвой! Он как раз составляет списки и мог бы включить меня в него.
Теперь я должен собрать в кулак свою волю и как можно вежливее ответить:
– Это, к сожалению, для меня не подходит. У меня срочная курьерская почта!
При этом я ловлю похожий взгляд сбитого с толку человека, как и у писаря в канцелярии Флотилии. А может я заблуждаюсь, и это взгляд вызван всего лишь спертым воздухом этой комнатушки?
Как издалека слышу:
– Спокойнее!
Тут бы мне лучше всего было бы разразиться громогласным: «Оёпересетематьвашузаногу!» Но вместо этого я опять верчу перед его носом моим приказом на марш и ссылаюсь на секретные материалы в моей курьерской сумке, но все мои чары не могут наколдовать машину.
– Как я уже Вам сказал, господин лейтенант, через три дня отсюда отправится конвой. Там мы, конечно же, можем забронировать место и для Вас, господин лейтенант.
Ничего не попишешь! Я мог бы сэкономить на поездке в La Rochelle.
Когда спускаюсь с крыльца на каменные плитки двора, часовой с треском салютует мне своим карабином, чем опять здорово пугает меня.
Бог мой! Что за фигня!
Здесь никто не заботится о моих больных нервах.
А что теперь? До назначенного времени, когда Крамер меня заберет, остается еще много времени. Надо придти в себя от пережитых сегодня отказов в транспорте. Ярость бушует в животе так сильно, что я, если не хочу прямо здесь взорваться, должен просто пойти куда глаза глядят.
Но куда? В Старый порт, конечно!
Переставляя ноги, размышляю: А если все мои усилия действительно потерпят фиаско и мы не получаем здесь транспорт? Ждать здесь прихода Maquis? Или, все же, попробовать вырваться отсюда с конвоем? Но во мне все противится этому: Ради Бога! Нет! Только не это! Я уже сыт подобным приключением по горло. Мне только такого еще и не хватает: Пережить такую же катавасию повторно...
Только не психуй! говорю себе. Не позволяй себе чувствовать, что оказался в мышеловке. Перед поездкой сюда, в La Rochelle, я еще не хотел принимать эту мысль. Но теперь!
– Я просто вне себя! – часто говаривала моя бабушка, когда была сильно возмущенна.
Моя добрая бабушка Хедвиг со своими слоновьими ногами! Довольно часто мне приходи-лось их ей плотно заматывать, чтобы она могла передвигать ноги и она – богатая фрау Буххайм – урожденная Югель – медленно и тихо двигалась по улице. И это без машины или трамвая. Старая бабушка Хедвиг просто не признавала никакого другого способа передвижения.
Значит, конвой отправится через три дня! Не прямо вот сейчас, ни через час – нет, именно через три дня! Братишки должно быть точно спятили. Думаю, все их предприятие уже обречено на неудачу: Ведь, когда все автобусы соберутся в одном месте, все группы Maquis по всей Франции сразу же получат о том известие, и уж тогда террористы смогут в полном покое обдумать, как спланировать нападение и где устроить засаду.
На тесных улицах полыхает зной.
Нет ни дуновения ветерка, который смог бы его уменьшить. Во всех домах закрыты ставни, кроме цветочного магазина. Но, как раз для цветов эта зависшая над городом жара должна быть особенно пагубной...
Подойдя ближе, понимаю, что все цветы – пестрые букеты в витрине – изготовлены из рас-крашенного фарфора, а на заднем плане обнаруживаю настоящий парад венков из жести и фар-фора.
Господи! Это же похоронные венки из искусственных цветов!
Белый цвет и мои черные мысли, как хорошо они гармонируют!
Час Пана! Но мне не смешно: Здесь, под этими сонными аркадами не топает своими неуклюжими, козлиными ногами Бог пастухов Пан.
Здесь все окрашено в ложные цвета. Пепельно-серый цвет домов и серебряный отблеск мостовой тоже не соответствуют окружающей картине. Только тысячи стрелковых прорезей-амбразур в закрытых наглухо ставнях соответствуют ей.
И вдруг замечаю ставни, закрытые лишь наполовину и образующие вертикально вытянутую полоску тени. Но уже в следующий миг изнутри протягивается рука к черной вертикали – и четыре широко расставленных белых пальца хватают ставни за края, и со стуком деревянные, поперечно-прорезанные ставни захлопываются, и этот стук такой громкий, словно строительный кран высоко сверху уронил стопу досок на мостовую. Другие, едва приоткрытые ставни, также захлопываются будто автоматически. И опять с сильным стуком.
– Boy, boy! – говорю себе, чтобы успокоить звенящие от напряжения нервы.
Мои ноги совершенно самостоятельно находят дорогу в Старый порт. И вскоре я успокаиваюсь.
Старый порт мне уже знаком, прежде чем я приходил сюда в первый раз – а именно по маленькой картине Камиля Коро.
Однако надо признать, что такие вот огромные черные винные бочки, сложенные в три плотных ряда на пристани и сразу же привлекающие мой взгляд, у Коро, на его картине, отсутствовали. Меня так и подмывает подбежать к ним и постучать, чтобы услышать, пусты ли они.
Но что с того? Они вполне могут быть пустыми, если судить по тому количеству вина, которое мы выпили, будучи оккупантами этой страны за четыре года.
Когда приближаюсь, над гигантскими бочками поднимается путаница мачт, и передо мной также понижается теперь и сдерживающий взгляд край пристани, и становятся видны рыбачьи лодки, пришвартованные вплотную друг к другу: Они выглядят старыми и требующими ремонта, голубая краска повсюду отвалилась. Их такелаж полностью выцвел. Судя по виду, невольно понимаешь, что эти лодки довольно давно не выходили в море: Хотя, рыбачьи лодки могли бы выполнять дозорные функции.
Солнце слепит меня так сильно, что приходится закрыть глаза. Однако, вскоре я должен снова проморгаться, чтобы наладить резкость в глазах. Едва слышны какие-то далекие, глухие шумы. Приходится встряхнуться и сделать тверже шаг, чтобы не передвигаться, словно в полусне.
Доносится потрескивание, оханье и стенание древесины трущейся о древесину. Но стоит хоть на секунду закрыть глаза, чтобы отчетливее расслышать это трение, и ощущаю легкое качание и шатание.
А вскоре оказываюсь в окружении винных бочек, широких лодок, мачт и двух мощных башен у входа в порт. Через несколько шагов приходится остановиться, и придержать фуражку, чтобы она не свалилась на землю.
И тут меня осеняет: Пара стаканчиков вина! Выпить на жаре вино и затем под этим ярким солнцем топать, едва передвигая ноги... – как это было глупо с моей стороны!
Неудивительно, что я не встретил ни одного человека на своем пути.
Здесь на юге в это время не выходят на улицу: Я же об этом совершено не подумал. Оптический голод был тем кнутом, что погнал меня в дорогу. И вот теперь я должен все выдержать и оставаться на ногах, словно боксер на ринге после удара в челюсть.
В этот момент у меня будто второе дыхание открылось. Я уже чувствую, как из меня пар вы-ходит: Но могу ступать более твердо, и размытие изображения и кручение окружающих меня картин, прекращается.
Лишь вихрь мыслей нельзя остановить. Я должен подумать о слишком многом.
Мой мозг работает как все три арены цирка Барнума и Бейли: Там, на каждой арене, про-исходит что-то свое: Выступают фокусники и клоуны, а на высоте в полуровня работают эквилибристы на першах и жонглеры на свободной проволоке, а над ними, высоко под куполом, в это же время работают еще и акробаты на трапеции.
Сейчас мой мозг является точно таким трехслойным цирком... и при всем при том, я все еще как бы нахожусь на борту: Движение подлодки по-прежнему проявляется в каждой клеточке моего тела. Мои ноги бредут по железным плиткам центрального коридора, а не по брусчатке мостовой. Даже мои легкие стараются сильнее сжаться, когда кто-то окидывает меня взглядом.
Лучше всего, присяду-ка на один из мощных кнехтов, стоящих, будто бравые солдаты: точно в ряд. Правда, в этом случае меня можно легко и просто подстрелить из любой из ста амбразур в закрытых наглухо ставнях, но кто пойдет на такое, в этом тягостном полуденном свете?
Всего лишь часы прошли с нашего прихода на берег, но что это были за часы: Сначала ошибочное напряжение ожидания встречи с берегом, затем разочарование, и куча всяких мелочей. А теперь еще и это RIEN NE VA PLUS!
Внезапно испытываю к себе такую жалость, что едва не падаю.
Симона, Старик...
С Брестом окончательно покончено, и еще многим придется там пасть в траву – нет, скорее, в грязь: Там все перерыто и перепахано. Я же напротив болтаюсь здесь с неповрежденными своими членами, здоровым телом, с головой на плечах – без каких-либо blessuren. Лишь не-много встревожен. Можно было бы даже сказать: немного не в себе, в легком трансе и с глубоким удивлением тому, что все еще жив и дышу и хожу.
Приходится часто и сильно морщиться и моргать из-за яркого, слепящего солнца. Потому нехотя поднимаюсь и влачу свои стопы мимо ряда причальных тумб до вёсельной шлюпки, которая лежит вверх килем в тени гигантских винных бочек. Там присаживаюсь, полусидя, полуприслонясь.
Какие же сильные отличия между Брестом и этим местом! Даже касательно шлюх: В Бресте они размещались в казармах, здесь сидят в тени аркад в своих легких, заношенных платьицах. Отсюда видишь, что Брест словно бы вовсе не относится к Франции, а лежит где-то там, высоко на севере сам по себе. И такого яркого полдня как здесь, я еще никогда не переживал в Бресте.
Но какого черта я, собственно говоря, сижу посреди этого призрачного города? La-Ro-chelle – слово из трех слогов, так же как и как Pom-pe-ji. Здесь Помпеи. Вся жизнь давно удушена. Я – единственный, у кого все еще пульсирует кровь в артериях.
Меня так и подмывает ощупать себя: Старое сомнение в своем существовании!
Встаю и бреду, словно персонифицированное чудо выживания сквозь горловину пышущей жаром печи ада.
Две невысокие почти черные собаки-полукровки, искавшие тень вблизи от меня, медленно, в темпе замедленной съемки, поднимаются с мостовой и понуро бредут, едва болтая бессильно висящими хвостами. На той стороне тела, на которой лежали на мостовой, они серые от пыли. Обе собаки кажутся единственными живыми существами в этой полуденной, мертвой гавани – не считая меня.
Погруженный в свои мысли не заметил, как снова очутился перед бистро. Все проститутки переместились внутрь, и расселись за маленькими столиками. В полумраке вижу стоящие вдоль стен обитые красным и довольно затертые скамейки. Едва лишь заказал у официанта, одетого, несмотря на жару, в черный саржевый пиджак, вино, тут же началось жеманное поднятие и опускание век, выпячивание грудей и встряхивание конечностей: Любовные потуги с демонстрацией желания в прямом смысле этого слова. Но ни у одной не заметил в это мгновение ни истинного любящего взгляда, ни настоящих чувств. Им все же стоило бы заметить, что я сижу здесь натянутый как обнаженный нерв, не имея ни крошки в животе.
Теперь, смотря на плюш этого заведения, вспоминаю, что когда-то уже бывал здесь. Но было это не в полдень, а ночью: Тогда играл небольшой джаз, и все заведение производило впечатление глубокого мира и покоя.
Решаюсь заказать, как советовал Крамер, морской язык и омара. Подзываю стоящего неподалеку официанта и спрашиваю об этом.
– Sole au beurre! Serre gutt! Homard a l’armoricaine не есть готовый.
– Тогда только морской язык!
Двое армейских коллег проходят через открытую дверь. Отмечаю про себя: сапожки из тон-кой кожи, бриджи с кожаной задницей, фуражки с шиком сдвинуты на макушку. Оба без из-лишних церемоний подсаживаются к дамам: немецкие «богатыри», оставляющие без внимания все предупреждения – или просто у них нет своего Крамера.
В моей хемницкой юности я представлял себе, что уступчивые дамы появляются только но-чью: Такой уж у них бизнес.







