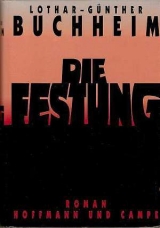
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 104 (всего у книги 111 страниц)
Картина безмолвного соития в поезде от Savenay до Парижа появляется как-то вдруг и не хочет исчезнуть. Тот экспрессивный номер безо всяких предварительных переговоров – это было что-то! Безмолвное соитие, глаза в глаза, ее кончик носа почти уперся в мой – и затем это медленное кружение, до тех пор, пока я не пал без сопротивления. Трепетное подергивание и острый укус в ухо.
И к тому же ее странный убор: Одетая в черное, словно ангел смерти. Наше молчание полностью соответствовало ее черному одеянию, которое она несла на своем теле.
Была ли она немая в самом деле – или же всего лишь притворялась?
Я то просыпаюсь, то засыпаю, проваливаясь в тревожный полусон. Во сне вижу пожар сжигающий Париж. Пожар от Blois проецируется в моей голове, тысяче-кратно увеличиваясь, словно почтовая открытка Парижа. Как пожар Рима! думаю во сне. Но затем над Парижем появляется небо полное фейерверка, лучи которого гибнут, разлетаясь во всех направлениях и вспыхивая огненными солнцами... И это совсем не походит на Рим.
Мне кажется, что какое-то лихорадочное напряжение с такой силой сжимает мне челюсти, что я еле-еле могу дышать. Ночной кошмар?
Замечаю, что весь покрыт потом, и встаю, чтобы сделать глубокий вдох и охладиться.
Значит, курс на Fresnes…
А может я уже наложил в штаны от страха перед этим событием? Почему мой пульс так частит? Почему мне может не удастся попытка вытащить Симону?
Не пройдет слишком много времени, как дела у этих мордоворотов из СД пойдут совсем хреново. Они, конечно, будут здорово нервничать, чуя свой конец.
И за шутов они нас навряд ли примут – даже несмотря на наш вид.
Париж
Когда я утром завтракаю чашкой горячего коричневого бульона с требухой, стоя за нашей колымагой и обдумываю, должен ли я снова заползать в нее или нет, то почти вываливаюсь из деревянных сабо, так как все вокруг меня внезапно вертится в странном хороводе. Бартль бук-вально прыгает мне на помощь и поддерживает меня за правую руку:
– Что с Вами, господин обер-лейтенант?
– То, что и должно уже было случиться – мне дурно!
– Я думаю, нам следует сначала...
– No, Sir! Сначала мы должны направиться в Fresnes, а там посмотрим. Если возможно, то я бы хотел выпить чашечку кофе – вот это было бы дело!
– В нашей квартире есть немного, господин обер-лейтенант, – отвечает Бартль.
– Да бросьте, Вы, Бартль. Нам надо посмотреть, как будем ехать дальше... Я поеду внизу.
– А должен ли я...?
– Нет! Устройтесь снова между почтой. А как насчет шин?
– Ничего, господин обер-лейтенант.
– А с дровами?
– К сожалению, только два мешка, господин обер-лейтенант.
– Ну, все-таки! Мы и так были на высоте. Ладно, в Париже что-нибудь присмотрим...
Мне постепенно становится лучше от нашего разговора.
– Ну, бросайте уже, наконец, Ваши ленивые кости, Бартль.
И теперь пора выбрать направление нашего движения! Размышляю: Боже! Я все еще не знаю, как мы доберемся до Fresnes. Я должен был еще вчера вечером узнать, где лежит Fresnes. Значит, снова к комендатуре. У них, конечно, наверняка есть точный план Парижа. Две уборщицы-француженки убираются в помещениях, и, как и всегда, отвратительно воняет Eau de Javel. И еще никого нет на службе!
Хочу уже заорать от ярости, но тут приходит Бартль с каким-то вахмистром, который видно разбирается в делах. План города, говорит он, у него есть. И теперь я могу определить, на-сколько все хорошо складывается: До Fresnes всего лишь один шажок! Кто бы подумал!
– Ехать туда немного сложно, господин лейтенант. Но главное направление – это ехать просто на восток!
Так или иначе, придется посвятить Бартля в мои планы. Засчитываю ему в заслугу то, что за время всей поездки он ни слова не произнес о Симоне. При этом никакого сомнения, что он хорошо знает и о Симоне и о ее делах во Флотилии.
И тут Бартль спрашивает меня:
– А почему, собственно говоря, нам надо попасть в Fresnes, господин обер-лейтенант?
– Так как там располагается тюрьма, и в этой тюрьме должна сидеть одна юная дама, которую Вы достаточно хорошо знаете...
Услышав это, Бартль смотрит на меня настолько ошеломлено, что почти беззвучно произносит:
– Мадемуазель Сагот?
– Так точно-с... Я должен попытаться связаться с нею.
Бартль смолкает. Он стоит с таким видом, будто внезапно проглотил язык.
Может быть не стоило ему этого говорить? Париж неразрушен. И жизнь течет в нем, судя по всему, как и всегда. Для меня непостижимо, что вопреки близости фронта здесь все идет своим обычным ходом – или, может все-таки, не все? Не изменилось ли здесь, все же, кое-что? А может быть изменения, всего лишь тщательно маскируются?
Промеж лопаток пробегает неприятный холодок, который не могу объяснять, но который отчетливо чувствую. Что-то такое витает в воздухе, это я ощущаю совершенно ясно. Пробую, когда мы медленно проезжаем мимо спешащих прохожих, прочитать что-то подобное в их лицах, но не обнаруживаю ничего необычного. Никаких признаков ненависти, лишь полное безразличие.
А может быть это скрыто в тех слухах, что Париж полностью минируется и может быть взорван в любое время по приказу свыше? Скорее всего, это конечно, только слухи. Нечто подобное нельзя сотворить в тайне. Такая новость стала бы общеизвестной.
Однако затем вижу почти во всех примыканиях второстепенных улиц к главной дороге, массивный, тяжелый материал: Канатные барабаны, дорожные катки, бочки для нефтепродуктов, наполненные, наверное, песком, старые грузовики, черные от угольной грязи – все они ждут только команды, чтобы выдвинуться на главную дорогу. Эти видимые повсюду элементы стройплощадки вовсе не являются случайностью – или я вижу перед собой уже призраки?
Перед глазами возникает картина баррикады кисти Делакруа: Каждый из этих юношей, которые рассматривают меня, засунув руки глубоко в карманы брюк, с подчеркнутой небрежностью, когда нам приходится однажды остановиться, мог бы стать у Делакруа моделью для одного из его участников баррикадных боев.
Что только будет ожидать нас в самом городе? То, что в Париже объявлена всеобщая забастовка, я уже знаю. Если нам чертовски не повезет, можем попасть в самую ее гущу...
Мы едем и едем, и если я правильно понимаю, то уже сбились с курса. Раньше у меня в Париже всегда был водитель. Теперь я тоже имею водителя, но говоря по правде, он здесь никогда еще не был за всю свою жизнь. И не остается ничего другого, как расспрашивать прохожих, как же нам попасть в этот чертов Fresnes. Или лучше, все же, спросить легавого? Коп не решится послать нас в неверном направлении. Легавые должны быть повсюду – даже сейчас... Но нигде не видно ни одного, кого я мог бы расспросить.
Вероятно, легавые уже смылись – куда-нибудь на старую фабрику?
Если бы я был один, то не смог бы удержаться, чтобы не поквитаться с «фликами» за свое ожидание. Однако было бы чистым сумасбродством принуждать легавого приветствовать меня по-военному. Я всегда сразу отворачивался и «флик», очутившийся в поле моего зрения, тоже.
Раздумываю: Бисмарк – просто засранец! И его сраное Отделение! Должен ли я вообще там появляться? В любом случае! отвечаю себе. С этой собакой я должен еще перекинуться парочкой теплых слов. Я должен расплатиться с ним! Но все по порядку: Сначала мы должны заехать в Fresnes.
В следующее мгновение, наконец, вижу на перекрестке легавого и командую остановиться рядом с ним. И тут уж могу во всех подробностях видеть, как он пристально изучает наш но-мерной знак, а затем медленно, будто случайно, так долго поворачивается вокруг собственной оси, пока не оказывается спиной к дороге, чтобы не приветствовать меня... Ну, уж дудки! Это ему не поможет.
Говорю:
– Veuillez avoir l’obligeance …, – легавому в спину, и он так резко поворачивается ко мне, на-пуганный моей вежливостью, словно его тарантул укусил, – de bien vouloir m’indiquer la direction de Fresnes?
Продолжаю тем же сверхвежливым тоном и вновь получаю отличную возможность видеть огромное удивление на лице парижского легавого, к которому обращаются так вежливо. Флик дает справку вкрадчивым голосом и при этом наклоняется до уровня моего лица: Нам следует проехать дальше на восток – через Sceaux, затем сначала в направлении Choisy-le-Roi, а потом все время по banlieue.
– Trente minutes,; peu pr;s, mon lieutenant!
– Et mille fois merci!
Наверняка этот человек расскажет сегодня вечером дома о таком событии, как наш вежливый разговор, и если ему здорово не повезет, то жена посчитает его душевнобольным.
Эти странные взгляды пешеходов! Только ли мне они направлены? При взгляде в зеркало вижу, что некоторые из зевак останавливаются, и глазеют на нас, открыв рот. Но это, пожалуй, следует отнести насчет нашего драндулета, а также на то, что наш «линкор» несет на себе но-мер Вермахта. Газогенераторный грузовик германского Вермахта – когда еще можно было увидеть такое чудо в Парижском пригороде!
Ржавые бензонасосы у бордюра тротуара перед давно заброшенными бензоколонками. Про-сто смех: Для нас тоже больше не было бы бензина, если бы мы находились в пути вместо «ковчега» на автомобиле, требующем бензина.
Когда приходится остановиться перед перекрестком, слышу из открытого окна мелодию по радио, звучащую как Marseillaise. Может у меня уже слуховая галлюцинация? Да, точно, при внимательном слушании это совсем не Марсельеза.
Сделано довольно умело, звучит почти как Marseillaise, однако, не является ею!
И радио у открытого окна?
На такие шутки французы всегда были способны. Симона тоже была довольно умела в этом. «Vive la France», можно было прочитать на одной из ее блузок сотни раз – слова, напечатан-ные красным и синим шрифтом. Выглядело как красивое, изящное смешение красок, и только при ближайшем рассмотрении, в формах и переливах цвета, можно было узнать эти слова.
Так проезжая мимо, пытаюсь расшифровывать письменные фрагменты на полуистрепанных плакатах, висящих на брандмауэрах. Плакаты многократно переклеены и разорваны на большие куски. Непросто расшифровывать такие вот клоки. Но тут мой взгляд привлекают большие красные буквы: «HALTE AU NAZISME!».
Слово «HALTE» – сбивает меня. Странно, что оно звучит на французском языке почти как по-немецки. Позаимствовано из немецкого языка?
Теперь приходится ехать по компасу. Здесь проходит дорога с односторонним движением – sens unique -, в которую нам никак не влезть. Но «кучер» действует так, будто вообще не видел дорожный знак. «Кучер» мог бы в своей отупляющей скуке легко направить «ковчег» прямиком в ад, если бы я только показал ему направление. Он, кажется, не чувствует ни капли напряжения, висящего в воздухе.
FRESNES
Спрашиваю какого-то старика о тюрьме. При этом Бартлю и «кучеру» становится буквально «дурно». И тут, внезапно позади нас, раздается щелчок. По нам сзади стреляют, что ли? Или с крыши? Из мансарды? Каждой клеточкой своего тела чувствую: Здесь настоящая бочка с порохом, готовая взорваться в любую минуту!
Но затем беру себя в руки и успокаиваюсь: Это, конечно, просто неисправное зажигание.
Мы должны найти Симону – любой ценой. И еще шины. Симону и шины! Симону и шины! Симону и шины! бормочу сам себе под нос как заклинание.
Брожу взглядом по пестрым деревянным дорожным указателям на перекрестках: Тактические знаки и цифры, но никакого указания на парк автомобилей.
В утреннем свете швейцарские домики этих пригородов выглядят печально в своем странном стиле вырезанных лобзиком фигурок. Красочные цвета, напоминающие пестроту цветочных клумб, тоже не могут ничего изменить. Серые стены, закрытые зеленые ставни, закрытые железные ворота, высокие столбы ворот из красных кирпичей. Тявкающие собаки, отсутствие людей, отсутствие машин – что за хреновый район!
В конце дороги возвышается огромный серый бастион: Без сомнения это и есть тюрьма!
Этот вид доставляет мне боль: Неужели за стенами вот этого каземата находится Симона?
Мощные стальные ворота.
«Серое, серое, серое: Оставь надежду, всяк сюда входящий!» пронзает меня мысль.
В караульном помещении, отвратительно воняющем лизолом, узнаю от фельдфебеля в форме СС, с бляхой с изображением черепа и костей:
– Все транспорты с заключенными ушли...
– А куда?
– В Равенсбрюк, господин лейтенант.
– В Равенсбрюк?
– Так точно, господин лейтенант, это такой концентрационный лагерь...
Судорожно сглатываю от страха. Концлагерь? Как Симона сможет это пережить?
Я как-то видел заключенных из концлагеря – это были не люди, а настоящие живые мертве-цы, около Ландсберга, которых привезли из какого-то концлагеря и которые выглядели гораздо хуже, чем даже русские военнопленные.
А затем мелькает мысль: Симона в Германии! В Равенсбрюке! – Равенсбрюк... Что там было с Равенсбрюком?
«Зуркампф находится в концлагере Равенсбрюк – Уккермарк – это в направлении Нойштрелица», слышу, словно наяву объяснение Казака.
– Когда же здесь была произведена зачистка? – спрашиваю фельдфебеля как можно более без-различно.
– Три-четыре дня тому назад, господин лейтенант..., однако...
Что за странный тип этот штурм– или штурмбан– или как там еще-чего-то-фюрер? Раньше эти парни выглядели совершенно иначе. А теперь передо мной эта вот потертая рожа: Мужик кажется полностью в дерьме.
В руке сильно бьет пульс, и голова, кажется, тоже уже не в порядке: Меня так мутит от голово-кружения, будто кто-то тянет за ноги. Но чувствую, что если только обопрусь о письменный стол этого испуганного караульного, то, наверное, смогу справиться с этим своим состоянием.
Подожди-ка, этот странный человек хотел же сказать еще кое-что, но замолчал поколебавшись...
– Однако, что? – невольно повышаю на него голос, хотя вовсе не хочу этого.
– Однако, это еще вопрос, господин лейтенант, прибыл ли туда этот транспорт.
– Почему это?
Теперь эсэсовец делает движение, которое должно выражать крайнее смущение.
– Что? – уже кричу на него.
– Союзники атаковали колонну с воздуха. Колонна полностью сгорела...
– Откуда Вы это знаете?!
– Слышал нечто в этом роде, господин лейтенант! Это случилось сразу за Парижем!
Оказавшись снова на свежем воздухе, вынужден сделать несколько глубоких вдохов-выдохов: Мне надо придти в себя от услышанного. Я должен постараться изо всех сил остаться на ногах и сохранить присутствие духа.
То, что сказал этот засранец-эсэсовец, не должно быть правдой: Он просто хотел ввести меня в заблуждение. Только этого не будет...
Что же теперь? Как быть дальше? Старик давно смог бы придумать что-нибудь. Но что? То, что мы продумывали с ним, не предусматривало подобного развития событий. Что же теперь? Те-перь дела и у самого Старика не фонтан. И он, скорее всего, уже не выкрутится – даже орден на шее ему теперь не поможет.
Соня, вот та ведьма, которая выдала Симону! И Бисмарк! Этот гад должен знать все! Он при-ложил все силы, чтобы выбросить меня за борт.
Когда вновь появляюсь перед своей командой, Бартль вопрошающе смотрит на меня. Затем заикаясь, со страхом в голосе произносит:
– Мадемуазель... Я имею в виду, фройляйн Симона...?
– Вывезли в Германию, Бартль. В Равенсбрюк. В концлагерь.
Бартль корчит лицо как от сильной боли.
Мы не можем стоять здесь дольше и группе эсэсовцев, вышедших из одной из стальных дверей, и с пристальным любопытством рассматривающих наш «ковчег», предлагать еще и спектакль.
– Мы здесь лишние, – говорю Бартлю громко и затем тихо добавляю: – Мы здесь в полной заднице – в какой-то мере! А потому – в карету и рвем когти!
Когда Бартль закрывает свою дверцу, то говорит мне в спину:
– Тем не менее, мы должны теперь же поехать в госпиталь, господин обер-лейтенант.
– Смотря по обстоятельствам, Бартль. Держите глаза открытыми, когда будем проезжать мимо столба с указателями. Если встретите указатель госпиталя, так и быть, поедем туда. Но в принципе я бы хотел сначала заехать в Трокадеро.
– Трокадеро? – недоуменно переспрашивает Бартль.
– Да, это довольно аристократичный квартал – и именно там находится мое Отделение. Там имеет свою резиденцию, так сказать, мой шеф. И там я должен выполнить одно дело.
Бартль молчит. Он воспринял мои слова, как если бы я сказал: Там я должен расплатиться кое с кем...
Размышляю: Расплатиться! – как просто это сказать. Хотя в данный момент я легко мог бы застрелить дюжину сволочей. Засунуть гранату в задницу и выдернуть чеку – хладнокровно и не раздумывая. Моя ярость не знает границ.
Симона! Что, ради всего святого, может связывать Симону, в самом деле, с террористами? Ведь не могла же она быть отправлена в концлагерь в Германию только из-за ее делишек на черном рынке?
Вопреки боли внезапно вижу перед собой рожу проклятого имперского монстра, Бисмарка, и слышу, как он хвастает:
–... парни построили мне охотничью вышку из тесаных бревен. Когда я просидел там почти час, то едва мог двигаться от окоченелости из-за неподвижности. Ну, тогда я вызвал к себе этих троих парней... Они и построили мне уже не такую высокую охотничью вышку...
И сдавленный смех преданной ему банды, собравшейся вокруг капитан-лейтенанта, я тоже слышу как наяву. Ясно, как день: Плата за такое лизоблюдство не была плохой. За такую преданность их задницы были в полной безопасности и могли часто посещать соответствующие желанию и настроению бордели, в то время как другие, не такие податливые и пронырливые, должны были рисковать задницей в море. ****атые герои, ошивающиеся вокруг, должно быть свили большое гнездо вокруг этого щеголеватого и гладкого коновода.
Рисую себе картину нашего прибытия в Отделение – испуг часового, когда я появлюсь в своей камуфляжной форме, совершенно грязный, раненная рука на перевязи! И наш газогенераторный грузовик! Да на шикарной улице! И этот чертов лифт!
Расплатиться с окружным имперским негодяем! Ясно как божий день, что эта сволочь хотел бессмысленно принести меня в жертву: «... Погиб смертью храбрых!»
На этот раз мы, пожалуй, можем отказаться от обычных уверток.
Значит, теперь едем туда – решительно и бесповоротно. Vanitas mundi … Теперь эта свинья больше не сможет мне ничего сделать.
Внезапно на меня обрушивается все горе мира. Плевать, все равно прорвемся! Мы оставили позади нас все самое плохое. Чего ради?
Cui bono – осмелюсь спросить?
Вероятно, как раз в этот самый момент со Стариком жестоко расправляются...
Затем снова говорю себе: То, что рассказал тебе тот эсэсовец, не может соответствовать действительности! Не должно соответствовать!
Симона в концлагере в Германии – это уже само по себе довольно плохо. Но сгореть заживо в машине – это могло бы быть лишь плодом безумной фантазии. Думаю, что этот парень, все же, не смог догадаться, почему зашел в его вонючую караулку. Вполне возможно, что он просто хотел поговорить со мной о циркулирующих слухах, о происходящих зверствах. И, кроме того: О Симоне и ее теперешнем пребывании.
Но что может произойти в концлагере? Волосы, которые остригают всем в концлагере – снова вырастут. А что еще?
Горькое чувство потерянности заполняет меня. Куда мне направиться, если теперь действительно все разлетается в щепки?
Для начала, смеюсь над собой, надо в Trocadero!
– Давай-ка помедленней! – говорю «кучеру». – Нужно сориентироваться.
Следует сосредоточиться на дороге, если не хотим бессмысленно плутать по всей округе.
«Кучер» подводит ковчег вплотную к бордюру и тормозит. Нам надо, с тем чтобы я мог пра-вильно сориентироваться, поехать сначала на север...
В то время как «ковчег» то катит дальше, то снова останавливается и «кучер» вновь дает газу и переходит на повышенную передачу, окровавленные картины пронзают мой мозг: Заряженный автомат небрежно лежит, покачиваясь на правом локтевом сгибе – так я должен встретить Бис-марка – подойдя к нему вплотную, пока ствол не уткнется ему поддых. А затем увидеть его испуганный, полный страха взгляд и без лишних слов нажать на курок автомата, так, чтобы его кишки вывалились наружу, и кровь брызнула на шелковые обои кабинета. Как тупо будет смотреть этот надутый гад, пока не поймет, что за груз он носит в своем брюхе.
Адъютант, если только ворвется на звук выстрелов, тут же ляжет с ним рядом – и будет на-стоящая скотобойня, и кровь будет пузыриться по шелковым обоям и коврам...
Вот было бы дело!
Или просто нагнать на него страху? Ни слова не сорвется с моих губ – просто смотреть, как он побледнеет и как задрожат его щеки?
А может, сначала дать короткую автоматную очередь по высоким окнам? Или в потолок, что-бы гипс брызнул в стороны и это ничтожество увидит, что я настроен более чем серьезно?
А может сначала этого ублюдка, Богом обиженного, жалкого подлеца заставить ползком за-браться под письменный стол и лупануть очередью по столу так, чтобы весь бумажный хлам полетел в клочья? После чего поставить эту сволочь на колени, с задранными руками, как зайца, с цветочным горшком в широко раскинутых руках? И как только у него язык вылезет от напряжения, дать очередью: тра-та-та-та!
Перед Boulangerie вижу стоящие овальные корзинки для багета. Они пусты. Рядом с ними сложенные горкой пустые ящики для салата.
А сейчас приходится проезжать узким проходом: Вынутый из земли грунт для какого-то котлована перегораживает почти половину дороги. Полагаю, что газовщики или электрики постарались выкопать этот котлован еще сегодня утром. И то, что рядом с кучей земли лежат горы булыжников из мостовой, тоже вполне нормально. Все это можно обосновать: Если что-то должно ремонтироваться, то оно должно ремонтироваться.
Знаю точно: то, что я все вижу иначе, чем обычный беспечный фланер – это моя собственная вина... Однако вижу и еще кое-что: sens-unique вывески, которые были установлены, очевидно, только что; окрашенные в бело-красное деревянные шлагбаумы, снабженные аккуратными лампами, а также и другие барьеры из ржавых, наполненных песком бочек, в которые просто воткнули знаки запрещающие движение... Лучших заграждений на дороге я еще не видел. Эти бочки выдержат любой обстрел…
Если не ошибаюсь, мы находимся посреди города. Вижу купол Pantheon, и уже вскоре понимаю: Мы подъезжаем прямо к Сене.
Хочу проехать по бульвару Saint-Germain на запад, а затем по Rue de Seine дальше на север и к реке. Двигаясь таким образом, скоро въеду в мой квартал.
Вид на углу кафе «La Palette» доводит меня почти до слез. Внутри висят картины Maclet так, будто нарисованы прямо на стене. За ними видны плитки, полностью разукрашенного кафеля. Сквозь большие парадные ворота с их створками разрисованными узорчатостью древесины и упорными брусами по обеим сторонам, во двор, должно быть раньше въезжали конные экипажи. Сейчас же перед дверью, как в заклеенном гнезде ласточки, сидит одинокий швейцар...
Затем возникает бистро, в котором вся поверхность облицована мрамором, но не настоящим, а таким, что создается движениями малярной кистью.
Дома старые и жалкие, но у некоторых фундаменты окрашены, по крайней мере, на первом этаже, зеленой масляной краской.
А вот теперь Академия Раймонда Дункана – «Античность с душой ищите!»
На фонарном столбе висит, присоединенная к нему толстой цепью, рама велосипеда. Кто-то снял оба колеса и, судя по всему, украл их. Раму унести не удалось. Наверно шины были еще хороши. Не могу не думать о хороших шинах... И невольно вырывается стон: Господи, Боже мой! Если бы только у нас были хорошие шины!
Перед нами раскрывается ущелье домов на Rue de Seine: Прибываем к цели. Но незадолго до конца улицы, у набережной, приходится с осторожностью объезжать старый черный паровой каток. Затем бочки с асфальтом, которые стоят так плотно, что мы едва можем проткнуться сквозь них... Никто не мог бы сказать мне, что все эти препятствия стоят здесь лишь по какой-то нелепой случайности.
До музея «Bai Mayol» теперь уже недалеко. Висит ли там все еще огромный транспарант на входе? Мысленно вижу огромные пламенеющие буквы: «Здесь внутри имеются обнаженные фигуры».
Далее все идет как по писанному: На Сене лежат красно-бурые баркасы. Между ними зеркало Pont des Invalides.
Теперь все идет слишком быстро: Уже вижу далекие серо-стальные, стеклянные купола зданий всемирной выставки, а перед ними огромные, зеленые шары старых каштанов.
На Place de la Concorde стоят танки.
Под каждой из статуй восьми городов Франции стоят бок о бок два танка. И наверху, на тер-расе перед Jeu de Paume также стоят несколько танков. Танки посреди Парижа – что за отврати-тельный вид!
Знакомые мне улицы и бульвары... На какой-то миг, проезжая мимо, возникает угловой дом напоминающий нос корабля и Эйфелева башня, возвышающаяся, словно мачта, над ним.
Как поступить теперь далее: направиться на Елисейские поля? Или к Сене и сразу к Трокаде-ро? Да брось ты, говорю себе: Снова, как в мои самые лучшие дни через Champs-Elysees к Etoile – затем почти полностью объехать Arc de Triomphe и только затем направиться в Отделение.
На одной из маркиз большими красными буквами написано: «Aux Petits Agneaux». Там я часто сидел и рассматривал прогулочные коляски. Страстно хочу снова все это увидеть, пони-мая, что эти виды судьба мне уже никогда больше не предложит.
Ввиду Trocaderos прилагаю все, чтобы сохранить хладнокровие. Замечаю, что правая рука дрожит, едва лишь отрываю ее от автомата...
Как наяву слышу голосок Симоны: «La revanche est un repas qui se mange froid». Alors!
А сейчас поворачиваем в бульвар с дорожкой для верховой езды в самой ее середине...
На последних ста метрах говорю себе: Проклятье, проклятье, проклятье!
Номер дома 26: Здание из песчаника, выглядящее благородно и престижно. Высокая железная решетка. Выложенный плитками въезд как у какого-нибудь театра.
Бартль уже стоит рядом с «ковчегом» на тротуаре. И затем помогает мне, несмотря на мое слабое сопротивление, подняться с сидения. При этом меня пронзает острая стреляющая боль. И надо же было такому со мной случиться!
Бартль недоверчиво смотрит на здание:
– Это замок?
– Городской дворец – один из лучших.
Ну, вот и мы! Давненько здесь не был.
Вижу, что почта все еще функционирует: усатый Facteur равнодушно выходит с полупустой сумкой, с пачкой писем в левой руке, из ворот.
Из прилегающего флигеля выносят и грузят ящики картотеки и грузят в открытые легковушки. Выглядит как обычный переезд конторы. Два обер-лейтенанта в галифе с кожей на заднице, с деланным жеманством командуют полудюжиной солдат.
В слишком короткой юбке из дома так быстро и решительно вышагивает одетая в форму служащая, что ее груди высоко прыгают в узком кителе. А что означает свернутый в рулон ковер у нее под мышкой? Что вообще здесь происходит?
Брожу глазами по фасаду из песчаника – наверх и по рядам оконных рам с низкими железными решетками: Где наш флаг? Его больше нет! Что это может значить?
Большая тяжелая входная дверь из застекленных железных решеток полуоткрыта: Я внезапно будто очнулся.
Что за везение, что у меня цела правая рука. Я могу нести автомат через правое плечо на на-тянутом ремне: Положение для стрельбы с бедра. От страха Бисмарк должен в штаны наложить.
Но где же часовой? В вестибюле тоже никого. Дверь в караулку открыта. Здесь всегда было полно суматохи, теперь же висит тишина.
Прохожу через вторую огромную застекленную дверь на лестничную клетку и кричу наверх:
– Есть здесь кто-нибудь?
При этом кажусь себе полным идиотом – и еще больше, когда вместо ответа сверху долетает только неразборчивое эхо.
Никого? – но этого же не может быть! Ни стука пишущей машинки, ни шума телефонных звонков…
Царит зловещая тишина.
Никаких сомнений: Здание пусто! Все Отделение, порядка тридцати голов, выбыло.
Повсюду вижу теперь знаки того, что состоялось паническое бегство. Эта банда свиней должна была смыться не так давно. Между их исчезновением и моим появлением здесь никто не входил в здание – в этом я совершенно уверен.
Затылок пронзает сильное неприятное чувство. Я кажусь себе вором, тайком крадущемся по чужому дому – особенно теперь, на этих толстых лестничных коврах, что делают мои шаги абсолютно беззвучными.
Громко кричу: «Привет!» и пугаюсь, так как голос усиливается гулким эхом: Следовало ожидать! Множественные гобелены, когда-то висевшие здесь на стенах, поглощавшие шум и гам, исчезли.
Эти чертовы свиньи перевезли свои паршивые задницы в более безопасное место.
Всю войну наслаждались жизнью в Париже, ни разу выстрела не услышали – а только жрали, пили и услаждали свои тела! А теперь – смылись! У здания всегда было достаточно машин для высоких штабных чинов. Эти грязные похотливые козлы систематически паслись здесь. Теперь же, судя по всему, уже в пути в направлении на Родину, затарившись под завязку, в своих фасонистых форменках. Эти подонки своего никогда не упустят. Даже погода будем им помогать, когда они захотят нащупать ширинку, чтобы справить нужду.
Прохожу одно пустое помещение за другим. Не могу поверить: На одном письменном столе грудой лежат служебные печати. Могу выписать себе приказ на марш хоть в Танганьику – или даже Исфахан, где охотно бы стал наместником...
Двери шкафов и выдвижные ящики столов открыты.
В каминах горы белого пепла и рябь обугленных, не полностью сожженных бумаг. Обкусанный хлеб между папками для дел и раздувшаяся стопа писем. Эти свиньи даже почту с собой не взяли.
Разгребаю связку писем обеими руками, быстро, как охотник за сокровищем, и не верю своим глазам: Целых три письма с моей фамилией на конвертах. Одно должно быть черт-те сколько раз туда и обратно пропутешествовало, так много на нем печатей и штемпелей. Оно от Гизелы. Значит, она еще жива. И письма из кассы пошивочной мастерской для офицеров, напоминание: Я имею долг в 50 рейхсмарок – просто смех!
Когда, наконец, стою в кабинете Бисмарка, то чувствую себя так, словно меня ударили мешком по голове. Итак, ничего не выйдет с автоматной очередью в столешницу письменного стола, чтобы вызвать дрожь у господина капитана. И уже совсем ничего с очередью в его толстое брюхо.
Балконная рама окна открыта. В проход бьется занавеска, словно белый флаг сдачи. Отвожу занавеску в сторону и выхожу на балкон: Подо мной большой черный, открытый Мерседес, ставший за нашим «ковчегом». Тяжелая машина сплошь нагружена коврами. И эта гора ковров увенчивается большими, положенными горизонтально торшерами, абажуры которых сильно деформированы.
Из здания по соседству двое в серой полевой форме тащат выглядящий довольно дорого ко-мод. Дальше вверх по улице – это мне хорошо видно с балкона – тоже грузят машины. Там в очередь выстроились три, нет, четыре грузовика. Я совсем не знал, что на этой улице столько много штабов находилось! Они не имели никаких вывесок и никаких флагов на фронтонах зданий. Тайные штабы? Центры тайной полиции, оперативные группы рыцарей плаща и кинжала? Здесь в Париже собралась всевозможная мразь. Теперь выползают, словно крысы, из своих нор...







