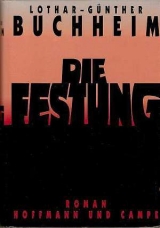
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 111 страниц)
– Пойдете со мной к плавательному бассейну? – интересуется он.
– Да.
Не прошли мы и двадцати метров, как из него вырывается:
– Теперь вновь заработают гильотины. Башку долой! Следующий господин, пожалуйста... Злоба воцарится снова. Но, по крайней мере, можно надеяться, что некоторые хоть теперь заметят, что происходит.
Гильотина? – мелькает мысль. Гильотина для офицеров?
– В Берлине чёрт знает что, конечно, творится, там Вы можете и яд принять.
Гильотина, яд... Мне становится холодно между лопаток.
– Это было ошибкой! – Своей внезапной резкостью зубной врач пугает меня. Мы спускаемся по гравиевой дорожке к бассейну. Я могу быть спокоен: Здесь нас никто не слышит. И, вероятно, никто не увидит: нигде никого.
Голос зубного врача звучит сурово, прерывисто:
– Либо правильно, либо нет! Однако это не должно было произойти. Теперь все станет еще хуже! Теперь они получили еще одну возможность! – Мы скоро увидим это: Теперь они примут более решительные, жестокие меры.
Так как зубной врач больше ничего не говорит, мои мысли возвращаются к Старику. «Дерьмовое дело!» слетает у меня невольно с губ. Зубной врач останавливается, и я тоже. Мы пристально и безмолвно смотрим друг на друга довольно долго, затем зубной врач, наконец, говорит:
– Старик хитер! – Но теперь он должен быть дьявольски внимателен. На каждом шагу. У нас здесь есть несколько людей – двое, по меньшей мере – которым я не доверяю.
– Я знаю еще кого-то, который должен быть максимально внимателен, – говорю вполголоса.
– Вы, не меня ли подразумеваете? – спрашивает зубной врач и при этом в голосе снова слышны его старые циничные нотки.
Вместо того чтобы отвечать, я только поднимаю плечи, как будто у меня спина чешется.
– Была малява?
– Да.
– Благодарю! – цедит зубной врач, пугает меня внезапным разворотом, и прежде чем я могу сказать хоть что-то, он исчезает.
Столовая и клуб быстро пустеют после ужина. Никто не хочет вымолвить неосторожное слово! Все избегают друг друга. Такое впечатление, будто подкралась опасная болезнь, угрожающая заражением. Ночью я долго лежу и не могу уснуть, снова и снова пытаясь извинить Старика: Раньше никогда не слышал из его уст нацистские лозунги, но сегодня он был вынужден говорить именно так. Зубной врач прав. Спрашиваю себя: Должен ли он был действительно говорить все это? Старик снова озадачил меня... Как вообще может человек играть роль командира флотилии с переполняющим его конфликтом внутри самого себя? Внезапно на меня снова обрушивается воспоминание о той нехорошей истории с торговцем сигар, о которой Старик мне как-то давно признался. Но с какой стати? Хотел ли он тогда просто упрекнуть себя, например или он хотел оправдаться перед собой? У него не было причины оправдываться передо мной. Я совсем ничего не знал до того как он начал рассказывать о той истории. То, что мне уже было дозволено узнать так это то, что Старик во время своего отпуска во что-то вляпался. Но это тоже не то. Я ему тогда ясно показал, что хотел узнать как там дома в Бремене. Тогда-то я и узнал все, что ему не понравилось: например, что он вынужден был пройти с любовницей «по всем магазинам». «И чтобы при этом всегда на шее висел орден»! Разодетый в пух и прах Старик должен был трусить рядом с ней, чтобы у мясника ему положили на весы чуть больше и то тут, то там выскакивало какая-нибудь льгота. Еще она таскала его в различные учреждения, чтобы извлечь пользу из демонстрации его ордена Железного креста... Даме приходилось повсюду предъявлять своего моряка-героя, словно охотничью добычу. Но однажды Старик поехал без своей леди, и тут оно и случилось тогда... Все же ясно одно: Старик в своей вспыльчивости уже привнес в их отношения много дерьма. И при этом ему все еще везло. Старик – это тихий омут, а тут вдруг его припадки бешенства! На ум вдруг приходит «Reina Victoria». Лучше не думать о ней! Такого счастья, какое испытал тогда Старик, никто не мог испытать... «Reina Victoria» не затонула, хотя ее гибель вместе с двумя тысячами пассажиров была предопределена. Корабль «Reina Victoria» лежал в дрейфе и был освещен от носа до кормы, борт судна полностью повернут к нам, и все же Старик привел в действие торпеду из первого торпедного аппарата, так как с испанского корабля не было никакой реакции на наши запросы. Старший штурман все еще пытался высказать свои сомнения, когда Старик потребовал его согласия на атаку. Но это лишь еще больше разбудило слепую ярость в Старике. Просто в один миг! Бог его знает, узнают ли когда-нибудь пассажиры «Reina Victoria», что они обязаны жизнью крохотной неисправности – вероятно, в управлении торпедным аппаратом. Возможно, одной испорченной винтовой пружины. Но того торговца сигар пожалуй наверняка поймают. И если это так, то его смерть на совести у Старика. Старик совсем не приносит мне облегчения. Едва лишь я поверил в то, что мы, даже если он непосредственно не соглашается со мной при наших разговорах, в принципе, имеем то же самое мнение, как он внезапно все разрушает своим выплескиванием пропагандистских лозунгов. Для меня невыносимо будет, когда он взгромоздится на коня своего солдатского морального облика и сделает привлекательными такие слова как «военная присяга» и «безусловное повиновение Фюреру» – как будто с усердием желая ввести меня в новое замешательство. Ладно, вся эта чепуха сидит в нем глубоко, наверное, еще с тех времен, когда он подчинялся приказам уже в младенчестве и никогда не ставил их под сомнение – я опять извиняю Старика. Думаю, в его детстве ему не позволялся даже взгляд украдкой за край тарелки. Что он видел кроме кадетского корпуса, казарменных помещений и отсеков учебных кораблей? А еще раньше – и это я не могу уже вовсе забыть – сиротский приют. У Старика едва ли был настоящий домашний очаг. А у меня самого? Ели применить понятие «Домашний очаг» и к себе, мне следует рассмеяться. Наша квартира была скорее чем-то вроде boardinghouse, чем домашним очагом... У нас были странные жильцы. Один сидел в одиночестве долгими вечерами и по трафарету набивал ревущих оленей на почтовых открытках, которые он продавал на следующий день, ходя по соседям. Моя мать обучила его технике, с которой он удвоил свой оборот: Зубной щеткой, кофейным ситечком и вторым трафаретом он опрыскивал теперь горные зубцы за ревущими оленями.
– У меня стала скорость как на формовочной машине! – говорил он, прилежно трудясь над розбрызгом, и если матери не было поблизости добавлял: – Словно кролики сношаются!
Но мне повезло с моими преподавателями, они не были фельдфебелями... Моя юность прошла совершенно иначе, чем юность Старика! В ней не было ограничений словно под большим стеклянным колпаком для сыра: Мы жили на Хемницком Кассберге и даже считались буржуа, но мои самые сильные ранние впечатления – это уличные драки в городе: стеклярусы коммунистов, напоминавшие скорее старомодные автомобильные клаксоны, против мощных серебряных бубенцов-бунчуков! Когда легавые разгоняли группы Ротфронта своими резиновыми дубинками, на мостовой иногда оставались даже лужи крови. А все эти потасовки! Спортивные куртки, безобразные серые фуражки с подбородными ремешками! Бог мой, как я еще был очарован – более того: Я прямо-таки сходил с ума, когда начинали пронзительно стрекотать полицейские свистки, переходя в звуки фанфар, и начинались драки или легавые атаковали большой зал «Мраморного дворца». Памятные сцены! К ним относится также и та, произошедшая утром после «Хрустальной ночи», почти точно перед дверями Академии на Террасе Брюля в Дрездене: Как там жестокие штурмовики СА, чрезмерно возбужденная орда самых отпетых боевиков, дикой руганью и угрозами заставляли десяток евреев в длинных кафтанах с черными вьющимися волосами, ходить строевым шагом! Какое испытал я тогда отвращение и неподдельный ужас: Нацистская химера впервые открыто показала мне свои гримасы! С этого мгновения я узнал, как она выглядела на самом деле. С этой минуты уже никакая маскировка больше не могла скрыть от меня ее истинный характер. Жить свободно и правдиво, тогда это стоило мне огромных усилий. Почти все вокруг меня связывали свои надежды с Фюрером или были полностью преданы ему, захвачены огромными демонстрациями коричневорубашечников и их взводами барабанщиков и трубачей. И добавьте сюда море факелов, лес знамен и штандартов! Олимпийские игры в 1936 году, «Аншлюс» – «Дом в империи» для австрийцев. «Ты – ничто, твой народ – всё!» – «Lever dod as Slav…» – «...сегодня нам принадлежит Германия, а завтра весь мир!» Эти слова буквально забивали уши. А еще звуки флейт и барабанов ландскнехтов – даже меня это захватывало. Но с этой иллюзией давно покончено. Теперь выкинуты все флаги. Теперь все легавые спущены с поводка. Теперь зазвучат совершенно другие тона. На совести коричневых орд также и наши бесчестные поступки. Старик – это, в принципе, такой же бедолага. Они поставили его в положение, которого он никогда не хотел иметь. Уверен, что это так. Если бы спросили мнение самого Старика, то он скорее служил бы дальше простым командиром. Служил бы дальше и однажды утонул бы... Просачиваются слухи: В день покушения в соединениях минных тральщиков началось открытое сопротивление. Портреты Гитлера были сорваны со стен квартир и растоптаны. По слухам начались аресты. Арест в таком случае равен расстрелу по закону военного времени. В кабинете Старика скопление людей. Я вижу инженера-механика флотилии среди офицеров с верфи – с добрых полдюжины. Старик ходит тяжело, по-медвежьи, туда-сюда за своим письменным столом и при этом говорит словно профессор:
– Сейчас необходимо предпринять сверхусилия, чтобы выпустить еще несколько из оставшихся лодок. Господа, это значит: работать над ремонтом, как бешенным – а именно бросить на ремонт все силы – привести лодки в полную боевую готовность!
Несколько секунд Старик что-то вспоминает, затем поднимает подбородок, прижатый к шее, рывком вздергивает голову и более приглушено спрашивает:
– Вам всем всё ясно?
– Так точно, господин капитан – так точно – так точно, господин капитан! – звучит многоголосо.
Что только вообразили себе Берлинские заговорщики? Считали ли они реальным суметь привлечь простых граждан к восстанию? Каждый матрос лучше разобрался бы, как все это воспринимается в народе: В общем и целом, миф Фюрера не слишком много потерял от своего побудительного воздействия на сознание людей. Если бы кто-то сказал людям, что им надо присоединиться к некому крысолову, они тотчас арестовали бы его, а потом с фанатичным ликованием встречали бы того самого крысолова. По Rue de Siam движется, словно на демонстрации, длинная колонна французов. Не понимаю, как же много людей осталось в городе. Почти все несут мешки или корзинки. Многие толкают перед собой свои нехитрые пожитки на тележках или детских колясках. Не имею ни малейшего представления, куда они все двигаются. Перед моим внутренним взором эти беженцы превращаются в солдат, медленно топающих в плен: В глубокий тыл, мимо гаража Citroenа, ведет только эта одна большая улица. Радио сообщает, что в тюрьме Плётцензее были повешены восемь заговорщиков. Все генералы: Витцлебен, Хёпнер, Штиф, Хаген, Хазе, Бернардис, Клаузинг, Йорк. – Йорк? Во время прошлой мировой войны один крейсер назывался Йорком! Я напряженно думаю об этом. Я не понимаю, почему генералы предоставили садистским свиньям сыграть весь этот ужасный спектакль, вместо того, чтобы совершить самоубийство. Повешены! Как воры скота на Диком западе. За поимку ударившегося в бега бывшего обер-бургомистра Лейпцига, Карла Гэрделера, назначена награда в один миллион рейхсмарок. Мои глаза блуждают вокруг, а уши внимательно прислушиваются. Слышу несколько глухих ворчаний, но не против палачей, а против этих генералов. Нет никого, кого не охватил бы холодный ужас. Напротив: Распространяется своего рода досада. Теперь особенно! Теперь также и против внутреннего врага! В клубе отчетливо слышится облегчение в том, что ни один моряк не был с заговорщиками.
– Только два служащих, чертовы сребреники!
– …декадентский генеральный штаб – но Военно-морской флот чист!
Как под гипнозом держу курс на свой павильон: Схватить свой мольберт и где-нибудь в старой гавани засесть! Сейчас это могло бы стать для меня глотком свободы. Там мне никто не помешает. Там я не должен буду видеть холодные, закрытые физиономии! Пешком до Бункера довольно долгий путь. На разводном мосту делаю остановку и смотрю вниз, локти на перилах, в глубокое ущелье бассейна Арсенала. Прямо подо мной все еще лежат, словно вросшие в грунт, два морских буксира «Кастор» и «Поллукс». Дальше сзади в бассейне Арсенала лежит на том же месте старый французский фрегат. На нем я нашел, когда впервые прибыл в 1940 году в Брест, брошенными под мусором письма французских кадетов и взял с собой. Теперь они лежат в аккуратном порядке в одном из моих чемоданов на Нордендштрассе. Снова пытаюсь размышлять как один из маки;: Если бы взорвать разводной мост, на котором я стою, то у нас больше не было бы сообщения с Бункером, в любом случае, никакого сообщения вообще. Чудо, что он все еще цел. Вся соль в том, что его должно было бы защищать отдельное подразделение с примкнутыми к карабинам штыками. А этого нет и в помине. Двигаясь дальше, инстинктивно прибавляю шаг, будто это поможет мне спастись в случае подрыва моста. И буквально бегу по узким улицам стараясь отбежать как можно дальше! Я вновь хочу укрыться в глубине Арсенала. Там я ориентируюсь. Хочу увидеть, как сейчас выглядит старый французский фрегат. Через полчаса по прогнившему насквозь забортному фалрепу влезаю на палубу этой плавучей казармы. Затем ныряю по сходному люку вниз и оказываюсь в полумраке. Когда глаза привыкают к полутьме, вижу, как все страшно загрязнено. Полусгнившая вывеска валяется в куче мусора: «Honneur et patrie, valeur et discipline.» Властный лозунг в грязи: слишком много символики для меня. Отправлюсь-ка я лучше в рыбный порт, чтобы насладиться там формами тяжелых деревянных рыбачьих лодок. Они выглядят совершенными, словно выросшие сами по себе, а не построенные людьми. На своих обоих носовых бортах они несут напоминающие пестрые цветные пятна трехцветные флаги и белые написанные трафаретом многозначные номера. В блокнот для рисования записываю названия суденышек: «Frere de Misere», «La Vie est Dure», «L’Angelus de Mer». Распределенные по корпусам цветные пятна мешают мне. Они напоминают, словно нарочно нанесенные заплаты. Рыбаки больше не интересуются тем, подходят ли краски, которые они где-то смогли раздобыть, к цвету корпуса их суденышек. Доски палубы одного суденышка уже порядочно тронуты временем, но все еще безупречны. Судно называется «Doux Soleil». Другое, «Etoile de Mer», лежит перед черным бортом большого парохода. Это выглядит так, словно этот борт только и нужен для того, чтобы показать преимущество розовой окраски его подводной части над окружающими суденышками. Рыбаки сортируют улов: моллюски, несколько морских языков. Они выбрасывают кое-что за борт, оставшееся идет в большой котел. Мне известно, что они прямо здесь на пристани варят себе суп. Коричневые сети закреплены высоко на коротких рангоутах. Все канаты выбелены в светло-серое. Ванты выглядят так, словно они больше не будут использоваться: Война – а значит, никакой замены не предвидится. Внезапно нос буквально захлестывает запах смолы. На пристани кто-то конопатят лодки. Вот вижу рыбака стоящего в шлюпке у кормового весла и медленно тянущего большую рыбачью лодку. Территория за управлением порта расположена амфитеатром. Здания дальше вверх отчетливо отличаются от тех, что у воды: меньшее количество разрушений, нет разбитой, опадающей штукатурки, разбитых persiennes, плоские крыши не покрыты цинком, а высятся как нетронутые войной строения из обычного камня с рядом мансард – словно перенесенные сюда из Парижа. Вечерняя заря для населения была перенесена на более ранний срок. Никому не дозволяется находиться на улицах с девяти часов вечера. Двойные патрули оснащены в последнее время автоматами и ручными гранатами. Однако в городе то и дело вспыхивает беспорядочная стрельба, иной раз почти рядом с флотилией, но в большинстве случаев довольно далеко от нее. Экипажам разрешено «сходить на берег» только по двое. Когда же темнеет, рекомендовано держать оружие в руке. Даже протянуть руку к кобуре за пистолетом может занять слишком много времени. Со снятым с предохранителя пистолетом в руке я чувствую себя страшно воинственным. Я чувствую себя вооруженным чуть ли не до зубов. Меня всегда бесило требование быть обязанным ходить с пистолетом в застегнутой кобуре. Прежде всего, в Париже. Коренастый боцман, которого я никогда ранее не видел, стоит с покрасневшим лицом по стойке «вольно» перед письменным столом Старика. А тот, стиснув оба кулака вокруг передних набалдашников подлокотников своего кресла, наклонился вперед верхней частью туловища. Он сидит, словно готовый прыгнуть вперед тигр. Его голос прерывается:
– Так это боцмаат сказал: «Фюрер – свинья!»?
Боцман сглатывает и продолжает стоять, не меняя позу. Он хочет принять строевую выправку, однако, не может. Ответа от него нет.
– Ну, так как? – настаивает Старик.
– Никак нет, господин капитан! – наконец, выдыхает боцман.
Старик немного отводит назад верхнюю часть туловища. Теперь он сидит прямо и несколько минут, не мигая, пристально смотрит на боцмана, не говоря ни слова. Боцману может быть лет тридцать. Так вот это и есть та проклятая собака доносчик, этот отвратительный отъявленный нацист! думаю я и чувствую разочарование, что не нахожу и легкого намека на злость или хитрость на его лице. Я не доверял бы этому заурядному лицу, потому что знаю от старпома: Парень сделал письменное сообщение, в котором сообщил, что боцмаат Герке в столовой после покушения на Фюрера сказал: «Если бы все же эта свинья сдохла!» Боцмаат Герке, человек, особенно сильно побитый судьбой: оба его брата погибли, квартира родителей и его собственная разбомблены, жена пропала без вести. Ледяным голосом Старик спрашивает:
– Как Вы тогда пришли к такому выводу, что боцмаат Герке под словом «свинья» подразумевал Фюрера?
Боцман пристально и безмолвно смотрит на Старика, и кадык его судорожно поднимается и опускается. Старик напряженно глядит, как этот человек старается найти ответ. Так как он его не находит, Старик таким же ледяным тоном продолжает:
– Может быть, боцмаат имел в виду господина Рейхсмаршалла – из своего законного разочарования. Так тут он далеко не первый! Или, вообще, он не думал ничего политического, а размышлял о сельском хозяйстве Бартля. О его свиньях – которых здесь у нас масса – как Вам самому должно быть известно! Скорее всего, он просто не совсем внятно выразился, а вообще хотел сказать «зарезать!»
Голос Старика постепенно повышается. В конце концов, он уже орет и при этом сам становится красного цвета, с трудом удерживаясь в кресле. Проходит мучительно долгая минута: Старику нужно время, чтобы утвердить свою версию.
– Так, а теперь катитесь отсюда и еще раз обдумайте все это! – произносит он наконец в полтона. – И еще – заберите с собой эту свою бумажонку, будьте любезны!
Я не решаюсь бросить взгляд ни на боцмана, ни на Старика. Слышу шумное:
– Так точно, господин капитан! – обязательный пристук пяток, стук двери и, наконец, глубокий вздох Старика.
Когда я, наконец, поднимаю взор, Старик сидит, далеко откинувшись назад, напоминая изможденного боксера. Проходит несколько минут, прежде чем он открывает рот:
– Это уже третий раз, когда этот парень пишет подобный донос. Если он теперь и на меня донесет, что я его грязные доносы не передаю, будет дело! А если бы я передал их – что тогда?
Тогда боцмаат Герке скоро стал бы покойником, отвечаю про себя.
– Сейчас все более часто случается, что кто-то на кого-то из своих доносит, – говорит Старик и при этом упирается взглядом в точку находящейся перед ним двери. Он смотрит так, как будто этот квадратный сантиметр деревянной текстуры должен врезаться в его память на всю жизнь.
– Имелась уже подобная история, там почти всех засношали по полной программе...
Старик замолкает и проходит довольно много времени, прежде чем он, откашлявшись, продолжает:
– Тут они хотели главного механика захомутать. Он как раз получил извещение, что его одноквартирный домишко – который он сам построил своими руками в поселке под Кельном – получил прямое попадание бомбы и вся его семья – жена и двое маленьких детей погибли. Он почти полностью спятил. И когда увидел в офицерской столовой, как один из штаба флотилии читает «Фёлькишер Бео;бахтер», тут его нервы сдали, и он заорал: «Проклятая лживая газетенка…» – и тому подобное. А этот из штаба флотилии встал и тут же доложил штюцпунктфельдфебелю базы. А тот сообщил непосредственно военному судье при Командующем подводных лодок Запад.
– То есть по служебной лестнице?
– Так точно. И все это лишь усугубило дело.
– И к чему же все пришло?
– Это была дьявольски трудная история. Чертовски сложно было все разрулить. Дело в том, что если вступаешься за такого человека, то ты сам подвергаешься резким нападкам, когда анализируют чуть не с микроскопом все твои поступки и всю служебную деятельность. Приходится буквально процеживать каждое свое слово.
Речь Старика стала значительно медленнее. Поэтому я лишь тихо спрашиваю:
– А что стало с тем человеком?
– Нам его вернули – и он снова прибыл на свою лодку.
Старик повышает голос и этим вызывает мой следующий вопрос:
– И как дальше?
– Он снова прибыл на свою лодку и пропал вместе с ней. Воздушный налет. Через три дня после выхода в море. Так вот.
Снова молчание. Только через некоторое время Старик говорит:
– Ты должен был собственно знать, что эта моя должность не медом помазана.
Старик говорит с таким натиском, что мне становится не по себе.
– А вот что ты будешь делать в таких обстоятельствах?
Этим вопросом, к которому я не вовсе подготовлен, Старик вводит меня в замешательство: Я даже дышать перестаю.
– Я всего лишь могу попробовать, – он продолжает недовольно глухим голосом, – предотвратить наихудшее – время от времени, во всяком случае.
Я сижу безмолвно и не могу рукой пошевелить. Что это вдруг за исповедание?
– К нашему счастью, ни один моряк не участвовал во всем этом, – бормочет Старик как бы самому себе, и мне нужно время, пока не понимаю, что он снова говорит о покушении.
– Тебя это удивляет что ли? – спрашиваю, наконец.
– Удивляет? – Я бы лучше сказал: Я принимаю это к сведению с удовлетворением.
Узнаю Старика! Он снова все тонко сокрыл: Никто не сможет подумать, что он гнусный мятежник – только пока он сам не выставит себя в таком свете перед своими людьми – и это, если так уж случится, тоже вопреки всем нацистским сводам правил и норм поведения.
– Иногда ты, очевидно, забываешь, что я принимал Присягу. Я привязан к ней, понимаешь ты это или нет..., – произносит теперь Старик вполголоса и при этом смотрит неподвижно вниз.
– Ты ведешь себя так, как будто эта так называемая клятва была принята тобой добровольно, по собственному решению, – отвечаю резко. – Если мне не изменяет память, это были массовые мероприятия. Всех приводили гуртом, как стадо баранов, и все должны были вскинуть свои ласты – по общей команде. Хотел бы я увидеть того, кто там отказался бы... Это же все была одна команда типа «Шагом – марш!» и никакого принесения Присяги!
– Я вижу это несколько иначе, – возражает Старик. – У меня это было по-другому.
– Как же?
– Нас было сорок пять кандидатов в офицеры – в 1931 году. Там у нас были занятия о ценности и значении Присяги – от чего в твоем случае, пожалуй, воздержались, к сожалению...
– Точно. Там все неслось галопом по Европам – сверх быстро. Наконец, я должен был еще окунуться в полное наслаждение от воинских впечатлений. Господа командиры боялись, что наши неприятности могли бы слишком быстро для нас закончиться. Но скажи-ка: Сколько из твоих сорока четырех сослуживцев все же не присягали?
– Присягали все. В конце концов, мы все делали это добровольно. Вместе с тем с принесением Присяги – на нас уже распространялось военно-уголовное законодательство. Поэтому это не было всего лишь пустой болтовней, как ты полагаешь. Все это имело свои последствия...
– Но это значит, что ты не был приведен к Присяге твоему Фюреру?
– Ты что?! В 1934 году я должен был дать новую клятву.
– Вот ты сейчас сказал «должен был дать»...
– Так точно. После смерти Гинденбурга... – Старик задумывается на миг и затем начинает, яростно чеканя каждое слово, по-новому:
– После смерти президента Германии, как ты, конечно, знаешь, никто не был выбран. И то, что тогда Гитлер принял функции президента Германии и стал Главнокомандующим, ты тоже знаешь... И тогда там и доходило до...
–... до массовых мероприятий по принятию Присяги, – подсказываю я, поскольку, как мне кажется, Старик забыл слово. Старик, однако, не обращает внимания на мой циничный тон – просто продолжает говорить дальше:
– Этой Присягой наши солдатские обязательства были привязаны лично к Адольфу Гитлеру. Кстати, Акт принесения Присяги вносился в личное дело каждого. У тебя в личном деле тоже должен находиться...
– Насколько я знаю, нет, но вполне возможно. А как ты думаешь, сколько человек не участвовало в этой процедуре?
– По моим сведениям не имеется ни одного случая отказа в Присяге Фюреру. Это могло бы иметь неприятные последствия.
– Кто бы сомневался.
– И потому ты действуешь таким образом, словно вокруг тебя нет принуждения – а, скажем так, просто по необходимости – и объясняешь эту необходимость своей обязанностью?
Вместо того чтобы возмутиться, как я ожидал, Старик молчит. Наконец, он поднимает взгляд и сосредоточенно рассматривает потолок. Так, с задранной головой, он снова начинает говорить:
– Все же, политика – это не наша тема – она никогда не была для нас темой номер один...
Тон звучит явно примирительно. Но напряжение не отпускает меня, потому что я в ожидании, что он еще хочет вывалить.
– Вот, например, тогда, когда Америка вступила в войну – я это отчетливо помню, это было событие большой политической важности – но что мы тогда говорили? – Старик тянет риторическую паузу таким образом, как будто он вынужден напрягать память. – Еще более хотят заважничать? Вот как мы тогда говорили!
Я могу только удивляться Старику. Эти его финты выдают его прямо прямо-таки отчаянное положение. Теперь я должен спросить, какая здесь взаимосвязь и как все вышесказанное должно взаимодействовать одно с другим и что «... вступила в войну» все же, пожалуй, сильный исторический подлог. Но вместо этого я лишь неподвижно сижу и жду продолжения лекции.
– Что же иное остается нам как солдатам что могло бы объединить нас в одно общее?
– Давай на этом закончим! – говорю смело.
Старик тоже не проявляет намерения продолжать разговор на эту тему и смолкает. Вокруг как эпидемия расползается угрожающая формулировка “Действия, направленные на подрыв оборонной мощи, на разложение Вооружённых сил”. “Разложение” – звучит противно, напоминая трупное разложение. Кто только придумал это ужасное слово? Лозунгом сегодняшнего дня становится пантомима. Молчание – золото! Не давать им никакой возможности. К сожалению, вокруг нет никого, кто не смог бы внезапно оказаться одним из тех осознающих свой долг офицеров, которые являясь твоими лучшими приятелями, одновременно являются верными псами Фюрера. Разложение Вооружённых сил: Сегодня разлагается нечто совсем иное, чем Вооружённые силы! Вечером клуб словно вымер. На отрывном календаре в кабинете Старика – 23 июля. Трудно представить, что с покушения прошло такое короткое время. Мне кажется, как будто это случилось уже вечность назад. Старик вызывает меня к себе в кабинет в самом разгаре моей работы над дневником. Сгорая от любопытства, почему он вызвал меня так официально, испытываю во всем теле страшное напряжение.
– Я должен тебе сказать кое-что, – начинает он медленно, когда сажусь и терпеливо жду, пока он поднимет голову от своего стола. Внезапно он меняет интонацию и жестко говорит:
– Я был в СД.
Тут мои мысли скачут галопом: СД! Хождение в Каноссу! И это несмотря на запрет! А если это получит огласку! «Несмотря на запрет, не умер!» – старое изречение коммунистов!... Старик идет напролом. Я жду затаив дыхание, что же он еще скажет. Однако, вместо того, чтобы открыть рот, он закусывает нижнюю губу.
– Эти ублюдки! – выдавливает он наконец из себя. В этот миг чувствую, как у меня буквально съеживается кожа головы. Хоть бы Старик, прекратил эту пытку! Но он хватается за свою трубку и дважды глубоко пыхает ею.
Что за проклятая процедура раскуривания трубок! Так долго я не могу ждать! Но Старик зажимает трубку в правом кулаке, приподняв ее на полвысоты, будто во внезапном ступоре. Гадаю, что Старика гложет внутри, но не решаюсь спросить его об этом прямо. Вместо этого интересуюсь:
– Это, наверное, по служебным делам?
– Еще бы! – он вздрагивает как от судороги. Затем, наконец, он смотрит на меня в упор. – Эта банда хозяйничает повсюду – словно паразиты. Они и господин военный судьи!
Старик распаляется все больше. Теперь он говорит быстро, вопреки своей привычки:
– В La Baule имелся, например, филиал военного суда. Ты, скорее всего, совсем этого не знал. Они даже выносили смертные приговоры – в элегантном морском курорте, под прекрасным солнечным светом. После этого на спортплощадке в Saint-Nazaire их приводили в исполнение...
Старик старается сконцентрироваться, произнося свои слова, на воображаемой точке на стене, и сдерживая голос, добавляет:
– Я, естественно, захотел выяснить, действительно ли Симона находится в Fresnes и как обстоят дела...
Так как он ничего больше не говорит, нетерпение снова одолевает меня, и я спрашиваю:
– Ну и?
– Я потерпел полное фиаско. И тоже самое у меня было и у высшего босса этой банды. Вероятно, он уже отправил рапорт.
– Ах ты, Боже мой!
– Глупо только то, что теперь у меня будут совершенно связаны руки – полностью!
Старик откладывает трубку и бесцельно водит туда-сюда ручкой и карандашом по письменному столу. Я еще никогда не видел, чтобы он так не мог удержать руки. Также никогда еще не было таких глубоких вертикальных складок у него на переносице.
– Теперь ты должен рассчитывать только на себя, – произносит он медленно. – А уж мне, что выпадет...
– В смысле считать часы до ареста будешь? – вырывается у меня к моему собственному испугу.







