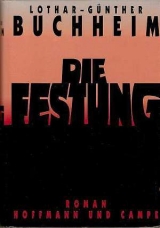
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 111 страниц)
Идет-бредет толстушка, замужняя жена-а-а
Неряшливо одета, сквозь лес бредет одна.
Сперва она осмотрится
Стыдясь – по сторонам
И за горой укроется...
Морякам, кажется, море по колено. Надо-ж так упились в светлый день! Везет людям! А может быть, они просто относятся к той категории людей, что утратили всякие иллюзии и потому правы, надравшись до чертиков? Почему они вообще должны о чем-то беспокоиться? Рано или поздно, но для всех нас дело, так или иначе, примет скверный оборот. погибнут благородно – это тоже своего рода бесславная гибель. Хотя различия кое-какие наверное есть. Прохожу по улице разнесенной в прах невиданной бомбардировкой: железные балки скручены и скомканы взрывами словно жестянки. Мужчины с велосипедами на плечах стараются пробраться сквозь застывшие каменные реки – обломки бывших зданий, что сплошь усеяли улицу не оставив места даже для тропинки – просто ногу некуда поставить. На остатках кирпичных стен – все, что осталось от магазинов – лежат причудливо изогнутые металлические жалюзи, рольставни и шарнирные двери. Большая, покрытая эмалью вывеска с надписью «МАГГИ» свисает с фасада высотой в метр. Бетонные потолки висят на черных от дыма и копоти стенах, словно обтрепанные серые полотенца. Над пустыми глазницами окон следы чада и огня: чад зачернил все, а огонь окрасил все в светло-серые и розово-серые цвета. На остатках дверей читаю написанные мелом слова: «Где вы?» – «Мы живы!». Два старика завернув в простыни, очевидно, все свое имущество, двигаются словно тени: женщина несет свой узел в руке, а мужчина – на плечах. Вдвоем держат за ручки корзину с кухонной утварью. В небольшом скверике расположился склад спасенного домашнего имущества: матрацы, маленькие столики, стулья, ковры …; все грязное и испорченное, ставшее просто хламом. Кому оно еще может понадобиться? На углу сохранился старый транспарант. Его слова звучат как издевка: «Это зависит так же и от твоих пожертвований на зимние спасательные работы». В Сен-Назер, помнится, я читал где-то на улице нечто подобное: «Мы тоже жертвуем на зимние спасательные работы». Говорившие на ломанном немецком языке французы были здорово удивлены, когда нас остановили под тем транспарантом, и какой-то пехотинец с безумным взглядом, тупо сунул нам жестяную кружку: «На зимние спасательные работы!». Вся эта сцена как живая стоит перед глазами, а также и то, как мы сами, раньше, в нашем бойскаутском приюте, простыми трюками выуживали из таких вот жестяных кружек гроши, чтобы купить возможность посещать подружек в темных уголках. Неподалеку, на остатках стены какого-то дома, будто заговоренный от бомб, висит еще один, совершенно целый плакат: «Мы выступим единым фронтом в профессиональном соревновании Рейха». Лежа на кровати в своем гостиничном номере пытаюсь осознать нежданную новость: Зуркамп арестован! Лежу, распластавшись, закрыв глаза, стараясь привести мысли в порядок. Вновь вижу себя в издательстве: лица обретают свет и тень, становятся пластичными: Казак, Кароса, Пенцольд, Шрёдер, Лорке …. Во мне проносится целый вихрь: мы все погибли! Лишь Оскару Лорке повезло – он мертв с 41-го года. Оскар редактировал мою первую рукопись. Сейчас бы все было не так. Но тогда встреча с ним, сидящем в кресле с мягким карандашом в руке, была как удар под дых, особенно когда я услышал его слова: «Что означают эти постоянные восклицания?». Чокнутый старикан: ведь в то время я был просто сверхсчастлив! Из рукописи, несмотря ни на что должна была – так мне говорил Петер Зуркамп – получиться книга. С. Фишер – автор! Это, знаете ли кого – угодно бросило бы в жар и в холод. Не знаю, как все пойдет дальше. Почему это Масленок ничего не знал о том, что случилось? Я ни разу не услышал от него об аресте. Наверное не очень давно это произошло. Да и основания для этого должны были быть серьезные. Но ведь госпожа Бахман говорила что-то о неделе? Значит, только что… «Все когда-нибудь заканчивается», говорил Зуркамп, голосом полным пафоса, после того как полностью сгорела его квартира. Это произошло во время моего последнего приезда. Воздушные союзнические армады как раз начали одновременно бросать зажигательные и фугасные авиабомбы. В этом случае уже никто не осмеливался, когда загоралась крыша, лезть наверх и тушить очаги пожаров. Однако Зуркамп казалось, вовсе не испугался. В результате он едва успел выскочить из дома. После налета у него, из всего имущества, остались всего две перины. Я встретился с ним на съемной квартире в Целендорфе: снаружи к окнам прибита толь, а в саду выкопана перекрытая щель. Домишко был уже наполовину разрушен. Царь Петр был такого же мнения что и я: по тревоге прятаться лучше в траншею, а не в подвал. И эти размышления не имели ничего общего с клаустрофобией, а основывалось лишь на боевом опыте. Потому мне приходилось копать эту щель работая в полную силу: таково уж было желание Царя Петра. Но все это не помогло: ни спасательные работы, ни положение …. Книгу «Охотник в Мировом океане» я вовсе не собирался писать, но Зуркамп был просто помешан на этой идее. Он вел меня к мысли, что я должен разродиться этой книгой: создать такую книгу, которая понравилась бы дюжине ведомств и цензурным комитетам, одновременно не содержа в себе пропагандистских трюков. Для начала установили, что Дениц должен дать свое согласие на такую книгу. Зуркамп знал достаточно четко, как высоко ценил фюрер Деница, и он полагал, что против Деница все эти «коричневые склочники», как называл их Зуркамп, не смогут ничего сделать. – Нам необходимо поместить фото Деница на форзаце, – объяснял мне Зуркамп. – А также нам надо будет поместить его комментарий в предисловии. Кто напишет текст для Деница? – Вопрос не требовал ответа. Царь Петр обдумывал мысли вслух. Он внимательно посмотрел на меня. Я покачал отрицательно головой.
– Да, да. Вы напишите текст и позаботитесь о подписи.
В конце концов, он убедил меня, хотя я упирался, как мог:
– Поймите, я чертовски боюсь, что мы пролетим с книгой, боюсь, что всей этой суетой лишь создадим себе головную боль.
– Из-за головы Деница – себе головную боль? – произнес Царь Петр.
– Я мог бы его нейтрализовать и перетянуть на нашу сторону.
– Каким образом?
– С помощью последнего фото. У меня оно осталось от съемки последней вахты при прибытии, когда все эти шишки, усевшись на перила мостика, свесили вниз свои задницы.
– Господа цензоры, наверное, обратили свое внимание на этот снимок, – задумчиво возразил Зуркамп.
– Я так не думаю. Служивые еще могли бы это понять, но дяденьки из цензуры довольно далеки от этого. На фото ведь нет ничего секретного.
– Знаешь, а ведь для нашего издательства твоя книга могла бы означать возможность выживания, – сдавленно произнес Царь Петр, когда я принес ему подписанное Деницем предисловие, а точнее говоря, просто молча положил ему на письменный стол. Он, посмотрев на нее, с некоторым цинизмом произносит: «С этим мы неуязвимы!».
Мне невыносимо более оставаться в этом затхлом гостиничном номере. В голову приходит вдруг мысль о посылочке фотолаборанта. Нужно ее передать! Итак, подъем и вперед! Кажется, что уже целую вечность перебираюсь по усеянным обломками улицам и ищу указанный на обертке адрес, а внутри разгорается целая буря укоров: ты снова делаешь очередную глупость! Как нарочно, именно Дамашкештрассе! Не нужно было сразу вот так соглашаться на эту посылку! Наконец вижу указатель: «Дамашкештрассе». Номер 13 должен быть слева. Но после номера 11 ничего больше нет. Там, где должен был стоять дом, нахожу лишь огромную воронку, похожую на кратер вулкана. Все ясно: эта воронка и была когда-то домом номер 13. проклятая посылка! Что мне с ней теперь делать? Подходит какая-то девушка – лет примерно двадцати. Загораживаю ей дорогу и прямо в руки отдаю посылку: «Это привет из Франции. Понятия не имею, что в ней! Берите!». Девушка так удивлена, что посылка вываливается из ее рук. Наклоняюсь за ней и разыгрываю возмущение: «Она же вся испачкается – здесь такая грязь!». На город опускаются сумерки. Уже в третий раз прохожу мимо столов из стальных труб и горящей кучи кокса, однако вновь останавливаюсь, чтобы восхититься красотой пламени горящего внутри этой кучи – эти сполохи синего и нежно-розового цветов, которые словно волшебные фейерверки расцвечивают вечернее небо. Они светятся и будто ореолом окружают сгоревшие куски кокса, окруженные грязью и остатками стен. Прохожу мимо и никто не обращает на меня внимание, ни одна из этих закутанных с ног до головы в какое-то тряпье фигур, которые, спеша, прошмыгивают мимо ничего и никого не замечая. В глубине котлована мелькают тени горелок: идет ремонт рельсового пути метро. Что за печальная картина: эти горелки в густых сумерках. Разрушенное метро уже не зависит от всех этих штук. Стальные зубы крановых захватов-грейдеров вонзаются в медленно подкатывающиеся платформы с гравием, смыкаются, и стальные тросы натужно тянут полные ковши вверх – вся эта картина, в ярком свете зажженных прожекторов напоминает мне съемку фильма. Эти укусы, подтягивания вверх и выплевывание массы гравия в сторону придают всей сцене необычную привлекательность. Таким, несколько грубым образом устанавливается превосходство машины над человеческими руками. Таких бы монстров да на всех работах! В то время, как двое рабочих сгребают лопатами не схваченные зубами железного монстра остатки, поезд медленно двигается дальше, а грейдер вновь бросается вниз блестя стальными зубами в широко открытой пасти: титаническая работа, но для чего все это? ответ очевиден: все работают по утвержденной где-то программе. Удивительно то, как все пойдет дальше. Каким путем. Ведь никому неизвестно, что решили маршалы от авиации противника делать с этим городом. В голове мелькает картина, которую пытаюсь и не могу прогнать прочь: сапог, который разворотил муравейник. А в мозгу бьется одна мысль: Зуркамп! Зуркамп! Бедный Царь Петр! Все видится мне словно сквозь туман: все уловки, все эти искусные увертки ни к чему не привели. Иду, нет, скорее почти бегу по грязи и визжащему под ногами разбитому стеклу, и чувство вины перед Царем Петром сжимает мое сердце… Нужно собраться, сосредоточиться, высоко поднять голову. Нельзя показывать, как я расстроен таким событием. Надо быть крайне внимательным, чтобы не сболтнуть чего лишнее: хочу пережить эту треклятую войну. О, боже! Опять неправильно поприветствовал старшего по званию. Внимание! Соберись! Нельзя идти как слепой котенок по этим улицам. Вот еще один идет: серая кожаная шинель – парень из Люфтваффе, а что это на его плечах поблескивает? Но почему все-таки государственная измена? Зуркамп – изменник? Скорее уж где-то здесь притаилась куча свиней готовых продать все и всех. Изменник – враг народа – враг Отечества – наш общий враг! Кто угодно, но только не Зуркамп! Этот громогласный, грохочущий Царь Петр – что ему навешали все эти мордатые сволочи? Быстрая ходьба идет мне на пользу. Доставляет удовольствие чувствовать свои подтянутые, слаженно работающие мышцы. Вхожу в какой-то переулок с абсолютно целыми, стоящими в ряд домами. Останавливаюсь перед витриной. Пыль лежит на свежеокрашенном дереве ее рамы, а за стеклом лапками кверху снулые мухи. В витрине выставлены фотографии, на которых застыли танцовщицы варьете. Лица девушек повторены многократно в разных ракурсах, по всему видно в этом варьете всего три девушки. Они, словно балерины, стоят на кончиках пальцев, держа в руках то виноградные гроздья из больших шариков стекляруса, то веера из павлиньих перьев, а то обращенные прямо на фотографа блестящие фанфары. Через зашторенную решетку подвального окна пробивается луч света. Внизу очевидно кухня гостиницы. Со сквозняком туда, наверное, засасывает целые облака пыли. Какое-то мгновение испытываю чувство жалости к поварам, но тут же одергиваю себя: какое тебе дело до них? Невероятно трудно сориентироваться. Словно впервые в жизни вижу этот город. Город? Весь вид напоминает скорее лунный ландшафт. Своего рода нить протянулась между мной и открывающимся зрелищем. Все причудливо изменилось. В воздухе висит безразличие природы ко всему, что творится вокруг. Не чувствую своих шагов, а сознание словно едва брезжит в моем бренном теле, и в то же время воспринимаю все, что вижу будто со стороны. И потому себя самого ощущаю как нечто не существующее. Но в мозгу бьется чувство какого-то принуждения к восприятию этой реальности. Как загипнотизированный держу курс на какую-то пивнушку. Устраиваюсь поудобнее перед каким-то трудно определяемым «горячительным» и вполуха слушаю пустые разговоры у стойки. Мне все это совсем не интересно. Это более не мой мир. По ночному небу, словно играючи мечутся яркие щупальца прожекторов. Хм. А почему же не слышно звуков воздушной тревоги? Может быть очередная тренировка? Да нет: вот лучи скрещиваются, будто образуя шатер, а затем, там, где скрестились, ярко засветилась какая-то точка, маленькая как моль. Моль пытается удрать, но светящиеся иглы преследуют ее: прожектора не позволяют самолету сбежать из светового пятна. Попались ребята. Меня словно гонит что-то дальше. Может, хочу узнать побольше о жизни? С этим плещущим в животе горючим? А, черт! Вот оно что: я просто не хочу топать обратно в гостиницу. Некоторое время стою у выхода на трамвайные пути и не решаюсь идти дальше. Что за чепуха? Садись и едь! – приказываю себе – и не важно куда. Просто едь! Платформа пуста. Лишь одинокая сестра Красного Креста ждет также как и я. Хочу с ней заговорить, но она отворачивается. Вскоре, грохоча на стыках, подходит трамвай, и забираюсь в вагон вслед за сестрой милосердия. Внутри трамвая темно, но несколько матовых лампочек немного освещают его. Трамвай стоит довольно долго. В вагоне полно людей. Напротив мне бросаются в глаза пара стройных, прелестных ножек затянутых в чулки. Одна нога свешивается с колена сидящего мужчины. Слияние сердец в полутьме. Глаза быстро привыкают к этому полумраку, и теперь различаю, что у дамы лисий воротник. На шляпке, спереди, прикреплены несколько цветков. Почему-то напряженно всматриваюсь в лицо ее кавалера, но оно скрыто во тьме. Судя по всему, он не поддается ласкам своей спутницы. Стоит такая тишина, что явственно слышу голоса из соседнего вагона:
– Я заказал пять двуспальных кроватей. Мы всегда заказывали пять. Я лично разговаривал с директором: 5 кроватей в «Штад Веймар» и 5 в «Паласт». Ты же берешь аккордеон – смотри не забудь.
Когда трамвай, наконец, начинает движение, желтый свет падает на лицо сидящего напротив меня мужчины. Я разочарован: озабоченное, болезненно-бледное лицо чиновника. Но уже в следующее мгновение оно скрывается во тьме. Проезжаю две или три остановки, затем выхожу и пристраиваюсь за какой-то женщиной, каждый шаг которой сопровождает стук деревянных подошв ее туфель. Иду прямо за ней и понимаю, что она чувствует мое присутствие. Но внезапно она исчезает в каком-то подъезде. Из темноты доносится звук ключа открывающего замок. Прохожу мимо, останавливаюсь, снова возвращаюсь и подхожу к подъезду. Ждет ли она меня? Нет! Мимо проходит легкой, скользящей походкой какая-то девушка. Она неловко несет тяжелый патефон с большим раструбом трубы. Я предлагаю свою помощь. Девушка принимает мое предложение, передает мне патефон с трубой и у меня невольно срывается вопрос:
– Кто хочет повеселиться, должен притащить что-то с собой?
– Ну, да! – отвечает девушка, а затем, вздохнув, добавляет – Ну теперь хоть наполовину легче идти.
– Что за музыка вам нравится?
– Шлягеры, – хотя их нет на моих пластинках!
– А что за шлягеры?
– Ну, самые последние.
– А, все-таки, какие?
– Это вам должно быть известно лучше чем мне!
– Вы разрешите проводить вас до дома? Где вы живете?
– У мясника Хинца.
– Ну, вы у самого источника жизни!
– Еще бы!
– Наверное, полный магазин вкусной колбасы?
Девушка замолкает. Интересно, как она выглядит при свете? Внезапно она останавливается у какой-то двери и вытаскивает из кармана связку ключей.
– Не хотите сыграть мне что-нибудь? – начинаю снова.
– Нет, так не пойдет,– отрицательно кивает она головой.
Интересно, может она поддастся на мои уговоры, если я проявлю большую настойчивость? Но девушка забирает у меня патефон с качающейся трубой и прощается: «До свидания!», а затем исчезает словно призрак. Среди ночи вдруг просыпаюсь от охватывающего меня ужаса. Клопы! Господи! никогда в жизни не видел клопов, но эти темные точки, наверное, они. Как только зажигаю свет, точки быстро улепетывают в темные уголки. Блох я бы просто поймал и с треском раздавил бы ногтями. В Ля Рошеле я десятками ловил и беспощадно давил кровожадных мучителей, смоченным водой указательным пальцем на своих икрах ног. Но давить клопов – это вызывает огромное отвращение. Они пахнут таким противным сладковато-тошнотворным запахом. Завтра найду новый приют, говорю себе и смертельно усталый снова проваливаюсь в сон. Где-то слышны завывания сирен, но я не в состоянии даже поднять голову. Да и не уверен я, может все это мне лишь снится?
БЕРЛИН – 2 ДЕНЬ
Когда я просыпаюсь, за окном уже яркое утро. Так, быстро встать и не отговариваться напавшей вдруг слабостью! Моя программа на этот день жестка: сначала к «девятой линии» на Шутценштрассе. Но, прежде всего – облиться холодной водой сверху до низу. Кто знает: уцелела ли редакция после ночного воздушного налета? А позвоню-ка сначала секретарю, – говорю себе. Набираю номер и не удивляюсь, что телефон молчит. Собрав свое барахлишко, прихлебываю кофе, принесенное горничной. Другой комнатой или отелем поинтересуюсь позже. В то время, как я сижу в вагоне метро и слегка покачиваюсь, будто на волнах, в такт его движения, размышляю о своей задаче: среди редакторов различных журналов нет только лишь белых или черных овец, но большинство этих «овец» имеют серую шерсть. С такими мне труднее всего, т.к. я совсем не уверен в них, и не знаю, что можно, а что нельзя им говорить. С главным редактором «девятой линии», Бруно Вернером мне всегда было легко. Я познакомился с ним через Петера Зуркампа, и мне не надо было заботиться о том, что с моих губ могло сорваться необдуманное слово. Несмотря на это и с ним требовалось иногда говорить обиняками. Иногда меня охватывало чувство, что я действую словно в конспирации, особенно когда выныривал в редакции и показывал сделанные мной фотографии, которые им не удалось бы получить официальным путем, и которые нужны были Вернеру как закрытая серия, для того, чтобы вновь спасти свой иллюстрированный журнал в очередном раунде. После третьей остановки на открытом участке пути, выхожу на следующей станции. Вновь прохожу по ущелью среди высящихся развалин, теряющихся в окружающем чаду. Жирная смердящая грязь из нечистот, пепла и воды, которой тушили пожары, ослизлая, словно жидкое мыло. Несколько раз едва не падаю, поскользнувшись на ней. У этой грязи тот необычный, редкостный, тепловатый, противный до тошноты запах, что столь же непреодолим, как и запах влажной сырости. Моя обувь практически сразу покрылась толстым слоем этой противной грязи. Дышать приходится широко открывая рот, т.к. нет никакого желания нюхать эти мерзкие миазмы. Через какое-то время во мне все буквально кипит от возмущения. Но грязь кажется бесконечной. Никогда не мог себе представить, что из великолепных зданий и жилых домов с их обстановками, мебелью, коврами, гобеленами и картинами на стенах, гардинами и портьерами на окнах, люстрами на потолке, пузатыми шкафами и сервантами с танцующими фарфоровыми пастушками, из всего этого, всего лишь ОДНОЙ, точно сброшенной авиабомбой, может образоваться лишь гора серого, осклизлого мусора! Все словно один огромный пищеварительный тракт. Такое впечатление, словно несколько лакомок очищают стол от всякой вкуснятины, а в конце оставляют лишь серое, дурно пахнущее дерьмо. Так и здесь. Остались только серые развалины и остатки внутренних убранств разрушенных, а некогда великолепных зданий, производящих на меня такое же впечатление, как и рассматривание внутренностей на цветных вклейках анатомических атласов. На «девятой линии» царит странное, угнетенное настроение. Бруно Вернера не достать. Неужели он тоже арестован? Не осмеливаюсь задать прямой вопрос этим, словно закрытым броней лицам. И вновь меня охватывает чувство бессилия и неприкрытого страха – все это, в конце – концов, просто сведет меня с ума. Этот страх не похож на тот, что испытываешь при бомбежке. От этого страха потеют руки, сжимаются все внутренности и тысячи иголок пронизывают все тело. Этот страх пульсирующий, разлагающий и парализующий волю, уничтожающий тебя как личность. Это страх перед твоей судьбой, твоим роком. Детские страхи темноты, мальчишеский страх в пустом интернатском коридоре, когда твое сердце сжимается холодной рукой неизвестности, заставляющей прислушиваться к едва уловимым шорохам и стукам – такого рода страх я испытываю и сейчас. Когда я наконец после неловкого прощания выхожу на улицу, то спрашиваю себя: что все это может означать? Чего ради, собственно говоря, должен я здесь мучаться? Только ли чтобы обнаружить пару-тройку газет и журналов, живописующих подвиги германского ВМФ? Что я-то могу поделать? Спеша делаю большие шаги, обдумывая свое положение и вновь приходя в себя. успокоившись, командую себе: «Вперед, к «Сигналу»!» Слава Богу, господин главный редактор готов поговорить со мной, но наш разговор напоминает мне скорее некую пошлую болтовню. И не удивительно: ведь мы не знакомы. Наконец, господин Доктор Хартмут Лёр, так зовут этого человека, переходит к делу:
– Нам от вас нужен срочный материал. Уже прошло довольно много времени, как мы вас печатали. Что произошло? Почему мы не получили от вас практически ничего – ни фотографий, ни текстов?
– Мои фотографии почти всегда остаются висеть у цензоров, насколько вам известно! Над фотографиями в Берлине царит настоящая завеса проверок – да вы это и сами знаете. И делается это так, словно противник еще никогда не видел ни одной нашей подлодки в ее истинном виде. Для господ из цензуры даже простой якорь является совершенно секретным военно-морским оборудованием.
– Вы здорово заблуждаетесь!
– Но особенно …
Вольно или невольно, но бросаемые на меня взгляды и тон, которым произносятся последние слова, показывают, что разговор у нас не клеится. Теперь уже господин Лёр, отчетливо выговаривая слова, выпрямляется за своим столом:
– Та пустопорожняя болтовня, что мы получаем по официальным каналам, эта трескотня, которую уже никто не может читать, поскольку каждая новая статья звучит в унисон старой, все эти письма политграмоты для жуликов и мошенников от словоблудия, ну никак, понимаете – никак не отражает картину идущей войны. И та чепуха, что цунами заливает вот этот мой письменный стол, просто высосана из пальца! И для ЭТОГО мне не нужны военные репортеры!
– Это зависит также и от кастратов! – выпаливаю я.
– Кастратов?!
– Да, ведь господа цензоры так здорово обрезают все, что на их взгляд, являетяс лишним в статье, что остается лишь обрубок…
– Обрубок?
– Да, этакая пошлятина, а не статья.
– Хм. Обрубок в этом случае звучит лучше. Я так полагаю …
Черт его разберет, этого господина Лёра. Можно ему доверять или нет? От меня он уже ждет наверное танца на канате под куполом. Обойдется. Пытаюсь разрядить наш разговор шуткой:
– Тут на стене чудесное место для …
– Вы имеете в виду для портрета фюрера или для портрета шефа прессы в его белой парадной форме?
– Скорее думаю о красиво оформленной старой поговорке, выжженной на клейме у лошадников и трактуемой двояко: «Помой мою шкуру, но только не испачкай меня!»
– Н-да… Не дурно. Так или почти так думаю и я иногда: мы должны пробудить у господ начальников вкус и в то же время мы сами этого не хотим…
Доктор внезапно прерывает разговор. Очевидно, что он делает это из чувства предосторожности. Выдерживает паузу, а затем, подчеркнуто деловым тоном произносит:
– Надеюсь вы нас скоро порадуете чем-то интересным. А когда это произойдет, вновь исключительно для нас, с вероятной долей необычности. Так, как и раньше.
– Так как раньше, – бормочу себе под нос. – Если бы с тех пор так много не изменилось.
Теперь мне надо посетить место рядом с Александерплац, фабрику письменных принадлежностей Хайнце и Бланкерца, выпускающую перьевые ручки и в чьем журнале должны появиться пара страниц с рисунками подлодок сделанные пером их производства. План метро знаю почти наизусть. Без метро я бы просто одурел от всей этой ходьбы и беготни, а для моих башмаков это было бы уже чересчур. Когда, покинув метро, вновь оказываюсь в свете дня, могу лишь удивиться: на площадке, меж двух брандмауэров небольшая толкучка: две маленькие карусели и тир привлекают к себе людей. И эти люди, своими черно-серыми фигурами резко контрастируют с красно-белыми маркизами и парой установленных плоских, неумело раскрашенных в пестрый цвет, гирлянд. Чувствую себя так, словно мою грусть-тоску кто-то разогнал светлым лучом. Прямо передо мной жалкая кучка людей, но в окружающих площадку развалинах настоящее чудо: пестрые цветы, девушки, розовыми язычками лижущие мороженое, почти такое же пестрое как и цветы. Бог знает, из чего они готовят это мороженое. Может это всего-навсего сладкая пена, расцвеченная красителями и замороженная. Меня так и тянет попробовать мороженое. Но в своей форме я не могу стоять здесь и лизать мороженое или что там оно из себя представляет.
– Слишком глупо, – думаю про себя, когда начинает накрапывать моросящий дождик. Две девчушки-подростка с любопытством рассматривают меня. Они стоят прямо напротив меня и не сводят глаз моей морской формы, в которой я здесь выгляжу как негр на полюсе.
Некоторое время стою, размышляя, что же делать дальше, а взгляд невольно приковывается к машине производящей мороженое, огороженную защитным стеклянным коробом.
Стекло окрашено спиралями, которые при вращении раздражают глаз и одновременно привлекают внимание. Какая-то женщина громко кричит, что мороженое на ее картонной тарелке слишком маленькое. Мороженица грубо обрывает ее: «Мадам, если вы забыли, то я помню: идет война!». И это сразу успокаивает женщину.
Дождь усиливается. В Глюкштадте он мог так идти целыми днями, пока вся наша одежда не промокала насквозь. Но, прочь эти мысли о Глюкштадте! Нужно решительно покончить с этими сантиментами! Надо проявить твердость и изгнать прочь этот дух Глюкштадта – раз и навсегда! Лучше всего записать все – как можно подробнее – все, что случилось со мной в Глюкштадте. Пытаюсь представить себе цвет трусиков, скрытых под юбками девушек: зеленые или розовые? Внезапно в памяти всплывает образ анатома Академии Кауфмана: это был тот еще парень, похотливый сластолюбец, который, так же как и Геббельс хромал по коридорам Академии в своем рабочем халате. Решаюсь заговорить со вторым продавцом мороженого, инвалидом.
– Когда стемнеет, все закончится. Из-за темноты, конечно, – сообщает он мне заговорщицки. Мороженщик проявляет ко мне внезапное доверие. Он хочет мне показать что-то. И это всего лишь фаянсовый горшок с ручкой, темно-коричневого цвета. Однако, едва показав мне свое сокровище, инвалид так быстро отдергивает от меня руку с горшком, что не успеваю толком рассмотреть, что там внутри горшка.
– Яичная скорлупа! – слышу я. – Очень мелко размолотая. Старик наслаждается моим неприкрытым недоумением, а затем продолжает: – Все без примесей! Он вновь смолкает, и выдержав паузу продолжает объяснять мне на чудной смеси саксонского и берлинского диалектов: – Эти гражданские набивают себе глотки этим порошком, затем выпивают воду, и поглаживая пузо говорят себе: «О! Это сделано из настоящих яиц! Здорово!»
При этих словах мой собеседник прикладывает к виску палец, крутит им и мягко произносит: «А знаете, я ведь тоже был моряком, господин лейтенант». Закончив дела в последней редакции, направляюсь в квартирмейстерскую службу: ни под каким видом не хочу провести еще одну ночь в клоповнике. И опять все бегом, бегом, бегом… Мне на целую неделю хватит того, что я намотал пехом за вчера и сегодня. Бегу по усеянным обломками улицам, словно по руслу пересохшего ручья. Наконец вижу дом, который абсолютно цел. Но нет, крыша сорвана, вместо окон – пустые проемы. Жалюзи нелепо изогнулись и висят, раскачиваясь под ветром, словно хотят сделать спешащим мимо людям какой-то тайный знак. Стены еще стоят, целы и межэтажные перекрытия. И в этот миг вдруг вижу, как фасад этого четырехэтажного здания вздувается в своей середине, а затем, так же медленно заваливается вперед. С невероятной медлительностью фасад выгибается, почти наваливаясь на улицу, затем замирает на секунду, словно желая сохранить этот 36° наклон. Едва успеваю удивиться, как эта кирпичная махина держится, как в следующую секунду все здание кренится и настолько сильно, что весь фронтон с верхней бровкой уступа растрескивается, грохоча, и, как карточный домик рассыпается на тысячи кусков, которые с грохотом сталкиваются и словно сдетонировавшая бомба огромной мощности, взрывается, вздымая огромное облако кирпичной пыли. Словно громом пораженный, молча наблюдаю всю картину разрушения. Едва ли можно поверить в реальность такой замедленности разрушения. Ну, а теперь – прочь отсюда. Я уже чертовски много пережил и, честно говоря, хотел бы поскорее покинуть Берлин. Верчу головой, будто загипнотизированный, с болью взирая на стоящие вокруг развалины: Боже мой, неужели это Берлин? И это сотворила с городом вся эта коричневая свора…. Будут ли люди, те, что вообще останутся здесь после войны, жить среди всех этих руин? Не будет ли их жизнь напоминать жизнь крыс? А может, они вообще покинут эти руины и где-нибудь в другом месте – возможно совершенно пустынном – обустроятся вновь? Возможно ли вообще поднять этот город из руин? Ведь, в конце концов, имеется множество подземных сооружений, которые не разрушены – каналы, к примеру. Надземное строительство и подземное строительство: прежде всего надземные сооружения и настигает ужас тотального уничтожения и разрушения. Сооружения же, построенные под землей чаще остаются неповрежденными и это-то и важно для восстановления города из руин. Легкий ветерок кружит и вздымает пепел из темных оконных проемов, светло-серый пепел кружит в воздухе и словно комариный рой оседает мне на голову. А что за день сегодня? Среда? Да, должно быть среда. Грустно иронизирую: среда, а воздух полон пепла, значит пепельная среда! Пытаюсь стряхнуть рукой частички пепла с шинели, но лишь оставляю пепельные разводы на ней. И, словно очнувшись, замечаю, что становлюсь грязнее и грязнее. Дерьмо. Все дерьмо! И это верно. – Очень жаль, что в Эксельсиоре нет мест, господин лейтенант, – говорит чиновник в квартирмейстерстве. Сегодня это обер-фельдфебель, – там нет клопов. Все остальные отели вокруг просто кишат ими. Их тысячи. И ничто не помогает. Клопы прячутся за обоями, господин лейтенант. Помочь может, наверное, только пожар! Случай свел меня с этим словоохотливым человеком, которому известны привычки клопов и он хочет поделиться со мной своими знаниями:







