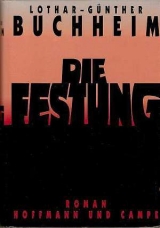
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 111 страниц)
Однако Симоны нигде не видать…
«Ну, где же спряталась твоя подружка?» участливо интересуется Старик. «Хотел бы я знать…» отвечаю ему в унисон и тут же прикусываю язык, т.к. мои слова звучат несколько невежливо. Старик глубоко и шумно вдыхает сырой воздух – так он обычно выражает свое неодобрение. От этого меня охватывает тоскливое чувство пустоты и тяжелой тревоги. Чувство гнетущего беспокойства сдавливает мне сердце.
На баке лодки выстраивается экипаж. Впереди – швартовая команда, позади – свободные от вахты моряки. Командир сам проводит маневры причаливания.
Жаль, что мы не можем сбросить в воду господина Кресса! Мостик нашей лодки вероятно являет собой интересное зрелище со стороны: вся эта толпа на святом для моряка месте. Один забрался так высоко, как только мог. Остальные ведут себя так, словно принадлежат к членам экипажа лодки. Тут уже расположились фотоаппараты и несколько фоторепортеров делающих красивые, хвастливые снимки наших героев-подводников возвращающихся из боевого похода. Мы хорошо угадали со временем прибытия: стоит высокая вода. Словно притягиваемые магнитом входим в ворота шлюза. Дошли! Справились! Хочется кричать во все горло, да момент еще не настал. Позволяю себе лишь прошептать: «Дошли! Дошли!»
Неужто Старику не доставляет радости тот факт, что мы дошли? Он выглядит холодным и неприступным, как тюлень на льду. Окружающий ландшафт изменился с тех пор, как я фотографировал на шлюзе при отплытии. Теперь видны лишь почерневшие остатки ограждающих его стен и одинокий домишко. На красовавшейся ранее на домике рекламной надписи БИРХ осталась только буква Б. Дальше в глубине, в мусоре и щебенке торчат остовы еще двух – трех домиков, провалы крыш ощетинились проломленными стропилами, темные оконные проемы пусты.
Неужели же Симоны точно нет среди встречающих на пирсе? Внимательно всматриваюсь в фигуры стоящих стеной на пирсе людей. Старик стоит вплотную ко мне. Ему не нужно приглядываться ко мне, чтобы заметить мои поиски Симоны. Хитрый лис и так уже все заметил.
Симоны нигде не видно. Плохое начало. Надеюсь у нее все хорошо. А может быть, ей просто не удалось пройти сквозь оцепление? Возможно, она крутится где-то рядом? От охватившего меня чувства сильного разочарования чувствую себя словно паралитик, но нахожу силы подумать: «возможно, это всего лишь простая осторожность, которая и запрещает ей показываться пред ясными очами нашего Комитета по встрече?» Слежу за боцманом, за тем, как он сбивает вместе раскрасневшихся от волнения людей. Гости, которыми он время от времени пугает своих людей на верхней палубе, так зажаты, словно никогда не были на подлодке. Затем он кричит швартовым на пирсе: «Эй, вы, пивные глотки, держи концы!»
Стены шлюза все ближе и ближе. За лодкой смыкаются шлюзовые створы, которые закрывают шлюз. Старик командует: «Стоп! Машины стоп! Команде построиться на верхней палубе!» уже во второй раз он задирает голову и недоверчиво вглядывается в небо. Было бы совсем плохо, если бы братишки атаковали нас в эту минуту. И наше умение держать ушки на макушке может нам вовсе не помочь. Между тем, приветственный шум, производимый музыкальным взводом, буквально оглушает нас. Толстяк – дирижер, стоящий перед музыкантами, трясет жирной спиной в такт музыке. Ремешок каски глубоко врезался в его второй подбородок.
Ну, что за отпетая банда! Мне хочется отвести взгляд от этого кавардака на пирсе, словно все мое внимание поглощено процессом швартовки, но словно по принуждению я буквально сверлю взглядом членов Комитета по встрече.
Корреспондент Маркс тоже явился. Господин Маркс держит себя так же важно, как и господин Кресс. «Крепыш Маркс», – это человек без шеи, который выглядит так, словно его голова растет прямо из шеи. Этот до мозга костей нацист, в основе своей лишь грязная свинья. Когда он сидел за своей пишущей машинкой на террасе в Пен Авеле, смотря через пирамидальные туевые заросли на линию горизонта, с бокалом хереса в руке, то являл собой этакого карикатурного божка.
Можно видеть, как он постигает вдохновение и словно в оргазме переживает поэтические муки.
Красавчик Керпа, наш кинооператор, отсутствует. Толстяк Мёртельбауэр тоже.
«Где другие?» кричу через открытую пока еще двухметровую полосу воды.
«Все в командировке – длительной командировке!» кричат мне в ответ. Старик слышит все это. Наши взгляды встречаются.
«Что же это за …», спрашиваю себя.
Когда мы подходим к стенке на метр ближе, радист заговорщицким тоном сообщает: «Опасность высадки десанта союзников!»
«Как раз здесь», бормочет Старик и насмешливо кривит губы. Затем рычит: «Благородный краб на блузке – трудно поверить!»
Следую его взгляду. М-да, и в самом деле на пирсе стоит какая-то одетая в серую полевую форму с приколотым партийным значком грудастая дама.
«Может она из службы занятости?» обращаюсь к Старику. Кинув на меня злобный взгляд, тот произносит нечто похожее на: «Кто его знает?».
Среди людей в голубой униформе я вдруг различаю еще одного в сером полевом мундире и наутюженных бриджах: не армеец, а некто с серебряным черепом на фуражке. Во мне поднимается волна негодования. Итак, нас уже встречает еще и эта сволочь на причале! Стоит, расставив ноги, а обе руки сложив на своем члене так, словно по примеру своего великого фюрера, хочет вдвойне его защитить.
Наблюдаю за Стариком. Он тоже увидел офицера СД, делает глубокомысленное лицо и скребет пятерней бороду.
Когда музыка немного стихает, слышу, как кто-то сзади меня произносит: «По полной программе!»
«Полное дерьмо, ты это подразумеваешь?» следует чей-то ответ.
СЕН-НАЗЕР
Наконец-то! Лодка прочно пришвартована носовыми и кормовыми швартовами и вот теперь-то и начинается главный ритуал.
Командир бригады выступил вперед, набрал воздуху и прорычал: «Мы приветствуем наших товарищей с подлодки U96! Нашим товарищам с подлодки U96 – троекратное УРА!»
Раскатистое «УР-Р-Р-Р-А!!!» троекратно пронеслось по причалу. Офицеры на пирсе приложили руки к козырькам фуражек. Старик резко бросил руку к козырьку фуражки в ответном приветствии и с вызовом, пристально, посмотрел на дамские вуальки.
1-й Вахтофицер дважды коротко просвистел: «Вольно!».
Командир приказывает в центральный пост: «Лодка пришвартована! Машины – стоп! Приветствие на овердек!».
1-й Вахтофицер и старпом докладывают командиру: «Первый дивизион к приветствию построен!» – «Машинный и технический персонал к приветствию построены!».
Старик смотрит так, словно окидывает взглядом своих людей, на самом же деле он слегка улыбается каждому из них. Затем отходит немного в сторону, словно проходя по узкой палубе лодки, и командует: «Экипаж – смирно! Равнение – направо!».
Командир бригады балансирует на сходне, а затем поднимается по скобам на рубку. Командир небрежно рапортует: «Докладываю. Подлодка U96 вернулась из боевого похода!»
Комбриг сухопар и поджар. На мундире у него Железный Крест второй степени. Навряд ли он заработал эту награду в бою, хотя и командовал когда-то лодкой, ведь все считают его любимчиком Деница. Говорят, что когда он в перископ увидел свой первый транспорт, то даже заплакал от волнения. Не просто для человека с таким низким военным уровнем найти правильный тон в общении с нашим командиром. Иногда он производит впечатление дебила из-за своей неуверенности.
Наконец сходни позади, и я ощущаю под ногами твердую землю. Но что это со мной? Чувствую ватную слабость в коленках и прилагаю усилия, чтобы удержаться на подкашивающихся ногах. Вместо того, чтобы двигаться, чувствую себя словно боксер после нокаута.
Рекой льется шампанское и как всегда: ликованье, суматоха, море радости. Тут уж волей-неволей приходится натягивать на лицо улыбку. Двигаюсь как заведенный на механически переставляемых ногах.
В этот момент слышу, как комбриг обращается к Старику: «Командующий назначил Вас командиром 9-й флотилии!».
Эти слова заставляют меня обернуться к командирам. Не ослышался ли я? Старику придется сменить место службы?
Старик стоит остолбенев. Он выглядит так всегда, когда чем-то озадачен и точно не знает какую мину изобразить на лице. Он стоит так словно манекен и непонимающе смотрит на комбрига. Придется мне внести движение в эту немую сцену. Быстро пробираюсь между занятыми швартовами матросами, которые заблокировали проход и выплываю справа от Старика со словами: «Я вас поздравляю!».
Командир бригады одаривает Старика покровительственной ухмылкой, отдает честь и возвращается обратно к группе офицеров штаба бригады стоящих перед сходнями. Оставшись наедине со Стариком, обращаюсь к нему: «Тебе выпал шанс сберечь себя для потомков. Начальству придется выставлять после войны парочку таких жеребцов как ты на расплод!».
Старик все еще выглядит смущенным и растерянным. Хорошо представляю какие чувства борются сейчас в Старике: прощание с лодкой, прощание с экипажем. К тому же служба в качестве столоначальника – это такая обыденность, над которой он всегда издевался. Однако, с другой стороны, это так же и реальный шанс не попасть в галерею героев–подводников в черной рамке, а пережить худо-бедно это лихолетье. В таком случае, этот приход станет его последней швартовкой. И, возможно, это как раз то, что и смущает Старика.
Приходится пожимать руки – десятки рук. Тут же ко мне подходит Кресс и не протягивая свои клешни выпаливает: «Вас вызывают в Берлин. И как можно быстрее.»
«Как можно быстрее? В Берлин? Как это понимать?»
господин обер-лейтенант Кресс вдруг начал яростно кивать кому-то в Комитете по встрече и даже подмигивать. Как только он закончил, то одарив меня сардонической улыбкой произнес: «Вас ожидали назад неделей раньше».
– Ну и что?
– Вы должны были явиться в Берлин в установленные сроки.
– А когда это должно было быть?
– Четыре дня тому назад.
– Звучит довольно таинственно!
Болтун с имперского радио пожал плечами, а затем, после очередных моих рукопожатий с встречающими, протрещал: «На доклад к Рейхсминистру доктору Геббельсу!».
Новость прозвучала для меня как гром с ясного неба. «Но уже прошло тринадцать дней!» шепчу я себе под нос и злобно смотрю на Кресса. Во мне вдруг прозвучало: «Высшая боевая готовность!» – главное не допустить сейчас никакой ошибки.!
– Я привез с собой много материала и его надо еще упорядочить.
– В подобных случаях мы работаем по ночам, – тут же парирует Кресс, – а то, что готово, возьмите сразу с собой. Вы и без того поедете в качестве нашего курьера. Лучше всего передайте мне ваши фотопленки.… Кстати, Вы уже сделали фотографии?
– Фотографии? – восклицаю удивленно, понимая в то же время, что как только этот хитрован заполучит мои пленки в свои лапы, я тут же лишусь и пленок и фотографий.
– Да, парочка моментальных снимков есть. А пленки еще на лодке в моих шмотках.
Отвечаю уверенно, чтобы показать, что не намерен более продолжать этот разговор, – Думаю, будет лучше, если я передам их нашему лаборанту. Ему нужна, кстати, и дополнительная информация по ним.
Тут мне приходится разыгрывать роль человека обалдевшего от встречи с землей и от той новости, что мне только что сообщили.
– Вас вызывают туда срочно. Вы слышите: срочно!!! – цедит репортер сквозь зубы и делает строгий вид.
– Я не глухой, господин обер-лейтенант! Парирую я, и делаю попытку спародировать его: «Будьте любезны, разрешить мне при этом, с Вашего позволения…».
Не удивительно, что при этом я зарабатываю при этих словах злобный взгляд, но я хотел этого, и я это получил. К тому же, раз я уже по уши в дерьме, то продолжаю: «Геббельс! У меня грудь распирает от гордости. А может не грудь, а мой банан? Вы говорите сейчас, коллега, о господине Рейхсминистре народного просвещения и пропаганды?»
– Так точно-с! Кресс шипит так, словно откусил кислое яблоко, затем, однако, отчетливо произносит:
– Я должен немедленно доложить, что Вы вернулись из боевого похода.
– Немедленно?
– Так точно. И то, что Вы уже выезжаете.
– Так сразу?
– Не сразу. Ну, скажем, сколько нужно Вам времени, чтобы подготовить Ваши вещи, я имею в виду, привести в порядок Вашу добычу?
В порядок? Эхом отзывается во мне, и я уклончиво отвечаю:
– У меня немного вещей. Что хочет от меня господин Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды? Я имею в виду: что я должен привезти ему с собой?
– Определенно не пасхальные яйца! – ревет господин Кресс.
– Только я полагаю, – произношу снисходительно, – В Берлин мне нужно в любом случае. Мне предстоит посетить Министерство ВМС, Министерство ВС, Министерство военной прессы несколько редакций и издательств на Лютцовштрассе.»
– Вам необходимо, прежде всего, доложить о себе в Парижском отделе. Господин капитан хочет видеть Вас лично.
Отставить страх! «Бисмарк», как мы окрестили этого противного каплуна, что он опять удумал?
– Что ему нужно? – с готовностью интересуюсь у Кресса.
– Послушайте-ка, Вы! В конце – концов, господин фрегатен-капитан наш начальник – а значит и Ваш!
– Сердечно благодарю за напоминание, – отвечаю как можно циничнее.
Господин Кресс принимает задумчивый вид, а затем выдает: «С учетом всего вышеизложенного я сообщаю, что Вы выезжаете завтра вечером из Савенея!».
Я отрешенно смотрю на него.
Эта командировка в Берлин может оказаться для меня довольно рискованной. Что об этом скажет Петер Зуркамп? Конечно, протекция с самого верха может быть очень важна как для моей новой книги, так и для издательства в целом. Но, к самому Геббельсу?!
Как может Геббельс приказать мне прибыть в Берлин? Я военный корреспондент и подчиняюсь Главному командованию вермахта. Может ли Геббельс быть выше командующего? Он может! Он достаточно чокнутый, чтобы подразделения военных корреспондентов Армии и ВВС обозвать ротами по пропаганде – также как министерство пропаганды назвал своим штабом. Какой-нибудь хитрец должен был бы предложить подобное и для ВМС.
Я пока вполне официально являюсь военно-морским корреспондентом – а это, хотя Старик может этого и не принимать, точно связывает меня с набившей оскомину «пропагандой». Так, требуется изобразить полную невозмутимость:
– Итак, большая командировка. На доклад к господину Рейхсминистру, а перед этим к господину фрегатенкапитану. Что еще?
В этот момент, на мое счастье, словно баркас – также широко и также переваливаясь – ко мне вплотную подходит Старик. Прикладываю руку к козырьку фуражки и, глядя Крессу в глаза, говорю: «Слушаюсь!».
– Что такое? – Старик хочет знать, в чем дело и о чем это мы.
– Я объясню Вам позже… – говорю и чувствую на себе его вопрошающий взгляд.
– Сюрприз, – отвечаю на его молчаливый взгляд, а затем нас захлестывает толпа медсестер и офицеров с других подлодок.
Что же случилось с Симоной? В то время как я пытаюсь быть со всеми внимательным и обходительным, во мне неистово бьется одна мысль: вполне может быть, что она не знала времени нашего прихода. Возможно, ее друзья из флотилии находятся в отпуске. Возможно… возможно… возможно…. Я готов прямо выскочить из кожи от неизвестности. И виной тому колкие ухмылки Кресса, когда мы встретились. Не покраснел ли он от стыда? Этот его недобрый взгляд определенно не обещает ничего хорошего. Не совершила ли Симона какой-нибудь глупости? Если бы что-то произошло, то кто-нибудь из наших уже сообщил бы мне! Пытаюсь успокоить себя насколько возможно.
Перед воротами бункера стоит омнибус для экипажа лодки. С десяток человек цепочкой перебегает к нему. Замечаю, как, неуклюже косолапя, двигаются матросы.
Если когда-нибудь соберусь снять фильм, говорю себе, надо показать и эту нашу неуклюжесть движений, и шаткость походки. Поле долгого боевого похода каждый двигается совершенно по-другому, нежели в начале: эти пятьдесят человек заперты длительное время в стальной трубе. Недели напролет они провели как пленники – практически не выходя наружу. Потому и походка как у узников вышедших на свободу и опьяненных свободой. Я бы хотел поехать сразу в Ла Боль, на нашу виллу Кер Биби, вместо того, чтобы присутствовать на вечере встречи в нашу честь в отеле «Мажестик». Мне не хочется присутствовать на этом празднестве, который быстро перейдет в обыкновенную попойку. Старик интересуется у меня: «Ты поедешь со мной в «Мажестик»?». И тон его вопроса звучит как приказ.
– Со всеми шмотками? – спрашиваю нерешительно.
– Если причина только в этом, то я выделю тебе матроса для отправки вещей.
– Покорнейше благодарю. Но я и сам могу с этим справиться.
Машина для Старика стоит наготове. Фон Кресс организовал – нам надо как можно быстрее попасть в Пен Авель, в наш штаб. Инженер-лейтенант должен еще поработать на подлодке. Оба Вахтофицера хотят поехать вместе с командой на омнибусе. Старик сам собирается вести большой Хорьх. Итак, мы остаемся вдвоем, я укладываю свои вещи на заднем сиденье, сам же занимаю место рядом со Стариком. Старик шумно дышит, словно загнанный конь. Ему тяжело управлять автомобилем, т.к. его ноги в толстых морских сапогах, а мне подобное знакомо по собственному опыту. Однако ни к чему гнать ему сейчас по колее правым задним колесом: он ударяется о бордюрный камень и приходит в ярость оттого, что забыл переключить передачу. Старик переключается на первую передачу, когда ловит на себе мой укоризненный взгляд. Так, теперь еще по щебеночной дороге, да так чтобы щебень полетел во все стороны веером из-под колес! Совсем спятил Старик! Конечно: теперь он сгоняет весь свой гнев на этой дороге. Хоть бы удалось нормально доехать! У него в голове не укладывается то, что его могут куда-то откомандировать. Как это могло случиться? Вытащить Старика с фронта – об этом не могло быть и речи.
– Прямо погоня какая-то… – произношу громко. Старик принимает это за команду еще прибавить скорость, но тут же снимает ногу с педали газа: мы въезжаем в город.
Сен-Назер был уже серьезно разрушен, когда мы уходили в поход. Между тем, теперь город кажется совершенно опустошенным.
– Хотел бы я знать, чего еще ожидать от этих Томми? – вырывается у меня против моей воли.
– По крайней мере теперь ясно, что здесь уже никто больше не ходит на работу. – отвечает Старик. Затем добавляет:
– Но в таком случае им нечего жрать, а это еще хуже.
Мы останавливаемся. Разрушенный дом превратил эту улицу в тупик.
– Проклятое дерьмо! – ругается Старик и начинает разворачивать машину. При этом ему приходится трижды сдавать назад и обратно, и он лишь переутомил себя этими маневрами.
– Не мешало бы установить здесь парочку указателей, – ворчит он себе под нос. – Эти ребята размолотили тут все в пух и прах. Был бы я французом, задал бы я братишкам по первое число.
Внезапно я подумал о том, как вела себя Симона за неделю до нашего отплытия. Что за дурацкая идея пришла ей в голову открыть кафе только для солдат! А название-то какое: «Кафе а ля дружок Пьеро»! Пока Старик проходит слаломную трассу среди развалин, убеждаю себя, что смогу ужаться в предстоящей командировке, чтобы выиграть немного времени. Оставить Симону одну и без защиты – это была, конечно, моя ошибка – особенно когда стало ясно, что она окружена завистью и интригами. Но затем я снова подумал: «Вот черт! Ведь все было уже в полном порядке!» однако, мне необходимо лучше задуматься о том, как Симона отреагирует на мой скорый отъезд в Берлин. На доклад к Геббельсу! Если бы я только знал, что это может значить! Но разве не хотел я ранее покинуть Ла Боль? Этот приказ надо бы подробно рассмотреть со всех сторон. О подлодках я знаю уже достаточно. У меня уже довольно материала для книги на эту тему. И если я все хитро проведу, то мне должно повезти получить в Берлине приказ на отправку в Фельдафинг. Бог знает, сколько времени я не имел настоящего отпуска. Было бы здорово взять с собой рукопись и спрятать ее в безопасном месте в Фельдафинге. И пленки, конечно же, тоже. Внутренний голос тут же начал убеждать меня: Радуйся, если удастся убраться отсюда целым. Здесь уже начинает гореть земля под ногами. Симона не может служить тебе тормозом на этой дорожке борьбы за жизнь. Голос Старика, не удосужившегося даже повернуться ко мне, врывается в мои мысли:
– Итак, что там у тебя приключилось?
– Меня откомандировывают в Берлин, к Рейхсминистру агитации и пропаганды. Старик в полной мере разыгрывает свое смущение. Сделав два-три вздоха, он спрашивает:
– Как так?
– Я сам только что узнал это от нашего труппфюрера.
Старик настолько удивлен, что даже убрал ногу с педали газа. Словно ему лучше думается, когда он едет медленнее.
– Не навсегда же? – спрашивает он и прибавляет газу.
– Черт его знает!
– Радуешься?
– Как насчет госпожи фортуны, когда она из своего рога изобилия высыпает кому-нибудь на голову пару булыжников?
– Гм, – подозрительно произносит Старик, однако затем поправляется:
– Ну, я бы назвал это большой неожиданностью. Может быть, для тебя еще одно спецзадание? А может, это я такую кашу заварил?
– И твои в пух и прах, разбитые британские миноносцы тоже!
Мы говорим так, словно оба откомандированы в Берлин к Геббельсу. Старику, кажется, стало лучше, в противном случае он не оставил бы своей язвительности и новой попытки загнать меня на пальму. Замечательный заголовок, которому место во всех газетах над моим репортажем, однако мне он не принадлежит – и это Старик знает точно. Он теперь сосредоточенно смотрит на убегающую под колеса дорогу и молчит.
Как тактично я отбуксировал себя наверх! Настроение присутствующих не разрушилось от внезапного появления на горизонте такого неожиданного гостя. Приятно, что наш брат в конце концов чему-то научился. А заодно и местного коменданта и командующего приморским районом, да и еще пару высоких военных чинов и Симону с ее жизненно важным предприятием. По большому счету извлекаю выгоду и для себя. Но, собственно говоря, из-за чего все это волнение? Откуда такая истерика? Однако, прежде всего, мне необходимо смыть с себя весь этот панцирь грязи и дерьма. Под душ, в ванну – прочь этот трагедийный пафос!
Снаружи вновь доносится звук авиамоторов. Звук множества самолетов накатывается и опять уплывает, и снова накатывается. Должно быть, готовится налет на Сен-Назер.
В балконной двери противно дребезжит стекло. Господи! Ну, когда же закончится этот шум моторов? Никогда ранее не слышал шума стольких самолетных двигателей. Старик все верно предчувствовал. Ему поступало так много радиосообщений, что, конечно же, сыграло свою роль…
Лежать! Командую себе. Просто лежать во всем своем дерьме и грязи. Я уже полностью спекся. Все пережитое было для меня уже слишком.
А внизу эта беседа свиней с красными от попоек рожами? Из них никто не знает, что такое качаться как на качелях, когда глубинные бомбы взрываются за бортом. В этот момент даже задница мгновенно покрывается потом. Жить припеваючи, в неге и роскоши – это худший сорт жизни на такой бойне.
О том, что мы вернулись, Томми, скорее всего еще не знают. И если мы были объявлены ими как затонувшие, и если связи Симоны противной стороной еще функционируют – а она всегда давала мне это понять – если это так, то … ну, конечно! Конечно, логично, что в таком случае она и не появилась в Сен-Назере, когда мы вернулись на базу из похода. Голова идет кругом. Пытаюсь анализировать происшедшее дальше: если все сложить вместе, то выходит, что она имела информацию о том, что мы не вернемся, ведь только в этом случае она осмелилась бы пригласить в дом всю эту надутую банду чванливых свиней. Или не так? Но как – за все богатства мира хотел бы я знать – как ей удалось все это устроить? Опять этот надоедливый шум. А может быть у меня уши не в порядке? Сильно встряхиваю головой и тут замечаю: шум доносится не с улицы, а из зала внизу.
Он теперь сосредоточенно смотрит на убегающую под колеса дорогу и молчит.
Спустя некоторое время говорю:
– Полагаю, в этом что-то есть, – а про себя добавляю: А что может быть иное, как не беда? Ведь если я соглашусь остаться в Берлине – тогда прощай флот и прощай Бретань!
– А может тебе всего-то и надо нарисовать Юпа? – говорит Старик, и продолжает:
– Ну, как командующего подлодками ты рисовал: с листом бумаги в правой руке – приказом о боевом выходе или что-то в этом роде – и очень мощного человека!
– Ах, это был всего-то набросок – мелом и красным карандашом….
Старик кивком принимает это мое объяснение, и делает это так, словно стремится навсегда покончить с разговором о Берлине. Наконец выезжаем на простор и мчимся вдоль моря. Старик выбрал тыловую дорогу, которая короче прибрежной, захватывающей каждую бухту. Чтобы справиться с охватившем меня волнением, пытаюсь сконцентрироваться на мелькающем вокруг ландшафте, и словно в первый раз всматриваюсь в окружающий пейзаж. Старик откашливается и вновь начинает:
– Я вот чего не понимаю: что ты имеешь против радиорепортера? Ведь в высшей степени благородно с его стороны, что он предоставил мне в распоряжение свою машину.
– Ты так думаешь, в самом деле?
– Ну, иначе нам пришлось бы ехать автобусом.
– Но тогда им не удалось бы так быстро выдавить тебя в Пен Авель.
– Я не позволю никому меня куда-либо выдавливать.
– Однако тебе придется! Репортаж такого героя-обладателя Креста с Дубовыми листьями из боевого похода – это вполне в духе наших радиорепортажей. Такие ребята засунут тебе микрофон, куда захотят.
– Опять эта твоя военная косточка! – с издевкой парирует Старик.
– О господи!
Старик замолкает. Минутой позже он вновь спрашивает:
– Я не очень гоню?
– Очень. Но ты можешь и спокойнее ехать. Ибо лучшего подарка для репортера, готовящего доклад командиру бригады, как то, что мы с тобой разбились в лепешку, не придумать.
Старик насуплено молчит. Затем меняет тему:
– Ты полагаешь, у меня недостаточно силенок, чтобы стать командиром флотилии? – Эти слова его звучат так, словно он пытается утешить меня. – Когда ты отчаливаешь? Я имею в виду, когда ты должен уехать?
– Уже завтра вечером.
– Уже завтра?
– Да. Они ждали нас гораздо раньше.
– Четырьмя днями раньше…
– А теперь приходится спешить. Я ведь должен еще в Париж сообщить.
– Вероятно, тебя подготовят там к поездке в Берлин.
– А дьявол его знает!
– Ну, уверен, ты скоро вернешься.
– Тебя-то здесь уже не будет.
– Бабушка надвое сказала. Девятка еще не освободилась.
– Девятка – это же Брест?
– Да. Брест. Смешно: там начиналась моя военная карьера.
– Ну да. С атаки на эсминцы. Как назывались твои?
– Гальстер и Лоди.
За разговором я даже не заметил, что мы находимся уже на нашей авеню – на широком прибрежном бульваре. Тут-то уж Старик гонит во всю катушку. В тайне, мне было даже очень приятно, что он, вопреки своей натуре, так много говорил. Спустя несколько минут мы въезжаем на щебеночную дорогу, ведущую в Пен Авель. Радиорепортер стоит в дверях раскинув руки, словно гостеприимный хозяин. Проклятье! Как это ему удалось? Он, что – второй Кресс? Старик хорошо знает дорогу: короткая лесенка наверх и вот она – наша угловая комнатка. Едва мы уселись в отвратительные, глубокие, кожей обтянутые кресла, заявился господин Кресс со своей речью. Потирая руки, выперев вперед острый кадык, он с видимым удовольствием начал свое представление. Несмотря на то, что я прикрыл ладонями уши, все же слышу его помпезную речь:
– Гордое оружие… непоколебимо… серые волки и зеленое море… фюрер… фюрер… фюрер…, – и еще раз: -…фюрер… Альбион на коленях… конец войны…
А перед моим взоров возникает Симона в ее кафе, где она словно кошка изогнувшись у круглого столика вяжет что-то. Стала ли она более осторожна, чтобы избежать риска показаться в Сен-Назере? Старик тоскливо оглядывается, а затем глухим басом произносит:
– Неплохо бы промочить горло…
– Все уже готово, господин капитан-лейтенант! И это здорово, что скоро наши узы дружбы поедут скоро в Берлин. Было бы просто сказочно, если бы немецкий народ перед Вашей поездкой на Родину…
– Буль-буль-буль, – произношу так тихо, что лишь Старик видит, как двигаются мои губы.
– Коллега из кинохроники это ярко высветил, – продолжает свое ломака Кресс, – ха-ха-ха! Служа мне фоном своими фильмами, так сказать в качестве заместителя!
– Вот сука! – шепчу Старику.
Нас приглашают придвинуться ближе к большому круглому столу. Кресс уже установил там микрофон на треноге и уселся в такой позе, чтобы задавать свои пошлые вопросы Старику. Сначала он основательно откашлялся, а затем закусил удила:
– Дорогие радиослушатели! Наш герой сегодня – это герой, награжденный Крестом с Дубовыми листьями, который возвратился к нам из своего боевого похода. Треугольный вымпел взметнувшийся на выдвинутой штанге перископа его подлодки заявил о его новом большом успехе…
Господи! Что за чушь! Думаю про себя и бросаю взгляд на Старика., который, словно большой медведь ведомый за кольцо продетое в нос, пытается изобразить на лице мину этакого добродушия.
– Итак, господин капитан-лейтенант, какая же по счету была эта Ваша победа?
– Тринадцатая!
– Тринадцатая? Это восхитительно! Поход с таким счастливым числом – неудивительно, что вам сопутствует боевая удача!
– Я вижу это несколько иначе…, – произносит Старик, и господин Крез с ужасом кривится при этих словах. Но тут же берет себя в руки:
– Дорогие радиослушатели! Мы продолжим через минуту. А сейчас немного музыки, спокойной и тихой, а затем мой первый вопрос нашему герою.
Взглядом пытаюсь призвать Старика к выступлению, но он явно не хочет поддаваться.
– Дорогие радиослушатели! Представьте себе, как из необычно сильно охраняемого каравана судов, состоящего из таких драгоценностей как конвоируемые пароходы с живой силой и танкеры, несущие в себе высококачественное горючее для самолетов, стремящихся наносить через Атлантику террористические налеты на немецкие города …
Старик при этих словах отрицательно качает головой, но репортер лишь делает успокаивающий жест рукой и продолжает молоть свою чепуху:
– Вы ведь это отчетливо видели через свой перископ, господин капитан-лейтенант…
К моей радости, произнеся все это, наш шустрик покраснел. Справившись с этой минутной слабостью, он внезапно увидел, что Старик изумленно уставился на него, а в следующий миг Старик обращается к нему:
– Через перископ? При такой погоде? Нет сэр. Это была атака в надводном положении и в дневное время. Однако назвать это время днем – уже будет большим преувеличением: из-за плотной пелены дождя было почти также темно как в …, – Старик замолкает в последнюю секунду. Я же невольно добавляю:
– …заднице. – И тут же получаю сердитый взгляд в свою сторону.
Отец небесный! Говорю себе. Все та же старая песня! Что за чепуху готовят всегда в радиопередачах. Пока все это будет продолжаться в таком же духе, займусь-ка я лучше своим труппенфюрером. В этом человеке все выдается как-то необычно: нос, уши, ноги – в целом этот чудик на добрых полголовы выше любого нормального человека. Остро прочерченные носогубные складки придают ему озлобленный вид. На левом рукаве куртки у него бляха с надписью Narvik. Дурацкая идея такую свинцовую штуковину, размером чуть ли не в руку, прикрепить на рукав. Его брюки – это всего лишь потерявшие свою форму бриджи, голенища сапог смяты в гармошку. Конечно же, Кресс достаточно умный человек, чтобы знать, как обстоят дела на самом деле. Но в своем упорном фанатизме он подавляет в себе собственное знание реальности. Он раздраженно реагирует, когда посмеиваются над его ухарством, становится злым, когда его загоняют в угол имеющимися доказательствами его неправоты. Тогда он ведет себя так, словно моча ударяет ему в голову. Мысли мои готовы улететь дальше, но слышу, как Старик вновь привел в замешательство господина труппенфюрера:







