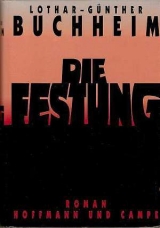
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 111 страниц)
В глубине души я бы с удовольствие повторил свой последний день в Ла Боле. Кто знает, смог бы я простить Симону, если бы моя командировка была отложена. А так, не было разрывающих сердце прощаний и рыданий, а лишь отъезд в бессильной злобе.
Как часто, будучи там, я намеревался свернуть свои манатки в Ла Боле и отчалить от Симоны – но тогда это выглядело бы так, словно я более всего беспокоюсь о собственной безопасности, а Симону оставляю безо всякой защиты. Так поступить я не мог. Но ведь было что-то еще? Разве я не чувствовал любви Симоны? Разве не льстило моему чувству собственного достоинства то, что она дарила МНЕ свое внимание, а не предпочла меня какому-нибудь бравому молодцу с Крестом на шее?
В голове проносятся сотни, нет, тысячи «мгновенных фото» Симоны.
Особенно одна, Во всех подробностях, стоит перед глазами: Симона в ярко-красной курточке с капюшоном, словно Красная Шапочка. Озабоченное личико ее выглядывает из отороченного белым мехом капюшона. А я точно знаю, как все будет развиваться дальше: она распрямит спину, вытащит ножки из туфелек, положит ногу на ногу, и слегка покачивая ножкой, одарит меня очаровательной улыбкой и тут придет конец моему самообладанию.
А вот, следующий кадр: Симона в Париже, в метро, кутается в легенькую шубейку, стыдливо теребит ее наглухо застегнутые пуговки, а под шубкой она совершенно голая – меня бросает в жар от этих воспоминаний. Другой кадр: моя рука нежно лежит на ее интимном местечке между бедер, а волосики там жесткие как грива, пальцы ощущают их сухой шелест, и затем они становятся очень мягкими от жаркой влаги ее киски.
Еще кадр: капризная Симона, которая, кажется, репетирует новую сценическую роль и преподносит себя то, как недоступное, роскошное существо, то, как необузданную дикарку. Симона – грациозно кривящая ротик и как брыкливая козочка, вскидывающая голову, откидывая, таким образом, с лица ниспадающую на него непослушную прядь волос. А вот Симона, беспомощно смотрящая на меня огромными глазищами искушенного в любви ребенка…. В своем умилении этими картинками, совершенно забываю о том, насколько плохи наши дела здесь, в этом «гробу», а вокруг меня кипит несдержанная, необузданная речь. Опять: «Я хотел бы вести себя лучше, поверь мне.» Хоть бы они все заткнулись! Хочется рассмеяться в лицо всем этим крикунам и прямо назвать их трусливыми зайцами. Да, наверное, я и сам такой.
Здесь, в этом подвале, у меня из головы, будто кто-то выковыривает загнанные внутрь мысли. Заставляет меня думать и вспоминать. Указующий перст свыше! Навряд ли указующий, но заставляющий раскаяться.
Симона арестована в Бресте! Что же это все-таки значит? Ошибка в информации Масленка? Умышленное заблуждение? В Бресте – но этого никак не может быть! Меня захлестывает шквал мыслей и чувств.
Симона – тогда я не был в состоянии четко определить, что для нее значила моя обидчивость: я чертовски желал избавиться от нее, и тут же цеплялся за нее, как за спасательный круг.
Был ли я ослеплен страстью? Был ли чересчур доверчив?
А та проклятая история с биноклем? Я чувствовал себя в то время так, словно на глазах у меня были шоры. Но и тогда я отказывался видеть в Симоне этакую сороку-воровку, а уж тем более заговорщицу или, упаси Бог, шпионку. Уже в то время я знал, как зарился отец Симоны на наш новый морской бинокль, чья светосила линз, благодаря их новому покрытию, необычно усиливалась. Симона мне сама об этом рассказала! А потом бинокль исчез, и Симона все время отвлекала меня от мыслей о нем, и мне пришлось подниматься на борт без бинокля.
Что же, Бога ради, произошло в Бресте? В чем оказалась замешена Симона? Если она имела какую-то связь со сбитыми пилотами или заброшенными агентами, то она пропала – никто не сможет помочь ей!
Если бы я только знал, на что могу рассчитывать – или мог? Охранные грамоты от партизан маки;, которые она мне подсунула «на всякий случай», а затем черные гробы: кто и как смог бы сориентироваться в этом?
И вдруг во мне будто пружина страха распрямилась: что, если вся эта история, подобно брошенному в воду камню, распространила во все стороны круги – последствия? В конце концов, из-за Симоны мы все можем пойти ко дну.
Но в чем же я себя упрекаю? Я всегда был начеку, никогда не позволял сорваться с моих губ ничему рискованному. Более того, довольно часто, чтобы избежать возможной огласки, я был глух и нем. И на улице, и в штабных кабинетах с картами на стенах, и при чтении приказов командования. И это притом, что я буквально помешан на подглядывании и подслушивании.
Вздрагиваю от трижды повторенных приглушенных звуков. С ума там посходили, что ли?
Стучать в прогнувшуюся дверь не имеет никакого смысла, господа. Звуки звучат глухо, ничего не передают, т.к. с другой стороны лежит груда развалин. А часть их, перемолотая в мусор, плотно закрывает наш выход.
Здесь пока еще можно существовать. Если бы не возможные проблемы с воздухом! К сожалению никто здесь не производит такого продукта, как кислород. И ПВО не подумали о создании его запасов на такой вот случай.
Симона. Опять Симона! Какую роль во всей этой истории мог играть Старик? Никаких мыслей по этому поводу. А почему Старик не смог защитить Симону? Не хотел? Я всегда считал его рассудительным и надежным. Но в самом ли деле он таков? И именно в ЭТОЙ ситуации?
Симона и Старик. Наверное, крутили там разные шуры-муры. Скорее всего, заводилой была Симона. И кое-что на это указывало, но я старался этого не замечать. Не замечать!
Без воды становится тяжело. Как долго еще будет поступать воздух? Едва ли сутки продержимся. Удушье? Да нет, пока не чувствуется. Очевидно, воздух поступает сюда еще откуда-то. Хотелось бы, чтобы здесь было больше воздухозаборных отверстий в двери переборки.
В то время как осматриваю припорошенных пылью людей, мысль о Симоне свербит мозг: по своей сути она осталась для меня загадкой. Чувствую себя словно состоящим из двух половинок: одна моя половина сжата, спрессована и всего опасается, а другая – мягкая и податливая. Временами я веду себя как токующий глухарь. Но ведь не все, в Ла Боле, выставляли на показ свою позицию: «Ах, что мы за парни!»
Не могу понять себя: в голове только Симона и все, что с нею связано. При этом я уверен в ее судьбе: «Все кончено. Вперед к новым берегам!»
В следующую секунду мысленно возвращаюсь к тому, что я увидел в подвале дома, перед отъездом из Ла Боле. Конечно же, не допускаю и мысли о том, что Симона сама смогла смастерить маленькие копии подлодок, хотя я давно об этом думал…
А где же мои фотографии? О Господи! Совсем вылетело из головы!
– Ты не представлять себе de ce qui se pass;, mon pauvre idiot! – звучит в ушах ее вкрадчивый голосок. Но все же Симона пыталась как-то определить нашу жизнь apr;s la guerre. Не смешно ли: меня она видела стоящим за стойкой в кондитерской, в наглаженной белой куртке, нарезающим пирог. А толпы немцев отрабатывают барщину в угольных шахтах. Я же …. Да, Симона умела описывать мое будущее яркими красками.
Вдруг меня прошибает холодный пот при воспоминании о моем складе в Фельдафинге: бесчисленные записи и фотографии, которые я там спрятал. Их может кто-нибудь обнаружить! Меня внезапно осеняет, кто мог арестовать Симону. Если СД приложило к этому руку, а не только флотская контрразведка, то пиши пропало! От охватившего меня ужаса я цепенею.
Хранящиеся на моем чердаке два чемодана, в которые я годами складывал все, что думал будет крайне важно для будущей книги, это настоящая бомба. Но только не отчаиваться! Если рассмотреть ситуацию более подробно, то все что в этих чемоданах – это совершенно секретные материалы – некоторые даже слишком взрывоопасные. А уж в глазах этих чокнутых служак из цензуры в Берлине, конечно же, каждый листок бумаги и каждая фотография вне всяких сомнений взрывоопасны! Если бы эти задницы только знали, что за груз спрятан на чердаке в Фельдафинге!
Боже мой! Только не отчаиваться! Но как? Как я могу теперь попасть в Фельдафинг? А под каким предлогом могу еще раз выехать в Мюнхен? Если они спустят своих ищеек, то те уж след не упустят.
Никак не могу сосредоточиться. Счастье, что вообще еще способен мыслить! Если Симона арестована, то ей так или иначе пришьют шпионаж. А что же еще? А мне значит – соучастие в шпионаже. Нужно держать ушки на макушке, чтобы избежать этой мясорубки. Если же еще всплывет, что Симона дважды со мной была в Германии – тогда все, каюк! Мы тогда, наверное, с ней спятили – просто спятили!
И в Фельдафинге тикает часовая мина и неясно только одно: сумеет кто-нибудь остановить эти часы или нет. Если же эти свиньи доберутся до моей комнатушки и начнут искать, то они доберутся и до люка ведущего на чердак. И как только они это сделают, то уж никаких сомнений – шансов спастись у меня не будет никаких. Так всегда6 посеявши ветер – пожнешь бурю. А в моем случае – целую лавину.
Проклятье! Знать бы об этом раньше! Кому можно позвонить в Мюнхен или Фельдафинг и попросить как можно скорее забрать два старых чемодана? Как с наименьшим риском обтяпать это дельце? Может быть Рут, из Туцинга? Нет, мы же с ней расстались навсегда. Она слишком изыскана, слишком чувствительна, слишком непрактична и очень нервная. На двух других моих подружек из-за их общеизвестной тупости рассчитывать в этом деле не приходится: м надо сначала все досконально и не менее трех раз повторяя, все объяснить.
Но есть же еще Хельга! Счастье, что она не осталась в Фельдафинге, в своем доме в Мюнхене. Я наизусть помню номер ее телефона: 3-25-58. сумасшествие какое-то: я едва знаю Хельгу, и в тоже время она единственная, кому я доверяю, она быстра и понятлива.
После недолгих размышлений прихожу к выводу, что Хельга – самая безопасная моя гавань: в течение многих лет она была секретаршей в каком-то большом страховом бюро – и ее не удивит, если я, безо всяких объяснений, попрошу забрать с моего чердака два старых чемодана с бумажным хламом и сохранить их у себя в доме. Она ориентируется в моей комнатушке и даже имеет ключ от квартиры. Как подняться наверх ей также известно: ключ от чердачного люка висит в прихожей на стене, за большой керамической чашей.
В принципе, если скоро нас не откопают, то о будущем можно не беспокоиться. Чушь какая-то: здесь я словно в подлодке. Как тогда, когда команде нашей подлодки удалось чудом ускользнуть из окружения – просто потому, что на борту был Я: Я – неуязвим, и очевидно, судьба приложила к этому руку, т.к. мне обычно удавалось выскочить из дерьма целым и невредимым, а значит и окружающие меня люди имели шанс уцелеть.
Масленка нигде не видно. Может быть, сидит, скрючившись где-нибудь в углу за спинами толпящихся людей. Сидит, охватив голову руками, и тупо смотрит в пол: а вместо лица лишь блеклое пятно под темным козырьком фуражки. Довольно нелепо: у всех присутствующих фуражки на голове. У меня тоже.
Вдруг из-за угла, где столпились дамы, доносится визг. Что там стряслось? Какая-то толстушка взяла на себя роль проповедника и вновь воцарилась тишина.
Кажется, здесь нет даже аптечки. Если наше пребывание здесь затянется, то потребуется довольно много успокаивающих средств.
Время тянется бесконечно! Сказала бы моя бабушка. Кручу часы и так и сяк, чтобы разглядеть стрелки: ага, уже прошло два часа. Секундную стрелку не разглядеть – она тонкая, как паутинка.
Как-то сейчас дела у Старика? Наверное, здорово прихватило – несмотря на симпатичный Железный Крест. Сможет ли он теперь выпутаться из создавшегося затруднительного положения? Архитекторша – это уж чересчур!
Вот черт! На этот раз опасность пришла не от Томми, а с другой стороны. И не сыграет ли свою роль этот «довесок» – кто знает? «Довесок» – так назвал Старик фугасы, которые эсминцы конвоя сбрасывали на наши головы и они почти с первого залпа легли тогда чертовски точно, почти рядом с бортом. Могу надеяться лишь на то, что Старик не сдрейфит, если его начнут спрашивать о Симоне во флотилии.
Прошло уже почти четыре часа. Сколько еще времени продлится это заключение? имеющийся опыт не помогает.
Чтобы хоть как-то отвлечься от грустного, представляю, как выглядит снаружи наше убежище: лисья нора, загроможденная бетонными обломками, хаотично лежащими друг на друге и торчащими повсюду крюки и копья разорванной арматуры. А вокруг куски и глыбы бетона и кирпича, вперемешку со щебнем и пылью – настоящая гора строительного мусора.
В эту минуту снаружи доносится шум: скобление, скрежет, царапанье, а затем удары молота. Шум становится сильнее, затем ослабевает и опять усиливается. Никаких сомнений: к нам пробиваются спасатели. Пробьются ли? Уже слышны голоса!
Один из высоких чинов пробивается к двери, стучит в нее изо всех сил ножкой от сломанной табуретки. Мощный звук ударов металла о металл разносится по нашей норе.
Вдруг снаружи доносится громыхающий скрежет – видно расчищают подход к двери. А вот ясно слышны голоса: отдают приказы, очевидно.
Все молчим. А тот визг, что я слышал до этого? Не значил ли он… да, скорее всего так и есть, он означал, что дверь нашего убежища пробовали долбить. Теперь же у двери видна щель, через которую пробивается полоска дневного света.
– Осторожнее, черт вас возьми! – раздается громкий крик. – Этот обломок может рухнуть на ваши задницы!
Я и окружающие меня люди стоим, словно столбы, боясь спугнуть удачу. Ну, что, съели? Хочется кричать во все горло, но я лучше помолчу.
Полоса света у двери становится шире. Вновь доносится скрежет и дробь, будто бьют в литавры. И тут же: «Начинайте здесь! Давайте же!» Скрежет и стук усиливаются. Наверное, бьют ломом или двумя сразу. Они добрались до нас! Добрались!
Глубоко вздыхаю и тут же захожусь от кашля: в воздухе полно пыли. Кашель бьет не переставая. А затем события несутся с огромной скоростью: дверь открыта почти на три четверти, какой-то солдат, спотыкаясь на обломках кирпичей пробирается к нам, а с ним столб пыли и грязи. Затем еще солдат и еще один.
Солдаты спрашивают нас: «Все живы? Все в порядке?» – «Да, все отлично!» – «Отлично!». А затем еле верю ушам: «После Вас, господин майор!»
Свербит у него в заднице, наверное, у этого господина майора! – хочу крикнуть на весь подвал. Кто-то толкает меня в бок, да так, что чуть не падаю на грязный пол – еще один майор, едва переставляя ноги, чопорно вышагивает к выходу.
Едва удерживаюсь на ногах, карабкаясь по осыпающейся щебенке, и вдруг падаю на колени. Это и понятно: так и надо, коленопреклоненно благодарить своего ангела-хранителя! Совершенно невероятно, что нас так быстро нашли и откопали.
Приходится карабкаться по торчащим тут и там глыбам из остатков стен и бетонных перекрытий. Они лежат в беспорядке нагроможденные друг на друга, словно детские кубики. Обломки причудливо окрашены: в розовый, красный, оранжевый цвета – цвета ужаса. Не отвлекаться! Каждый из них легко раздавит тебя как муху!
Шинель грязная, брюки тоже. Туфли запорошены пылью. Масленок тоже весь покрыт пылью. Он выглядит здорово разозленным. Для него это уже слишком: почти фронтовое впечатление!
Тут впервые вижу несколько озорных девчонок, которые находились в глубине убежища. Они все перемазаны с ног до головы, но звонко хохочут.
– Осторожнее, господин лейтенант! – звонко кричит одна из них, когда я спотыкаюсь на каком-то обломке. Группа солдат, человек в тридцать с лопатами, кирками и ломами – вижу даже установленные тали – разбирают завалы. Солдаты потные, тяжело дышат. Проходя мимо двоих из них, пожимаю им руки: Спасибо, парни, вы все хорошо сделали!
Впервые спокойно осматриваю царящий хаос из развалин: полно не только бетонных глыб, но и остатков кирпичных стен и перегородок. Все здание рухнуло вниз, словно карточный домик. К нашему счастью, бомбоубежище располагалось несколько в стороне от здания, так что на него свалилась лишь часть обрушившейся стены. Упади бомбы на несколько метров дальше и нас долго бы искали.
Посмотрев назад, вижу что убежище, спасшее нам жизнь, выглядит отсюда как уходящая в центр земли штольня, словно разинутый рот чернеет выходом среди развалин.
Масленок, отвернувшись, сильными взмахами ладоней сбивает пыль с шинели. обернувшись ко мне говорит: «Ваша шинель выглядит получше».
Кто бы говорил: Масленок пытается выглядеть хладнокровным, словно могильщик.
– Кому какое счастье, господин капитан! – парирую без всякого настроения.
Помолчав, Масленок медленно произносит: «Вам надлежит немедленно выехать в Карлсбад. Мне же нужно, к сожалению вернуться». Махнув рукой в направлении реки, добавляет: «Через мост, а затем налево – буквально пара шагов». При этих словах он вскидывает ладонь к козырьку фуражки: «После этого зайдете ко мне еще раз!»
Ну и жук этот капитан: Мое: «Благодарю покорно, господин капитан!» обращается уже к его спине: он уходит от меня быстрыми шагами.
М-да. В одиночку добираться до Карлсбада! Искомый фон нахожу довольно быстро. Гильзы от зажигательных бомб валяются на тротуаре. Эти бомбы погасли сами. Из оконных проемов верхних этажей тянутся чадящие струйки густого черного дыма. Под ногами визжат осколки стекла: ими усыпаны все ступеньки, ведущей наверх лестницы.
На лестничной клетке ряд ведер. Эта цепочка ведер вызывает во мне рифму: «Словно слуги / ведра в ряд/ вдоль по лестнице/ стоят….
Какой-то солдат объясняет:
– Последний налет накрыл этот дом. Но только зажигалки, господин лейтенант. Ущерб не очень большой!
Старые, превращенные в офисы квартиры имеют к счастью ванны и они до краев заполнены водой. Но одной водой горящий дом не затушить: вижу зеленые следы горящего фосфора на лестнице. Запасы песка, наверное, тоже закончились.
В крышке письменного стола, на втором этаже, застряла гильза зажигательной бомбы. С ума сойти! Она пробила крышу, чердак, межэтажные перекрытия и успокоилась в крышке стола! И черт его знает, почему стол не сгорел дотла?
Где-то здесь затеряно наше разрешение на получение бумаги. Но в этой, покрытой гарью и пеплом комнате никто о нем ничего не знает.
Кажется, что в этом бардаке едва ли что уцелело. Здание горит, и буду ли я причитать и всплескивать в отчаянии руками или нет, оно будет продолжать гореть, как и все другие здания вокруг.
Надо выйти. Меня уже тошнит от этих запахов гари. Выйти и как можно быстрее позвонить Хельге.
На обратном пути в ОКВ, несмотря на нехватку времени, захожу на Лютцовштрассе. телефон в гостинице не работает. Может, удастся позвонить из издательства? Конечно, если оно уцелело после бомбежки….
Решетчатые жалюзи какого-то магазина валяются на улице, словно гигантская рыбачья сеть: в ячейках обломки кирпичей и булыжной мостовой. Должно быть сталь хорошая. В здании следы прямого попадания бомбы. От дома остался только первый этаж. Через ячейки загнутого края гигантской сети, между разбитыми кусками стены, видно то, что осталось от внутреннего убранства помещений: гигантская гора щебня с торчащими тут и там кусками расщепленных взрывом балок.
На улице в навал лежат куски стропил вполне подходящих для баррикад. Многие из них еще горят. Никогда бы не подумал, что в обычном жилом доме столько деревянных конструкций: каменный город, построенный из дерева….
Электрические и телефонные провода свисают с опор веревочными обрывками над всей улицей.
Приходится осторожно обходить их колышущиеся под ветром концы. Расколотые, разбитые рекламные щиты и вывески лежат вокруг немыслимыми нагромождениями. Все превратилось в хлам, металлолом и осколки стекла. Ни одного целого стекла в витринах. Лишь их металлические рамы изогнутые гигантскими руками в спираль. Вдруг, словно выпущенный из корабельного клюза якорь, раздается металлический лязг и грохот. Не слышно ни гудения самолетов ни лая зениток. Оказывается, рухнул стоящий в глубине улицы дом. Поражен тем, как долго держится в воздухе взметнувшееся ввысь гигантское облако серой пыли, и как затем медленно тает и растекается. Неужели это все еще я?
Если не заполню образовавшуюся во мне пустоту – то я пропал! На Бендлерштрассе
наверняка имеется множество существ, которые чувствуют любую слабость и затем атакуют такого слабака, как стая голодных псов, почувствовавших запах исходящего от него страха. Я бы совсем не хотел, в таком моем состоянии, встретить ротмистра Хольма. Да и вообще не хочу я его больше видеть.
Лютцовштрассе! Издательство пережило налет, хотя его слегка и задело. Наверное, все успели спрятаться в убежище. С Зуркампом здесь точно ничего не произошло. Здесь…. Проклятье: на какой-то миг я даже обрадовался, что Царь Петр находится в «безопасности»… Стоит ли звонить посреди царящего здесь хаоса? Нет, уж лучше из пасти льва – может мне удастся дозвониться из ОКВ? Конечно, это уж чересчур смело, но у Хельги довольно-таки практичный ум: для нее хватит и пары намеков. На меня вновь накатывает волна липкого страха и на этот раз более сильная, чем прежде. Ясно: ОНИ следуют за мной по пятам!
Эти ищейки уже напали на мой след. Нет больше ничего безопасного, нет более и моей личной безопасности….
Пытаюсь поймать удачу на Центральном телеграфе на Бендлерштрассе. В трубке что-то гудит, и я вслушиваюсь в гудение как ненормальный. Вдруг на том конце провода слышится голос и тут же глухое молчание…
Новая попытка. Снова гудение, щелканье, треск, а затем слабый шум, словно шелест листьев под легким ветерком – и тишина. Спокойно! – закусив губу, успокаиваю себя. Но через десять минут таких же мучений – сдаюсь. Так и должно было быть, говорю себе: в это время дня и во время налета. Чего еще ты ожидал?
Внезапно в голову приходит дикая мысль: послать телеграмму! Совершенно официально, через офицера связи ВМФ при Генштабе в Мюнхене.
Большое пространство телеграфного зала располагается на цокольном этаже здесь же. Не долго думая направляюсь к стойке. К счастью, фельдфебель свободен. Довольно равнодушно произношу: «Телеграмма офицеру связи ВМФ при Генеральном штабе в Мюнхене», и набрасываю текст: «Следует для срочной публикации забрать два чемодана с необходимыми для работы документами. Ключ от квартиры у Х.Ш., которой поручить их сопровождение на служебной машине в Берлин». Нет, так не пойдет! Куда же? Лучше так: «Которую, в последующем, через курьера известить о дальнейшей их доставке».
Окончательный текст выглядел так: «ВХОДЯЩАЯ: Укрытие важных пропагандистских материалов от бомбового поражения. ПРАВО ХРАНЕНИЯ: телефон 3-25-58, Шуман. ПОДЛЕЖАЩИЕ ХРАНЕНИЮ МАТЕРИАЛЫ: проявленные и непроявленные пленки, а также сопутствующие тексты принять как можно быстрее. ПОДПИСЬ: Военный корреспондент Буххайм».
И уж для полной безопасности посылаю еще одну подобную телеграмму –со слегка измененным текстом, но Хельга должна в любом случае понять из ее содержания: о чемоданах на чердаке я не хочу прямо говорить, но она конечно же о них знает и сразу поймет: «ВХОДЯЩАЯ: Укрыть важные военные пропагандистские материалы по подлодкам. ПРАВО ХРАНЕНИЯ: телефон 3-25-58, Х.Шуман. Все материалы в чемоданах укрыть в Вашем бомбоубежище – точка – имеющиеся пленки будут использоваться для книги о подлодках».
Фельдфебель взял оба листка и заверил меня, что как можно быстрее отправит их по назначению.
Фу. Дело сделано! Теперь они заявятся и обыщут мою комнатушку. А уж обыскать квартиру Хельги у них ума не хватит! Отлично сработано! Всегда нужно иметь ясную голову!
Однако уже на выходе меня охватывает сомнение: правильно ли я поступил? Можно ли в таком деле положиться на этого фельдфебеля? Не бежит ли он в эту самую минуту к своему начальнику и показывает ему текст моих телеграмм? А что подумают в Генштабе в Мюнхене?
Мне становится дурно: я втянул себя в довольно рискованное дело. Молюсь лишь о том, что ничего более ужасного не произойдет, и я никому не принесу горя. Кроме того, стоять здесь и ждать, а еще хуже того: контролировать ход моих телеграмм, могло бы мне лишь навредить. Проявленное в любой форме беспокойство или озабоченность могут разбудить чьи-то подозрения. Значит, не остается ничего другого как быстренько убраться отсюда.
Ноги несут меня прочь, не давая сообразить: куда теперь? Словно контуженый бреду в сторону канала, а затем, безо всякой цели, на какую-то улицу.
Если бы удалось задуманное! Если бы все получалось, как хочется! Я уже не в силах заставить себя думать о чем-то другом.
Задумавшись, забредаю на какую-то задымленную улицу. Укутанные с ног до головы, безликие фигуры, словно призраки, тащатся и то выплывают, то пропадают в белесой дымке. Несколько бойцов, внезапно встретив меня в дымке, быстрыми движениями отдают честь и опять ныряют в дымовую завесу.
Услышав за спиной стук каблуков, невольно убыстряю шаг. Ну, не могли же ОНИ так быстро взять мой след? Спокойно! Только не дрейфь! В помещении телеграфа я несколько раз предъявлял свои документы и конечно же полное название моих ведомств. А как бы я мог поступить иначе?
Из горла рвется скребущий кашель. Лучше бы я остался у канала. Воздух там был все же получше.
Вернуться к каналу? Или шлепать, кашляя дальше? Вообще-то куда я иду? Что это за улица? Улица? Теперь это уже не улица: повсюду, за очисткой прохода от куч мусора и щебня копошатся люди. У большинства на лицах повязаны платки, закрывающие рот и нос. Среди развалин тут и там торчат в диком беспорядке остатки мебели, ковров и дорожек, напоминая баррикады из фильмов о гражданской войне. Из распоротых подушек вылетает пух, и словно снежинки покрывает окружающее пространство. Справа и слева горят дома, но всем, кажется, на них глубоко плевать. Дома обречены сгореть дотла, но ведь тогда людям и укрыться будет негде.
Люди с платками на лицах похожи на грабителей поездов из вестернов. Призрачные фигуры взбираются на щебеночные насыпи и что-то деловито копают там. Неужели кто-то сумел выжить под этими горящими развалинами?
Была бы у них хоть какая-то землеройная техника! А так лишь пожарные да саперы со своими ломами да лопатами. Да и откуда взять теперь эту технику?
Прибавляю шаг. Так куда же пойти? Чего ради я удаляюсь от ОКВ, словно за мной по пятам следуют шпики? Решительно мне надо к Масленку! Но не просто развернуться и рвануть отсюда, а очень медленно, задумчиво остановиться, слегка приподнять правую руку, так, будто в недоумении хочу почесать лоб, затем на полпути к цели остановить ее и всем видом изобразить: «Ах ты, Господи! Ну, как же это я забыл!» А вот после этого решительно развернуться и зашагать торопливо прочь. Все это проделываю так, словно за мной кто-то наблюдает – хотя всем решительно наплевать на меня.
Подозревается в шпионаже! Подозревается в пособничестве шпионам – такие формулировки мне «нравятся». У меня слишком много завистников только и ждущих чего-либо в этом роде. И уж если они почуют нечто подобное, то уж всей сворой заявятся на мои похороны.
Чувствую себя так, будто внезапно оказался голым и беззащитным среди ледового поля. Пьеса моей жизни развивалась слишком долго по благополучному сценарию. А тем временем моя способность к мимикрии исчезла, я же этого даже не заметил.
Надо как можно быстрее вырваться из Берлина! И в то же время безо всякой спешки. Действовать тупо, флегматично, дубово. Утром в самолет и в Париж, а оттуда как можно быстрее во флотилию…. А может Масленок отправит меня сразу в Брест? Пока все говорит в пользу такого его решения. Но что ждет меня в Бресте?
– В Берлине все улажено, – говорит мне Масленок в своем кабинете. – Еще мы позаботимся, чтобы ваше издательство получило разрешение на бумагу. Приказ на ваш выезд и командировочное предписание будут готовы утром. Приходите часам к десяти, а потом отправитесь на аэродром. О месте в самолете и бронировании купе в поезде на Париж мы уже побеспокоились.
Остаюсь сидеть в кабинете. Бумаги, которые ему принес на подпись какой-то унтер-офицер, очевидно, не терпят отлагательств….
Какой пункт назначения указан в моей командировке, Брест или Ла Боль, Масленок еще не сказал. В голове звенит одна фраза: «Человек предполагает, да Господь определяет!» мне и раньше казалось, что все будет хорошо.
Я так хочу в Брест! Но Масленок мог и сам сообразить направить меня туда. Ведь только в Бресте я смогу найти следы Симоны. Понимаю, что, наверное, тронулся умом, но страстно ХОЧУ знать, что случилось. А это я могу узнать только от Старика. Трудности такого разговора меня не смущают.
– У вас ведь очень хорошие отношения с вашим бывшим командиром? – произносит Масленок, наконец-то оторвавшись от лежащих перед ним бумаг, при этих словах с хитринкой смотря мне в глаза.
– В Брест? – запинаясь, выпаливаю вопрос. И тут же беру себя в руки: напускаю на лицо полное равнодушие: все по правилам сценической игры. Успокаиваюсь. Изображаю полную покорность и смирение с необходимостью поездки в Брест. Было бы довольно большой ошибкой изобразить сейчас охватившую меня радость. Значит – в Брест! Будь я трижды проклят!
– Мы хотим, чтобы вы как можно быстрее оказались на месте событий, а в целом, вам будет легче работать в Бресте над своей новой книгой. Было бы не очень хорошо ехать в сегодняшней ситуации в Ла Боль.
Что это он подразумевает под «сегодняшней ситуацией»?
– Так точно, господин капитан! – выпаливаю на одном дыхании, и тут же отваживаюсь задать вопрос: – А мои рабочие материалы? У меня же почти все осталось в Ла Боле. Много наработок….
– Об этом вам надо думать в последнюю очередь. Мы можем отправить транспорт отсюда. – Масленок одаривает меня улыбкой, такой яркой, словно с рекламного проспекта. Немая сцена. Он, конечно же, ожидает от меня реакции на свои слова, но я словно улитка глубже забираюсь в свою раковину. Может здесь снова что-то «не так»? Лучше всего – ноги в руки и вон отсюда!
Так, изобразим солдатика: – Благодарю нижайше, господин капитан! – точно выдержанным тоном, а в завершение – руки по швам, легкий наклон головы. Сидя за столом Масленок, вальяжно протягивает свою клешню, и как просоленный морями морской волк, басом, которого нет, пытается произнести: «Попутного ветра! Хотя полагаю, мы скоро увидимся». И уже на пороге меня догоняют его слова: – В следующий раз опять привезите французский коньяк. Вам прекрасно удалась роль маркитанта! – В его словах сквозит легкое смущение. Вот уж е подумал бы, что ему это свойственно! Не глядя, киваю дважды головой – словно школьник, которому разъясняют необходимость чистить зубы после еды. Затем принимаю стойку «Смирно», ладонь к козырьку фуражки и легкий прищелк каблуков.
Но конца представления все еще не видно! Масленок мягко произносит: – По крайней мере, вы увидели, как МЫ здесь живем. Мысленно добавляю: – Потому и нужен нам хороший коньяк! Вслух же говорю: – Так точно, господин капитан! Это очевидно! И опять стойку, руку к козырьку, щелчок каблуков и наконец-то я в коридоре, где могу себе сказать: – Бегом в гостиницу и смыть с себя всю эту грязь и пот!







