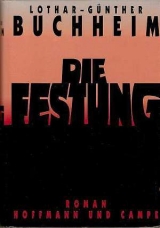
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 111 страниц)
–... Блевотина! – добавляю невольно. – А какое я отношение имею к этим господам, хотел бы я знать?
–Все это твоя фирма! – настаивает Старик. – Просто не могу взять в толк, что такого рода люди считают всех нас за дураков. Я постоянно спрашиваю себя: Что происходит? Разве есть такие идиоты, которые в это верят?
–Есть, и не один! Посмотри хотя бы на твое непосредственное окружение.
Старик смотрит на меня открыв рот, потом поджимает нижнюю губу зубами, на лбу делает гармошку из морщин и, наконец, тихо выдавливает: – Это точно.
–Возьмем имеющиеся новые лодки – а теперь давай скажем честно: Это же ничего. Возможно, что здесь одна есть законченная и готовая стать в строй, а там есть еще одна – но все лодки, не могут быть новыми...
– Нет, – Старик прерывает мои размышления, – это опять не то. Однако подобная ложь отлично работает еще со времен копья и топора!
Вдруг в голосе Старика зазвучали снова нотки неприятия. Умеет этот негодяй маскировать свое настоящее мнение! Тот еще черт!
– А как относиться к тому, что наши верфи бомбят днем и ночью?
Вместо ответа, Старик шмыгает носом и делает такое лицо, словно он унюхал нечто очень дурно пахнущее.
– Не пора ли нам на воздух? – спрашивает он, и мне приходится выбираться из слишком глубокого кресла. – Разомнем ноги?
– С удовольствием! – отвечаю сурово и почти официально.
– Лодка первой флотилии подорвалась в гавани на мине. На одной из тех проклятых зверюг с реле, – говорит Старик, едва я утром появляюсь в его кабинете. – Лодка затонула! Много тяжелораненых. Дозорный сообщил мне, что ночью самолет разбрасывал мины. Именно их-то ночью и искали катера-тральщики типа R-Booten– но безрезультатно! Против таких неприятностей мы просто ничего не можем поделать! – Старик волнуется и сильно трет подбородок.
«Коварная тайна подводных лодок больше не ваш конек», думаю про себя: «При любом передвижении лодки вырабатывается импульс, который поступает в электроцепь мины, что создает в цепи серию электровспышек, и в итоге мина всплывает и происходит ее взрыв…
…Сейчас вряд ли найдется хоть одна наша подлодка в Бискайском заливе, а несколько лодок в Бункере все еще не готовы к выходу в море… …Согласно докладу Вермахта, продолжаются ожесточенные бои вокруг Кана. А это значит безусловный успех янки! Пытаюсь мысленно представить карту, чтобы сориентироваться: Мне трудно понять все эти атаки и контратаки в Кане.
– Они умело разгружают свои бомбовозы над Мюнхеном, – говорит Старик внезапно.
–Это уж точно! – я отвечаю так холодно, насколько это возможно, и думаю: Не совсем верный тон для начала разговора, к которому, по-видимому, стремится Старик.
– Над озером Штарнберг было сбито изрядно самолетов, – спустя некоторое время, он начинает снова.
Для меня это звучит еще хуже. Тем не менее, поднимаю, как бы демонстрируя безразличие, плечи.
Наконец, говорю: – Если это правда. Над Гельголандом тоже сбили десятки бомбардировщиков только сам Гельголанд ничего об этом абсолютно не знал...
– Ну не могут же все вокруг быть мошенниками! – только и ответил Старик.
Я встаю и подхожу к большой карте Европы, которую Старик пришпилил на стене коридора.
–Знаешь, я, как раз после окончания школы, оказался как-то с пустыми карманами в Риме, – говорю тихо, – и вот там, на Римском Форуме, увидел огромные географические карты из мраморных инкрустаций, на первых вся территория Римской Империи при Цезаре была окрашена в красно-коричневый цвет: Северная Африка, Германия, Англия. А на следующих этого цвета было все меньше и меньше, и лишь на одной, на которой только сапог и Сицилия, красновато-коричневый цвет снова повторился.
Уголком глаза вижу, как Старик прочищает свою трубку. Затем он поднимает взгляд.
– Однако, фашисты создали еще одну карту, и на ней снова имеется Большое красно– коричневое пятно – а именно вся Африка и Эфиопия -, прилегающие же к ним области были уже обрамлены, но еще окрашены нейтрально…. Макаронники, по-видимому, страдают от той же болезни, что и мы.
– Путешествия образуют, – говорит Старик и делает торжествующую мину, как бы говоря: Что, съел?
Чувствую себя уязвленным, но быстро парирую:
– Это действительно было с нами всегда – мы часто чувствуем и ведем себя как римляне во времена Цезаря: менее чем за год мы завоевали Польшу, Норвегию, Голландию, Бельгию. Не говоря уже о Чехии и Австрии. А потом молниеносная война против Франции – едва началась, и тут же закончилась... Но, к сожалению, наш аппетит только разгорелся – как при расширении желудка.
Мой взгляд блуждает по карте. – Южная Италия уже не наша, – говорю тихо, – на Балканах неопределенная ситуация с Тито... Норвегия еще пока с нами, но как там насчет поставок? А на восточном фронте – какой тут прогноз? Как мы можем удержать все эти большие площади? Мы видим это здесь, во Франции: Можно ли принудить, например, французов к любви к нам? А поляков? А чехов и других?...
–Так ты не хочешь быть губернатором в Исфахане, судя по тому, что ты сказал? – смеется Старик.
– Уж лучше отшельником на Эльбрусе, по крайней мере, звучит лучше.
Старик молчит некоторое время, затем отрывисто говорит: – Людей из двадцать третьей флотилии в Данциге, очень приятно убьют их же брюки.
–Почему?
–Русские их натягивают на них, постепенно двигаясь вверх и сжимая кольцо.
–Ничего удивительного...
–Ну да, – в любом случае, они никогда не думали, что будут изгнаны русскими.
–Усадка, – бормочу про себя.
–Что ты там бормочешь? – звенит голос Старика.
–Усадка – это как усушка, утруска, осадка или что-то подобное. (>Not shrinkable< – «Не оседает»), стояло клеймо на моих плавках когда-то. Их производили в Хемнице и наверняка предназначали на экспорт.
Вестовой офицер появляется с папками под мышкой и кладет этот хлам на столе перед Стариком. Затем сообщает: – Завтра четырнадцатое июля, господин капитан!
– И что с того? – резко лает Старик.
– Национальный праздник французов, господин капитан!
–Ах, да! – тупо отвечает Старик.
Quatorze Juillet! Парижане празднуют его под присмотром оккупантов с флагами и гирляндами, и танцуют на улицах.
Даже солдаты вальсируют на улицах, не зная, что этот праздник имеет глубокий смысл: Quatorze Juillet – тайный день французского освобождения.
–Я думал только..., – неуверенно мямлит вестовой офицер снова.
–Что еще? – шипит Старик.
–Это маки;... Я просто хочу сказать, что запланированы акции...
– Говорите, но только спокойно.
– Я говорю, что маки; могут запланировать какие-либо акции.
– Да черт с ними! – скрипит Старик.
Как только вестовой офицер уходит, Старик вызывает адъютанта: -Повышенное внимание. Проинформировать все посты. Направить дополнительные патрули!
Затем поворачивается ко мне: – Могут найтись горячие головы, которые захмелеют от этой даты.
– Не это ли и хотел сказать вестовой?
– Он лучше бы о своих делах заботился! Будешь спорить, нет? – И после короткой паузы: Однако мы должны проследить за порядком, а потому после еды поедем на Северное Побережье.
Именно на Северном побережье проследить за порядком? Старику, вероятно, нужен свежий воздух... И очевидно он, хочет меня осчастливить. Он знает, что я привык часто ездить писать в Brignogan или в Aber-Vrac’h. Мы маскируем наш автомобиль ветками туи. Хотя путешествие на север довольно рискованное, я с нетерпением жду эту поездку. Наконец-то снова увижу чудесные пейзажи, а не эти невыразительные физиономии. На разговоры во время поездки времени нет. Приходится более внимательно, чем обычно, смотреть вокруг. Черт его знает, а вдруг маки решатся на подвиг. Но через полчаса у нас авария. Дело кажется в карбюраторе. Он заблокирован. Ничего удивительного – бензин полное дерьмо. Я выхожу из машины и ухожу с дороги, словно безотчетно хочу спуститься к воде. Воздух наполнен жужжанием пчел. В заросшей канаве видны красновато-фиолетовые цветы наперстянки. На длинных стеблях нескольких цветов. Но эти последние цветы предлагают всю интенсивность цвета, на которую только способно неприхотливое растение. Вправо уходит грунтовая дорожка, петляя между морщинистыми, поросшими высокой травой по пояс, стенами из валунов. Дорожка вся изрезана глубокими колеями. Колесами телег выброшены к обочине комья земли. Они выглядят жирно, напоминая куски масла. Почти вжавшись в низкую стену, стараюсь удержать равновесие, не свалившись в вязкую грязь. Время от времени хватаюсь за траву на стене, чтобы удержаться на ногах. Временами кажется, что руки насквозь пропахли ею. За каменной стеной уныло бредут коровы. Старюсь не упасть и прыгаю иногда так высоко, что могу видеть их тяжелые вымя. Наконец, сквозь покрытые паршой ветви старых вишневых деревьев, вижу дом, к которому и ведет дорожка: стены из серого бутового камня, глубоко опущенная вниз соломенная крыша – дом словно вырастает из земли. Два оконных проема. Тут же стоит телега, колеса которой, очевидно, и проложили глубокие колеи на дороге. Дышла смотрят в небо. Рядом с телегой высится золотисто-коричневая куча навоза. Эта сельская идиллия буквально поглощает меня. Делая неуверенные короткие шажки бреду дальше по ухабистой дороге, останавливаясь через несколько шагов. Но уже в следующее мгновение останавливаюсь, присаживаясь на каменную стену. С трудом сдерживаю желание убежать к этим простым людям, сказать им, что мне больше по душе эта их размеренная жизнь простого деревенского парня, скрыться у этих крестьян и начать другую жизнь. Какая-то птаха на стене подергивает хвостиком и подозрительно всматривается в меня. Я смотрю на птицу. Какое-то время это наше единственное занятие. Потом отворачиваюсь, птаха улетает, и я возвращаюсь к машине. Чувствую такое облегчение, словно побыл там, куда и стремился. По полевым дорогам едем на север. Внезапно водитель останавливается: перед нами на улице лежат шарики конского навоза. Водитель принял их за дорожные мины.
– Осторожность мать мудрости, – веселится Старик.
Перед Morlaix, справа у дороги, стоят армейские казармы. У входа одной из них толпятся люди.
– Медленно! – приказывает Старик водителю. Он стал вдруг очень напряжен. Три или четыре человека тянутся с одеждой в руках к окнам: это французы.
– Награбленное выносят, что ли? – гремит Старик, – Остановись!
Не успел автомобиль остановиться, Старик уже на дороге и идет, держа в руке автомат к казарме. Французов словно метлой сметает. Повсюду валяются предметы одежды, даже целые рулоны ткани. Старик украдкой радуется своему успеху. Но потом сквозь шум мотора он говорит: – Повезло! Когда добираемся до моря, начинается дождь. Две женщины в широких юбках, которые играючи треплет ветер, идут, согнувшись против ветра. Обеими руками они крепко удерживают свои бретонские капоты. Не видно никаких следов охраны у моря с этой стороны. И снова едем по извилистым улицам, и время от времени море за кустами или хребтами дюн то появляется, то вновь исчезает. На скудных пастбищах пасется скудный Бретонский скот. Все коровы покрыты толстой коркой навоза. Их передние или задние ноги связаны вместе: Так они вряд ли смогут двинуться с места. Печальное существование. Снова выглядывает солнце. Не знаю точно, где мы находимся, потому что все дорожные указатели замазаны то ли смолой, то ли грязью. Море больше не видно. Старик направляет водителя видимо просто по наитию. Неужто у него нет никакого плана? Когда дорога с легким креном поднимается по некоему подобии дамбы, наконец-то могу заглянуть далеко в лежащую местность и нахожу ориентир: серебристо-зеленые луга широко раскинулись под ярким солнцем, а слева тянется совершенно плоская земля – вплоть до залива Brignogan. Несколько коров, раскрашенных солнцем почти в англо-красные цвета, стоят, опустив головы, среди низких кустарников и желтого дрока. В серо-лиловой дымке выделяется шпиль далекой церкви. От него уходит горизонтальная серебряная яркая тонкая черта: море. Серебряная черта прерывается серыми домами маленького населенного пункта, которые смотрятся словно небольшие возвышения. Зеленеет земля там, где поднимается из долины. Но она не излучает настоящую летнюю зелень, потому что туман из тонкой водяной пыли смягчает зеленый цвет. А сила света яркого солнца еще более фильтрует этот тонкий пар. Он соединяет все в один цветовой тон: дома, облака – всю широкую панораму местности. Въезжаем в Aber-Vrac’h. Останавливаемся на скалистом пригорке и тащимся среди серых гранитных чудищ по желто-серому песку к воде.
– Вот здесь мы в прошлый раз все потеряли, – рассказывает Старик. – Там лежат тральщики совершенно новых видов. В начале февраля появились. А там был бой двух противолодочных кораблей типа Тритон и двух эсминцев.... А там, дальше, у Ouessant (Ашант), в конце апреля, произошло два сражения, и нами были потеряны T-двадцать девять и Т-двадцать семь (T neunundzwanzig und T siebenundzwanzig)...
Когда вижу кипящее пеной между скалами море, то эта картина мне знакома, но когда взгляд охватывает всю эту огромная область, напоминающую тщательно растянутый серебристо-серый атлас, это мне становится страшно не по себе. Я знаю, что абсолютная тишина моря обманчива. Когда долго и пристально всматриваюсь в него, то вижу, как выделяется на фоне неба его серебристо-серая поверхность, то приподнимаясь, то опускаясь, словно чередуя длинные вдохи и выдохи под полуденным солнцем. Через три-четыре часа наступит время прилива и ветра, и воцарится здесь ревущий грохот трескучих и стучащих гигантских барабанов – такой громкий, что не услышишь собственного голоса. Где-нибудь здесь, в руке Старика, должно вскоре появиться фото Симоны. Симона должно быть водит Старика за нос как дрессированного медведя. А тому, наверное, нравится послушно выполнять неуклюжие танцевальные па – к тайному веселью всей флотилии. Серые гранитные скалы стоят вокруг нас, напоминая могучих троллей. Мы присаживаемся среди них, но лишь начинаем разговор, Старик резко вскакивает и отрывисто бросает: – Мы должны вернуться!
В конце дня сижу в своей комнате с томиком книги «Молодежь» Джозефа Конрада. К этой книге я отношусь, как к талисману. Всякий раз, когда перелистываю ее, нахожу, через пару абзацев, описание моей собственной жизни. И это меня утешает и успокаивает.
Историю горящего судна Тремолино – я только что начал читать в третий раз, как в дверь кто-то постучался: Старик. Он смотрит на желтый томик в моих руках и говорит: – Знаешь, я некоторое время назад спрашивал во флотилии – ну не в открытую конечно, – кто знает Джозефа Конрада...
– И – спрашиваю нетерпеливо.
– Никто!
– Ни один человек?
– Нет! Ни один!
В образовании Старика Джозеф Конрад точно не участвовал, поляк, да к тому же пишущий на английском языке и на самом деле являющийся англичанином – это было бы слишком для нацистов. Но Старик все же его читал.
– Самая красивая его книга, я думаю это «Зеркало морей».
– Да, это тоже одна из моих самых любимых книг, – соглашается Старик.
Этого следовало ожидать: В «Зеркале морей» говорится о команде корабля. Я знаю почти наизусть целые отрывки из этой книги. Приглашаю Старика присесть, и чувствую, что ему это по душе. Испытывает ли он потребность поговорить? Усевшись поудобней, он вытаскивает из карманов свои курительные принадлежности и не торопясь набивает трубку.
– В это трудно поверить, – начинает он, когда трубка разгорается, медленно, и как-то даже трогательно, – Как быстро летит время. Вот мы уже четыре года на французском побережье. Помню, как сегодня: Седьмого июля сорокового года, первая лодка прибыла в Lorient (Лорьян)...
Похоже, что он высказался более чем достаточно.
– Да, это были те еще времена, – продолжает он снова. – То, что мы выпрашиваем сегодня это всего лишь полдела. Это длится, кажется целую вечность, непонимание того, что нам нужны подлодки!
Не осмеливаюсь поднять взгляд на Старика. Даже взглядом не хочу беспокоить его сейчас.
– В июне 1924 было принято решение, по-моему, в Париже, с техническими службами Верховного командования провести исследование относительно того, могут ли поглощаться радиолокационные волны какими-нибудь покрытиями подлодок... Решили – решили и объявили на весь мир! А потом? Ничего! Вообще ничего. Обыкновенное дело: ошибочное заявление! Только трепотня языками и утешительные слова... Но сороковой год – это было уже другое дело!
Старик вдруг так резко меняет тон, что я удивленно вскидываю глаза. Вместо возмущения звучит неожиданно голос полный воодушевления.
– Поиск корабля и напряженное ожидание, попал ли корабль в перекрестие перископа. И если да, то начать маневрировать и снова и снова, пока не станешь в правильном направлении. А затем выпустить угрей и замереть, пока не грохнет взрыв! Это была та еще вещь!
Что это нашло на Старика? Он отвернулся, и я не могу видеть, что происходит с его лицом. Он торпедировал и пустил на дно двадцать пять кораблей. Я знаю, как ведет себя Старик, когда на него вдруг нахлынут воспоминания. Его задумчивая медлительность всего лишь маскировка. Конечно, он может быть спокойным и собранным – но только когда оседлает своего конька. Не удивлюсь, если сейчас в его глазах вспыхнули огоньки былого удовольствия от подводной охоты... – Если союзники продолжат развивать свое наступление и уничтожат наши последние базы здесь, на западном побережье, как все потом пойдет? – пытаюсь сменить тему, – Я иногда, словно наяву, вижу наши подводные лодки, которые как Летучий голландец рыскают по океанам и не могут найти лазейку на выход. Без топлива они бессильно двигаются влекомые морскими течениями, а пьяные бородатые экипажи питаются водорослями и пойманными рыбами. – От Скагена, немецкой бухты в Норвегии, наши маршруты немногим дальше, – отвечает Старик так быстро, словно, предвидя мой вопрос, давно готовил свой ответ.
– А время, которое остается лодке на действия в оперативном районе соответственно сокращается!
–Логично.
Старик ведет себя, так словно этот разговор не доставляет ему ничего, кроме внезапного удовольствия. Может это его чувство юмора висельника? – Выглядит довольно гротескно, – по-прежнему гну свою линию, – мы правим всем миром, даже японские озера являются одним из наших оперативных районов, а на порог своего собственного дома мы вряд ли когда сможем попасть. Пауза. Старик трет подбородок ладонью руки и ничего не говорит.
– Дакар – Фритаун – Рио... Все может быть вывернуто и представлено в свою очередь так, как оно вписывается в руководящий треп.
– Я бы сказал: Как ТВОЙ любимый господин доктор Геббельс вписал бы, – Старик отвечает с насмешкой в голосе.
– МОЙ господин доктор Геббельс?!
– Аббревиатура РП, вроде как соответствует названию «Рота Пропаганда», не так ли?
– На флоте мы себя называем не так, а Подразделение военных корреспондентов, и ты это очень хорошо знаешь! Давай оставим эту тему?
– Какую тему?
– Тему развития наших потерь, например, – если потери вообще могут развиваться, – теперь я уже сам заговорил этим языком.
Лицо Старика заметно темнеет. Это длится некоторое время, но затем он говорит:
– За первые четыре месяца этого года – то есть с января по апрель включительно – по крайней мере, пятьдесят подлодок исчезли, возможно, даже больше.
– Сколько?
– Трудно сказать. Может, хочешь еще и проценты рассчитать? Ты всегда говоришь, что это ни к чему не приведет. Ведь тогда их следует различать по тому были ли они потеряны в районе боевых операций или находясь вне зоны боевых действий... Большое количество лодок – я думаю более двадцати, пришлось вернуть назад из-за преждевременного повреждения. Сколько их на самом деле дошло до районов боевых операций, я не знаю. Значительные потери они понесли также и в походе к месту боевой операции и обратно. Можно сказать лишь примерно, сколько лодок в это время ушло в поход... – Старик пытается припомнить и даже производит какие-то движения пальцами правой руки, словно призывая их на помощь: – Где-то около ста сорока.
– Значит, из ста сорока лодок более пятидесяти потеряно?
– Что-то вроде этого.
– Но это же безумие!
– Ццц, – только и произносит Старик и смотрит, не мигая прямо перед собой. Затем языком вздымает левую щеку.
Такое ощущение, словно он обнаружил частицы пищи между зубами, которыми он некоторое время и занят теперь, уставясь глазами прямо перед собой. Вижу, что Старик смотрит не мигая. Он, казался бы, если бы не движения языка за щеками, полностью парализованным. Наконец Старик издает глубокий вдох и тихо говорит во время выдоха и больше для себя, чем мне: – В первую очередь сильное повреждение шноркеля лодки в Канале. Такое повреждение, считай было у двух третей потерянных лодок. Сколько мы действительно теряем в Канале, я вообще не хочу думать. Мы также по-прежнему должны отправлять в боевой поход лодки, не оснащенные шноркелями..! Старик тупо пялится на свои руки и продолжает странным, бесцветным голосом – словно усталый учитель в школе – дальше: – В начале июня, общая сумма зарегистрированных потерь составила четыреста сорок лодок, а с начала Вторжения, уверен, еще двадцать единиц. Это составляет в сумме четыреста шестьдесят лодок – почти полтысячи! Кажется, в этот миг что-то толкает Старика изнутри. Это выглядит так, как если бы он вдруг вспоминает что-то давно забытое. Затем, твердым голосом он продолжает: – На войне не стоит спрашивать, что целесообразно, а что нет. – Это твоя интерпретация поговорки: Нельзя сделать омлет, не разбив яйца? Старик не выказывает никакой реакции. Он даже не смотрит на меня. Чувствую облегчение, когда он, наконец, готовится продолжать разговор: откашливается, делает несколько глубоких вдохов, выпрямляется. – Но что можно сделать? – произносит он, пожимая плечами, будто сам себе отвечая. Мне приходится еще подождать, пока он вскидывает глаза на меня и начинает: – Мы хотим сказать так: Нужно ли это командирам лодок, если я начну их запугивать своими страхами и буду говорить, Осторожность – вот мать успеха, или что-то вроде этого, а не настраивать их на прямое достижение успеха? – Знаю, знаю, – предупреждает он мои слова, лишь только я начал легкое движение губ, – я все твои песни уже наизусть знаю: Мы обучаем неистовых смельчаков, пестуем их, как католики своих иезуитов, делаем из командиров героев, которых распирает от тщеславия и амбициозности, которым действительно нравится Рыцарский Крест, он не вызывает у них боль в шее и не заставляет думать! Старик пристально смотрит на меня, пока я ищу достойные этой тирады слова, взглядом психиатра, чтобы ничего не скрылось от него. Этим же взглядом он побуждает меня, однако, держать себя в узде и, сдерживая себя, отвечаю: – Не хочу знать, сколько экипажей они подстрекают – или, как ты это называешь, мотивируют на успех – продать свои жизни, сколько командиров совершенно потеряли свои мозги только потому, что им где-то там маячит на горизонте железный ошейник на черно-бело-красной ленте.
– Если хочешь выиграть войну, нужно просто использовать также и психологические средства. Ты-то должен это понимать.
Боковым зрением ощущаю ожидающий взгляд Старика, и меня так и подмывает спросить: я правильно расслышал – ты сказал, выиграть войну? но вместо этого отвечаю: – В любом случае, довольно много последствий за двадцать рейхсмарок – или за что там еще, – за которые последует орден на шею. Ранее желающие воевать были готовы, по крайней мере, воевать за какую-то перспективу! Старик начинает вновь прочищать свою трубку. Он прочищает ее смешными маленькими складными приборчиками очень тщательно и показывает ясно, что не расположен в такой концентрации говорить. -Американцы могут вполне радоваться, начинает он вдруг снова. – У них теперь есть, по крайней мере, одна из наших лодок – с начала июня. Подлодка Девять-C – U505. Старшего лейтенанта Ланге. Бывшего торговца шифером. Его захватили на втором выходе в море. Почти ровно двадцать градусов западной долготы – между Канарскими островами и Островами Зеленого Мыса. Он туда отплыл из Бреста, относился ко второй флотилии. Американцы сразу раструбили об этом на весь мир. Радовались, как дети. Терпеливо жду, пока Старик вновь раскурит тщательно набитую трубку, пыхтя выпустит клуб дыма и, наконец, продолжит: – Даже не открыли нижние затворы и не позволили лодке исчезнуть, как было бы раньше.
– Они еще выходили на связь?
– Нет, насколько я знаю. Просто так оставить подлодку для захвата! Не могу понять!
Старик печально качает головой, словно имитируя непонимание.
– А можно ли узнать, не происходило ли подобное раньше?
Старик ни разу не поднял взгляд. Он ведет себя так, как если бы я ничего не сказал.
– Из множества лодок, которые безмолвно пропали, – настаиваю я, – еще не одна могла быть захвачена подобным способом. Британцы вряд ли передали бы это по радио. У них соблюдается строгая военная тайна даже на то, что в наших магазинах случайно скажут....
Тут Старик поднимает глаза и, наконец, произносит: – Мы просто очень честные люди!, – при этом он делает такое глупое лицо, как всегда, когда хочет подавить распирающую его изнутри усмешку. Он хочет провернуть такое же и сейчас, но в этот раз у него ничего не выходит. Старик находит спасение, продолжая говорить:
– Довольно подлые парни, мы это точно знаем, сволочи, я бы так сказал. Ложный Альбион, вот как это называется!
– Должно быть, от излишне выпитого виски..., – я говорю в унисон.
– Точно – и еще от курения сигар. А все это вместе портит характер.
– И у старика Черчилля даже сифилис...
– С чего ты это взял?
– Лично от Фюрера узнал! Он назвал этого старого лорда адмиралтейства «сифилитиком» – в открытую – прямо по радио!
При этих моих словах Старик, приподнимаясь со своего высокого стула, говорит:
– Фюрер, конечно же, это знает! Фюрер всегда прав! – А теперь мне нужно перекусить!
В полном изумлении хочу воскликнуть: – Ничего себе! но стараюсь незаметно проглотить это свое восклицание. Наш стоматолог говорит изо дня в день все резче и очень уж откровенно. Кажется, ему по барабану, кто его слушает. Когда в клубе слышу его очередную болтовню: «Все эти солдатские ценности, солдатский этос – уже больше не могу все это слышать! Будто это создает особое отношение к военным...», то потихоньку ускользаю. Старик все-таки здорово прав со своими предупреждениями... Оставляю расположение флотилии без всякой цели. Прежде всего, держу курс на Рю де Сиам, ее никак не минуешь, потом раздумываю, куда двигать дальше. Либо в старый порт, либо к большому разводному мосту, а затем вниз к Арсеналу. Но прежде всего скорее выйти из этой душной атмосферы! И вдруг я снова вижу Вольтерса: то, что мне Вольтерс, невысокий фенрих, недавно доверил, никак не выходит у меня из головы: В течение нескольких дней он буквально преследовал меня после еды и все пытался вовлечь в какой-то разговор. Затем, однажды, он даже последовал за мной, когда я вышел с мольбертом из расположения флотилии. На Рю-де-Сиам он вдруг остановился рядом, спросил, не может ли помочь мне поднести вещи, и проводил меня до торгового порта. И оставался со мной все время, пока я сидел на кнехте с мольбертом на бедре. Наконец, я отставил мольберт и пошел с Вольтерсом в ближайшее Бистро. Мы сидели одни за столиком в углу. Я сел так, чтобы видеть одновременно и вход и стойку бара и темный проем в стене, задрапированный шитым бисером африканским занавесом, за которым, приняв наш заказ, исчезла пожилая хозяйка. Вскоре она принесла густое, темно-красное алжирское вино. После пары стопок последовал прерывистый рассказ Вольтерса, о том, как три парня из его бывшей команды изнасиловали его на пустом патрульном катере. Словно наяву вижу эту сцену, как они один за другим засовывают свои дубины в его дерьмо, кровь и слизь... И во мне поднимается волна негодования и отвращения. Даже теперь мне приходится сдерживать тошноту от представленной тогда картины.
– Мои командиры никогда не узнают, что произошло, – тихо сказал Вольтерс в конце разговора.
Спрашиваю себя, что за человек этот Вольтерс. Он, скорее всего, испытывает постоянные мучения от пережитого. По крайней мере, он, мне так показалось, почувствовал себя гораздо легче, когда излил мне свою душу, а я только слушал его, не прерывая. Теперь он знает и худшую сторону военно-морского флота. В сумерках снова собираюсь выйти на прогулку.
~
Из солдатского клуба доносятся голоса горланящие песню «Прекрасный Вестервальд». Она звучит довольно забористо и жестко. А потому, когда несколько пьяных матросов вываливаются в дверь, я по большой дуге скрываюсь на другой стороне дороги: У меня нет никакого желания иметь проблемы с пьяными матросами.
Вскоре добираюсь до Арсенала. Тщательно выбираю путь между тоннами разрушенного и искореженного металла, лежащих на боку огромных буев, могучих корабельных корпусов, отбрасывающих черные тени. Пробираясь среди этих темных пятен, чувствую странный холод между лопаток: не очень-то хочется блуждать здесь в темноте – и, уж конечно, не в одиночестве. Вот опять останавливаюсь перед густой тенью: Не было ли здесь какого-то шевеления? Или что-то треснуло там? Я уже давно прочно держу в руках пистолет. Снять с предохранителя! – приказываю себе. А что это было рядом со мной? Черт, не хочу, чтобы меня здесь подстрелили.
Парой быстрых шагов в сторону погружаюсь в тень, и прислоняюсь спиной к большому металлическому остову. Теперь замереть, приподнять пистолет и задержать дыхание. Ничего? Или что-то происходит? Не следовало бы ходить сюда одному. По меньшей мере, не в Арсенал в этот час. Это против всяких правил. Даже в дневное время это не безопасно. Здесь слишком много крупногабаритных отходов, слишком много укромных уголков.
Ладно. Надо успокоиться, а то кровь прямо кипит! – говорю себе. Чисто театр! В основном тебе еще может быть безразлично, что происходит с тобой. Ведь в любом случае, ничего не случилось. Судя по всему, это не твоя судьба быть застреленным здесь в темноте. Слишком много еще не сделанного... Стою на месте и слушаю. В бульканье воды у пирса примешиваются стоны и скрипы трущегося изношенного троса. Незакрепленный должным образом понтон трется о причальные надолбы. Сначала мне казалось, что вокруг царит глухое молчание, но теперь слышу десятки звуков. Вода гавани живет и трудится. Там и тут то и дело доносятся звуки похожие то на неуклюжую походку человека, то на плеск и треск. Вероятно, пришвартованные к пирсу небольшие лодки своими комингсами, подпрыгивая на волнах, производят весь этот грубый спектр звуков напоминающих трение, скобление, шуршание о понтоны или другие такие же лодки. В глубине гавани Арсенала осматриваю район глазами партизана маки; и удивляюсь, как бы такой партизан сумел взорвать все здание вместе с разводным мостом, да так чтобы никто не смог пересечь ущелье разведенного моста. Для восстановления чертовски тяжелых опор разводного моста потребовались бы огромные расходы и силы. А если на складе нет готовых запасных опор, то не было бы никакой реальной возможности все восстановить, разве что перевезти их по воздуху. А такие колонны вряд ли будет возможно перевезти и установить. Разве каким-либо поворотным кронштейном со стрелой. Наверное, такую диверсию было бы нелегко осуществить магнитными минами из-за их малой мощи. Вот если до середины моста проедет грузовик упакованный взрывчаткой, и там остановится... От двух океанских буксиров Кастор и Поллукс, которые стоят почти прямо под разводным мостом, в любом случае, останется только лом. – Ну а теперь хватит. Пора идти! – говорю себе вслух. Кроме удвоенных патрулей солдат не видно. Страх нападения удерживает их в казармах. Распространились слухи об ужасных пытках немецких солдат, которые ночью попали в руки подпольщиков. Трудно сказать, так ли это. Из нашей флотилии еще ни с кем такого не случалось. Тем не менее, бойцы предпочитают оставаться на ночь за оградой части. Когда приближаюсь к расположению флотилии, слышу резкие свистки часовых. Они наблюдают, чтобы французы соблюдали светомаскировку и держали окна полностью затемненными. Вокруг расположения флотилии часовые особенно внимательны, так как некоторым французам может придти мысль подать световые сигналы как ориентиры пилотам врага. Сделать пару глотков в клубе! Стоматолога, надеюсь, там уже не будет. Со Стариком, я вижу это сразу же, когда прихожу на следующее утро в его кабинет, лучше не связываться. Он едва лишь бросает мне «Садись», когда я вошел к нему, и больше ни слова в мой адрес, но лишь шелестит страницами каких-то документов и неистовыми росчерками карандаша зачеркивает целые страницы. Не вижу ничего, кроме глубоко-изборожденного морщинами лба. Вид у Старика довольно тревожный и озабоченный. Спустя несколько минут, почти шепотом, он говорит:







