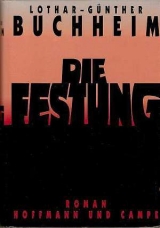
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 111 страниц)
Я свидетель того, как он одомашнивает флотилию, хватает все, что может, для ее блага. Гораздо более активно, чем его зампотылу. Конечно, его не привлекает провиант или алкоголь, но различные материалы для внутреннего обустройства флотилии – его стихия.
Старик разузнал, где находится склад мебели, материала для штор и всяких других материалов и оборудования, и кто является советником-интендантом ВМФ, курирующим данный склад. И вместо нападений на конвоируемые караваны судов, Старик направляет все свои атаки на таких вот интендантов, проявляя при этом не меньше упорства и хитрости чем прежде. И если бы он понравился какому-либо интенданту так, что тот удовлетворил бы требования по флотилии, большего бы удовольствия Старика нельзя было бы представить. Старик применяет свой старый прием: подстерегает и бьет без промаха в нужный момент и тогда его противнику крышка!
Рано утром опять смываюсь из флотилии. Хочу добраться автобусом до большого разводного моста, а потом дальше пешком до Бункера: как можно дальше от флотилии.
Внутри чувствую, как все более растет моя удаленность от слепой веры в Гений Фюрера, и как с каждым днем, все более непонятным становится мое пребывание здесь.
При все при том, моя obsession восприятия с каждым днем лишь усиливается. Словно из последних сил стараюсь запечатлеть в мозгу все, что видят мои глаза: распухшие формы железных жалюзи сгоревших магазинов, причудливость сплавленных взрывами цинковых крыш, дикие жесты выгнутых взрывной волной железных балок, жалкое убранство все еще открытого кафе, разводы маскировки на стенах и покалеченных взрывами стволах платанов перед разбомбленными казино….
Останавливаюсь посреди моста, и крутясь вокруг своей оси, осматриваю и стараюсь запомнить окружающую панораму: крепость, часовой с подбородком Щелкунчика, ремень каски, словно черта углем на белом лице, глаза, спрятанные в тень каски…. А внизу справа, словно на параде, выстроились бетономешалки и как муравьи суетятся толпы рабочих Организации Тодта. Их инженеры величают себя не иначе, как «Фронтовые инженеры». Я знаю, что они часто попадают в рискованные переделки и потому так себя именуют, потому что война диктует совершенно иные условия, чем мир: «Выигранное время важнее, чем вероятный риск!» Этот лозунг и взят ими на вооружение.
Вот вижу паровой молот для забивки свай, что впихивает в портовую землю швартовые палы и каждый раз, когда он наносит удар, в воздух взмывает, словно знак веселого пыхтения, серо-белое облачко пара. Рассматриваю перламутровый платок неба над рейдом, толпящиеся здания Арсенала, лес из каминных труб, торчащих из крытых шифером крыш, яркие как ртуть банки меж расцвеченных суриком тральщиков, черные решетки портовых кранов….
В гавани вода мертва. Мертвая вода: ее поверхность покрыта грязными пятнами нефти и машинного масла. По каменистой кромке вода обозначает сама себя: радужная линия из масла и мазута.
Там и сям можно видеть ветровые наносы песка и земли между зданиями складов, гаражами и зданиями верфи – они напоминают гусиную кожу над этой мертвой водой. В воздухе ощущается запах смолы, дыма и гниющих водорослей. То и дело завывают сирены и замолкают. Перевожу дух.
Глазу не на чем остановиться в этом шквале форм. Взгляд выхватывает слишком много за один раз. Надо попытаться – словно в руках мольберт – привести увиденное в некий порядок: все эти краны, мачты, дымовые трубы, рангоуты, реи, на переднем плане должны быть сильно окрашены и аэростаты заграждения, что причудливо оттеняют небо. В огромном треугольнике неба висит черно-фиолетово-коричневый чад. Тут и там облака пара, напоминающие цветную капусту.
Солнце пробивается своими лучами сквозь просветы облаков, и привносят к хаосу линий напряженное изменение многоуровневого освещения: целый ряд окон отблескивают своими стелами. Кабина крановщика одного из кранов сигнализирует стеклами фонаря. Корпус какого-то корабля пылает во всем красном великолепии. То, что прежде было всего лишь суриком, стало теперь насыщенно красным. Даже жалкая чернота стала бархатной. Окрашенные белым палубные надстройки стали слепящими глаза пятнами. Даже серый щербатый бетон, кажется, стал ярче. А один плавучий кран, благодаря особому эффекту освещения, стал плыть, как по небу.
Словно считая, что достаточно попозировало, облачное покрывало закрывается и все опять становится черным, скучным, жалким и серым.
Из хаоса вдруг выскакивают два сторожевика, бывшие когда-то рыбацким шхунами. Блики семафоров, сирены: сторожевики идут в охранение. Не хотел бы я быть на одном из них.
В конце фьорда гавани располагается верфь. Вижу, как там работают с железными листами, словно они сделаны из бумаги. Небо над верфью серое. Черные краны делят его на правильные геометрические фигуры. Наверное, так выглядит местность с буровыми вышками: мрачно, угрюмо и пугающе. Погода на западе начинает меняться.
Пробираюсь сквозь строй чугунных, черно-коричневых чушек, к складу морских навигационных знаков.
Где-то далеко впереди ползет суденышко: будто улитка. Небо меняется, а с ним и зеркало рейда. Вот оно яркое, а вот, стоило лишь облакам закрыть солнце, потемнело, но в следующий момент опять яркое.
Карабкаюсь по тросам и каким-то проржавевшим железякам, чье предназначение уже не узнать. Запыхавшись, присаживаюсь на огромное звено якорной цепи и поражаюсь тому, как причудливо вырезан нос какого-то китобойного судна.
Мимо меня проходят парни в жестких брезентовых робах. Они двигаются в этом такелажном обмундировании так тяжело, словно в броне, а их красные от сурика руки выглядят так, будто они пришли с бойни.
Отдохнув, плетусь дальше мимо стройплощадок, миную переплетение рельсовых путей мимо огромных куч песка цвета охры, в направлении Бункера. По какой-то стремянке высотой с дом, по ее красным ступеням, забираюсь на узкую сторону циклопического сооружения и оттуда на крышу Бункера подлодок – гигантскую серую плоскость. Под моими ногами семь метров толстого, особо сильно армированного железобетона, и отсюда я могу одним взглядом охватить всю гавань и весь рейд.
Стоящая в Бункере подлодка принимает в свое чрево совершенно новых «угрей». Бог знает, как прицепилось к торпедам это название – «угорь»! Торпеды чертовски не похожи на этих длинных морских обитателей, угрей. Когда торпеды лежат на стеллажах, они производят скорее непристойный вид: выглядят как огромные, сложенные штабелем пенисы. Однако довольно дорогие пенисы. Здесь хранятся торпеды стоимостью, наверное, в миллион марок. Висящий над ними раскоряченный паук крана завершает собой эту похотливую картину Великого Германского Рейха. Отдельно лежит торпеда для парохода – полностью снаряженная – тоже стоит прилично. С так называемым отрицательным эквивалентом.
Чувствую, что от этих невеселых размышлений у меня невольно кривится лицо. Хочу вывести какие-либо итоги из увиденного, но в голове полная каша. Тяжело бьется мысль: «Нанесение ущерба в качестве желаемого возмещения такого же ущерба – уничтожение в качестве цели неимоверных потуг» – для меня это полный бред.
На лодке открыт торпедный люк, погрузочный лоток закреплен, один «угорь» уже висит на крюке крана и отсвечивает тусклым серебром в свете Бункера. Вот его голова исчезает в темном люке.
Доносятся голоса: «Хорошо пошла!» – «Подмажь вазелином – еще лучше будет» – «Как в гладкой вульве» – «Точно – ха-ха-ха!» – «Суй! Суй! Суй еще одну!» – «Вижу, парни точно говорят: ««Хорошо смажешь – хорошо вдвинешь!»» – «Схвати себя за задницу и пощупай – там она еще или нет».
Хороший совет! Мне бы тоже не мешало ущипнуть себя за задницу – и на несколько минут ощутить, что я еще ЖИВУ.
Иногда со мной происходит так, что несколько часов чувствую себя не в своей тарелке. Как, например, сейчас в этом Бункере. В такие моменты я воспринимаю мир как сквозь пелену тумана или сквозь матовое стекло не очень чистого объектива фотоаппарата.
Но всегда ли может помочь щипок за задницу?
Бывают дни, когда все кажется словно удаленным от меня. И тогда меня охватывают неясные предчувствия, как во сне: Я словно облако – то забираюсь, то опускаюсь в НИКУДА.
Иногда ночами не могу уснуть долгими часами, и что-то обдумываю и над чем-то размышляю, потому что во мне беспрерывно крутятся разные виденные картины: неясные, расплывчатые, туманные. Хорошо проэкспонированные, и в то же время блекло-белые, молочно-туманные….
– Народ с 1-ой флотилии переезжает, – объявляет Старик в столовой. – Куда это? – интересуется оберштабсдоктор. – В Бункер – Ангар, построенный Организацией Тодта! – отвечает Старик, – Морское училище полностью разбомблено. Во время последнего воздушного налета у них было много убитых.
– Могу лишь удивиться, что у нас ничего подобного не произошло, – произносит Доктор.
Ради Бога! Не сглазить бы! Мелькает мысль. Так: тьфу-тьфу-тьфу и трижды сплюнуть!
– А почему они не перебираются в штольни за Бункером подлодок? – спрашиваю громко.
– Они уже заняты. Их разделили между собой Комендант крепости и Морской комендант. Есть еще три штольни, но одна из них хранилище припасов.
Мне приятно, что Старик охотно отвечает, и продолжаю поддерживать разговор:
– Комендант крепости – Морской комендант: как можно вообще разделить компетенцию в чем-то?
– Согласно приказу, такие опорные точки флотилии как оборонительные позиции, должны находиться в распоряжении и быть подконтрольными БКОО т.е. Брестскому Командованию Объединенной Обороны.
– Это еще что за зверь – Брестское Командование Объединенной Обороны?
– Я же и пытаюсь тебе это объяснить, – терпеливо говорит Старик, – Это значит, что мы находимся в прямом подчинении у Морского коменданта – точно так же, как и военно-морские артиллерийские части. Общее же руководство осуществляет контр-адмирал Келер – он отвечает за оборону побережья.
– Адмирал отвечает за оборону суши?! – восклицает Доктор.
– Так точно. В данный момент это так.
– Но защита побережья – это же смешно! – рубит с плеча Доктор, – Как это будет выглядеть: Защита побережья? Ведь стоит союзникам высадиться по всей линии берега, и на ЭТОМ побережье их не разглядишь!
– Вот этот-то человек точно не застрелится! – восклицает Старик, – У него для этого слишком высокое звание. Комендант крепости – всего лишь полковник. Полковник фон Мозель. А Главный управляющий верфью – вице-адмирал Ширмер…. Ну вот теперь вы знаете все!
Чуть привстав со своего кресла, Доктор изображает полупоклон и низким голосом говорит:
– Покорнейше благодарим за столь ясное изложение.
– А ведь еще есть и Капитан порта? – интересуюсь вслух.
– Да. К сожалению. Он – капитан первого ранга, – отвечает Старик, прихлебывая из ложки. Он пытается говорить ровно и тихо. Но когда после обеда выходим во двор, у него вырывается:
– Все, кажется, еще больше запуталось. Мы вообще точно не знаем, где находимся. Объединенная Оборона – это всего лишь еще одна дурь. Здесь это видно каждому, даже самому последнему прощелыге!
Обер-лейтенант Хорстманн хотел бы, так написано в записке, найденной мною в моей комнате, встретиться в городской столовой – сразу после обеда, то есть сейчас.
Что это значит? Почему он мне этого лично не сказал? Зачем это письмецо? Это необычно. На меня этот листок произвел впечатление повестки в суд.
Что может хотеть от меня Хорстманн? И что это за городская столовая? Может быть, он понимает под этим названием когда-то управляемую французами гостиницу Морского коменданта? Давненько я там не был.
«Дом моряка», возведенный администрацией округа, в качестве офицерского казино в центре города на Променадеплац, довольно не привлекателен и скорее похож на сельский клуб с читальным залом и библиотекой. Едва ли он думал о нем.
Что же делать? На долгие размышления времени нет. Ладно, пистолет – в кобуру и вперед в эту чертову столовую.
Хорстманн сидит в углу за кружкой пива. Кроме него никого больше нет.
Едва успеваю заказать выпить, как Хорстманн безо всяких предисловий переходит к делу:
– Вы спрашивали вашего шефа об этом подозрительном приказе Деница – «Участие подлодок в наступлении фронта»?
– Нет, а с чего это вдруг?!
– Вот. Я тут переписал наиболее значимые части дословно. Читайте!
Читаю: «Успешная высадка англо-американских войск означала бы дальнейшую потерю для нашей военной экономики жизненно необходимых районов, и серьезную угрозу нашим важнейшим промышленным районам, без которых станет невозможным дальнейшее ведение войны.
Каждому командиру должно быть ясно, что от него сейчас, более чем в любое другое время зависит будущее нашего немецкого народа, и я требую от каждого командира, чтобы он, безо всяких оглядок на иные меры предосторожности, в своем сердце и разуме имел одну цель и задачу: Напал – Торпедный удар – Ушел под воду!» Подпись: Дениц.
На втором листе продолжаю читать: «Беспощадное участие в боевых действиях значит: Каждое вражеское транспортное средство, которое используется для высадки, даже если оно несет на себе около полусотни солдат или всего один танк, является целью требующей вступления в бой всей боевой мощи подлодки. И этому правилу необходимо следовать даже под угрозой потери собственной подлодки. А коль удастся напасть на вражеский флот высадки десанта, не считаться с опасностью движения по мелкой воде или возможным минным заграждением без всяких сомнений и колебаний!
Каждый солдат и каждый вид оружия врага, которые будут уничтожены до их высадки на берег, снижают виды противника на успех высадки.
Та подлодка, которая нанесет противнику при его высадке потери, выполнит свое предназначение и полностью оправдает свое существование, даже если погибнет при этом».
Не отрываю взгляда от бумаги, а слова словно застряли в горле.
– Вот такая ерунда! – словно издалека слышу слова Хорстманна.
Когда, наконец, отрываю взгляд от листков, Хорстманн поспешно спрашивает:
– Вы ничего не заметили?
И поскольку я молчу, продолжает:
– Этот приказ типичный: составлен неясно! И это умышленно. Его интерпретация остается на совести каждого командира. Напасть на одинокий десантный понтон, который везет на себе один танк, не считаясь с потерей подлодки…. Такой понтон имеет всего полметра осадки, не больше. Следует ли мне в таком случае пальнуть по нему торпедой? А может, следует железобетонный понтон с танком на нем, атаковать из пожарного брандспойта? «Полное участие, не считаясь с потерями» – это называется таранный удар! Камикадзе. Вот так! На одном из совещаний, один командир напрямую спросил Комфлота подлодок, как Дениц все это видит в реальности, и получил краткий ответ: «Таран смертника»!
С чего Хорстманн все это мне вываливает? Что он не договаривает?
Едва успеваю открыть рот, что прямо спросить его об этом, он словно услышав мой вопрос, говорит:
– Вы должны написать обо всей этой чепухе и сумасбродстве! Но когда будете писать – вы обязаны написать обо всем, что здесь происходит ПРАВИЛЬНО! Иначе, чем все сегодня вообще есть. Вы должны написать все, что здесь В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ происходит! Иначе, эти мошенники опять все скроют. У НАС нет больше шансов написать и описать все это. Мы еще прорвемся! А здесь все пока tabula rasa. Но может быть, ВАМ более повезет!
Я растерялся. Что я должен ответить? Как я должен успокоить этого охваченного fa;on человека?
Хорстманн должно быть заметил, как воровато я оглядываюсь вокруг. Но это его не останавливает. Наоборот – он продолжает еще громче:
– Можете мне полностью доверять. Поймите, они не успокоятся, даже если мы все потонем к чертовой матери! У нас нет никакого сопротивления их сумасбродству и безумию! Как далеко мы все зашли: продолжаем – в слепой ярости, беспощадно, бестолково и бессмысленно – просто продолжаем! И скоро ВСЕ пойдет к черту, абсолютно ВСЕ! Это самоуничтожение безо всяких шансов на выживание!
Во мне эхом звучит: «слепая ярость». Откуда он взял эту «слепую ярость»? смотрю в стену напротив, а в памяти лихорадочно ищу текст, где встречается это словосочетание «слепая ярость». И вдруг, словно молния блеснула в мозгу:
«Haut blindw;tend in Scherben
Sch;del und Flaschen jetzt wie ein Eber im Sterben noch einmal die Hauer wetzt… Tertschka, des Felgherrn Schwager Illo und Kinsky dazu Ihre Heimat das Lager Und die Schlacht Ihre Ruh…» Положение довольно гнусное: со стороны посмотреть, мы сидим здесь словно заговорщики. «Твое счастье, что ты никогда не был заговорщиком!» – звучат в ушах слова Старика. И вот то, что сейчас здесь происходит и есть заговор!
В голове вихрь мыслей: Почему мне ничего не известно об этом приказе? То, что написал Хорстманн, звучит довольно убедительно: Забота о корабле и его экипаже – так это всегда называлось – для моряка всегда на первом месте! И это есть его высшая заповедь. А тут этот приказ! И даже Комфлота подлодок не возразил, а еще более прибавил!
– Эта партия давно уже разыгрывается! – хрипло произносит Хорстманн, но, уже не глядя на меня, – На таком мелководье нас запросто раздолбят в пух и прах.
Рубящим движением руки он как бы подчеркивает свои слова. Когда же на миг перестает размахивать руками, я вдруг замечаю, как сильно они дрожат у него. Он спекся – просто выдохся. Это не игра. Однако следует оставаться настороже.
На секунду мне становится стыдно: человеку в таком состоянии все по барабану. Он больше не рассуждает и ничего не взвешивает.
Хотел бы я помочь Хорстманну, но как? Согласиться с ним? Утешить его? Господь всемогущий – что же делать?! единственное, что я могу точно – это сидеть здесь и слушать его. В следующий миг Хорстманн вновь начинает:
– Последний раз мы добрались до базы просто чудом. Такие чудеса дважды не повторяются. Наш последний приказ тоже был приказом на самоубийство. На полной скорости, в надводном положении нам было предписано двигаться к южному побережью Англии. При этом все небо было черно от самолетов, а эсминцы врага были почти у порта базирования.
В этот миг с Хорстманном происходит нечто странное: он резко замолкает и пялится в пустоту. Так проходит несколько минут, пока вновь не раздается его хриплый голос:
– У меня нет больше сил терпеть все это! По крайней мере, никого из товарищей по моей crew уже не осталось….
И тут до меня доходит: Хорстманн имеет в виду то, что быть еще живым, в то время как многие наши товарищи сгинули в пучине моря – это доставляет ему боль и стыд.
– Через три дня я снова ухожу в поход, – резко говорит Хорстманн.
– А ваша подлодка уже готова? – не верю его словам.
– Так себе. Вам же теперь все известно, – заключает он грустно.
Вечером пытаюсь выведать у Старика все о приказе Деница.
– Ты мне о нем не говорил.
– Тебе не все следует знать! – коротко отвечает Старик.
У меня замирает дыхание. Нам не надо так разговаривать друг с другом.
Помолчав, Старик добавляет:
– Это еще больше подлило бы масла в огонь….
В этот миг появляется зампотылу, и я тихо ухожу.
Валяюсь без сна на койке: из головы все не идет приказ Деница.
Если боевой приказ ясно означает призыв к смерти, если с таким приказом у исполнителя не остается шансов выжить, если такая смерть становится ОБЯЗАННОСТЬЮ – даже военной – является ли тот, кто отдал такой приказ убийцей?
Танк следует уничтожать из гранатомета силами одного солдата, но никак не целой подлодкой! Для подлодки целью является корабль-транспорт, нагруженный сотнями танков на пути от США до Western Approaches.
Ведь так можно договориться, что артиллеристы должны получить такой приказ, где будет сказано, что вместо того чтобы вести огонь по противнику боевыми снарядами, следует стрелять лишь картузными зарядами. Атаковать подлодками десантные понтоны – это же курам на смех! Такие приказы не могут быть ничем иным как прямым предписанием к самоубийству!
Должно же быть различие между «разумным» риском и безумным приказом! Но может ли все, что касается в целом безумия, быть по-военному «разумным» приказом? Можно ли «оставаться моральным» в подобной ситуации, сотворенной группой безумных преступников?
А где проходит граница между боевым приказом и обыкновенным убийством? И есть ли таковая вообще? Разве тот, кто в своем полном безумии такие приказы выполняет, не является затем воплощением славы и почитания? И разве подобные кровопийцы не почитаются потом как герои? Возьмите наши учебники истории – чем иным они являются как не сборниками прославления массовых убийц? А как обстоят дела с мудростью штабных офицеров? Разве Старик не мудр? Так или иначе? А я сам – разве я сам не такой? Я ношу военную форму, не бунтую, ни к чему не призываю…. Ну, так как?!
Единственным моим оправданием является лишь мое желание прорваться. Я хочу пережить весь этот кошмар и выжить.
За завтраком Старика нигде не видно. Позже нахожу его вдалеке, за его обычной проверкой позади здания флотилии.
Что за глупость: он планирует дальнейшее строительство и обустройство флотилии, словно наши оккупационные дела идут как нельзя лучше, и мы остаемся здесь навечно. А на фронте в это время одна подлодка гибнет за другой. Старик дает распоряжения солдатам, работающим над маскировкой бассейна для лодок, а затем интересуется, не пройду ли в его кабинет.
По пути он объясняет:
– Это важно: продолжать делать то, к чему уже привыкли, что успокаивает людей! – и воровато оглядевшись, добавляет, – Тебе не следует так смотреть: я тоже знаю, что у нас больше не будет пышных праздников на воде.
Едва зайдя в кабинет, интересуюсь:
– Поскольку лодки, что были отправлены на фронт, придут сюда снова – если вообще придут, – говорю и пугаюсь своего инквизиторского тона, – то имеет ли тогда все это вообще какой-то смысл?
– Тебе не следует ломать голову над планами командования! Все не так просто, как тебе кажется. Война подлодок не закончится сегодня или завтра.
– Но однажды такое уже было? – спрашиваю несмело.
– Да. И было почти в открытую. Это было во время компании в Центральной Атлантике, и ее прекращение было лишь временным явлением.
Старик загнал меня в угол своей болтологией. А он еще добавляет:
– Постарайся понять: мы отсюда не можем видеть всю обстановку на фронте.
Голос его уже не басит раздраженными интонациями, и даже в фигуре что-то изменилось. Теперь он выглядит скорее подавленным, чем возмущенным.
Откашлявшись, Старик коротко бросает:
– Время терпит… Rien ne va plus …
Передернув плечами, добавляет: «Вот так-то» и грузно глубоко вдавливается в свое глубокое кресло.
Скольжу взглядом мимо Старика в панораму бухты. Погода стоит прекрасная, а значит, скоро заявятся самолеты.
Вид аэростатов заграждения раздражает: они выглядят отвратительно – напоминают то толстые, безобразные пенисы, то разожравшихся гигантских серых гусениц.
– Без полного задействия Люфтваффе нам предстоят трудные дни, – начинает Старик вновь, – И в первую очередь здесь, в Нормандии…, – и едва слышно добавляет, – Дьявольщина!
Вдруг кресло Старика издает визгливый скрип, и он резко хватается за край стола:
– Представь, мы теряем на фронте в Нормандии более 300 человек в день! – Старик говорит странно глухим голосом.
Цифры точные. Но, скорее всего, Старик получил их не из сводок Вермахта. А я не могу сейчас спросить его об источнике этих данных. Старик продолжает:
– Нам не хватает артиллерийских боезапасов. Не хватает и бензина. Добавь сюда практическое отсутствие снабжения из-за очевидного превосходства противника в воздухе.
– Но без боеприпасов и бензина…
– Да. Все это долго не продлится, – перебивает меня Старик и снова умолкает, погрузившись в размышления. Пауза длится, пока он ровным, как и раньше, глухим голосом не продолжает:
– Все это довольно странно: вновь встречаются старые противники…
Поскольку я при этих словах недоуменно смотрю на него, он поясняет:
– Роммель и Монтгомери. Они знают друг друга с Африки.
– Я об этом и не подумал…
– Земля круглая и вертится…
Погружаюсь в мысли о фронте Вторжения. Затем говорю:
– Никогда ранее не видел настолько плотно укатанного снарядами города как Caen.
– Корабельные орудия! – ворчит Старик, – Тяжелые «чемоданы», диаметром до 45 сантиметров, летят по воздуху.
– Полагаю, что никто не смог заранее предупредить и эвакуировать население города, – рассуждаю вслух, – Это выдало бы планы Вторжения противника. А потому и раздолбали весь это город.… Как говорится: законы войны!
– Да уж! – бормочет Старик. И опять своим странно– глухим голосом произносит: – А теперь представь-ка себе, что мог бы сделать настоящий подводный флот с современными подлодками вблизи побережья на мелководье! Ну не тремя же подлодками атаковать противника!
– Тремя подлодками?
– Так точно! Когда началась вся эта заваруха, мы не смогли выбить ничего, кроме трех подлодок – всего трех! – голос его звучит резко и язвительно, – Уму непостижимо! Прямо у порога дома выстроились корабли врага с огромным количеством груза и десанта, их было столько, сколько мы еще не видели, а у нас не было ничего, чтобы атаковать этот огромный десантный флот – мы стояли и молчали!
– А разве подлодки не готовились к отражению Вторжения?
Старик долго думает, а затем полушепотом произносит:
– Если бы мы знали, что будет это Вторжение, создали бы группу «Landwirt».
– Какую?
– Ты не ослышался: Ландвирт!
– Придворные писаки командующего подводным флотом поумничали, – говорит Старик с явной иронией в голосе, – Группа Ландвирт должна была состоять из 35 подлодок типа С-VII. У нас в Бресте их было 16. Из этих 16 только 8 имели шноркели. Чтобы достичь цифры в 35 подлодок, надо было сбить в кучу все, что может передвигаться под водой. Даже из Норвегии были вытянуты подлодки – все без шноркелей и с командирами, которые едва от мамкиной сиськи оторвались. Из 13 извещенных подлодок едва ли 7 смогли прийти в район сбора.
Резкий звонок телефона прерывает Старика. Адъютант резким голосом что-то отвечает. Двойные двери прикрыты так плотно, что не понимаю ни слова. Затем снова раздается стук пишущей машинки.
Старик ничего не говорит, даже не поворачивается к двери. Словно его нет. Что-то уж слишком часто он так ведет себя. Иногда, посреди разговора он словно впадает в прострацию. Меня бы не удивило, если бы вместо него за столом вспарила бы серо-белая прозрачная масса.
На этот раз Старик замолчал надолго. Кажется, прошла вечность, пока в нем вновь затеплилась жизнь:
– Судя по всему, Союзники не намерены здесь наступать, – бросает он вдруг, – Если они не обманывают…. Думаю, начнут в Дьепе.
Что ТЕПЕРЬ хочет Старик разыграть передо мной? С чего это он взял Дьеп? И как он попадет туда, если что? Он же не может внезапно развернуться на все 180 градусов! И это совсем не Дьеп! Это полномасштабное ВТОРЖЕНИЕ!
– Дьеп был всего лишь попыткой, внезапным налетом, – произношу с вызовом.
– Но все это звенья одной цепи!
– Попытка того, что готовится теперь. Это вообще нельзя сравнивать. Хочешь, не хочешь, а надо признать: дальше это длиться не может, они скоро двинутся из своих укрепрайонов и тогда мало не покажется!
– Придержи коней! Жди и пей-ка лучше чай, – отвечает Старик.
Он что, хочет вывести меня из себя? Чертов кликуша!
– Шербур уже пал. И это факт. А с ним у Союзников оказался в руках огромный морской порт.
– Мы разнесли его в прах! – бросает Старик.
– Да они его в миг восстановят!
И это правда: теперь они будут наносить удар за ударом! Но с чего бы это я так возмущен, если ясно, что Старик прекрасно знает, что часы идут не останавливаясь – а здесь разыгрывает этакого ханжу?
– А почему бы тебе не смотаться в Логонну? – вдруг говорит он резко, – Было бы лучше, если бы ты уехал. Там бы у тебя было время на мысли и писанину. Никто бы не отвлекал тебя. А то, что ты хочешь узнать от меня, я бы тебе написал, согласен?
Когда немного погодя идем по плацу, Старик говорит:
– На твоем месте, я бы держался подальше от нашего дантиста.
Сказано было легко, но прозвучало натянуто и подавленно.
– Собственно, мне глубоко плевать на него, – добавляет Старик, сделав еще пару шагов, – Он придурок, в некотором смысле. У тебя-то мозги варят несколько по-другому.
С этими словами он останавливается и, посмотрев на часы на левой руке, весело произносит:
– Мне нужно к капитану порта. Увидимся, когда вернешься! – И развернувшись, идет по направлению к ждущей его машине, – Можешь взять с собой чай! – кричит он, хлопая дверцей.
Логонна! Что за благодать в этом слове для меня! Весь замок будет в моем единоличном распоряжении. Только кок Майер будет крутиться на своем камбузе. Думаю, мне удастся избежать его.
Еду и наслаждаюсь открывшимся мирным пейзажем. В ландшафте нет ничего великолепного и импозантного. Словно фотоснимки из салона: на них ни чада, ни дыма, ни затемнений.
Вокруг, куда ни кинь взгляд, море. Если смотреть сверху, все эти фьорды напоминают водяные деревья, где море являет собой питающую их почву. Кажется, толстые стволы делятся на ветви, ветви на ветки, истончающиеся до веточек.
Дома в этой местности едва различимы. Их стены, едва ли более 2-х метров высотой, сложены из того же камня, что и межевые стены на полях, а покрытые мхом крыши, торчат из скрывающей их зелени садов.
Едва устроившись в замке, спускаюсь к ручью и, шлепнувшись на задницу, фотографирую местность, но пока без фотоаппарата – только глазами. И фотоаппарат не смог бы ухватить все что я вижу: движение постоянно меняющегося света. Там, где еще недавно были темно-зеленые тени, уже светится яркая зелень. Сине-зелено-черные пятна высвечиваются над полями, насыпями, деревьями. Одинокие каштановые деревья, едва вылезшие из земли, высвечивают себя темными силуэтами. Противоположный берег, еще пока ярко очерченный светом, становится серым. Этот цвет придает ему мелкий дождик. Виднеющееся пшеничное поле, расцвечено, как драгоценная парча, пока дождик и его не окрашивает в серое. Немного погодя дождик уходит и все становится еще ярче и красивее: серебряные шапки деревьев, золото полей. На палубах рыбацких лодок и кораблей, стоящих на якорях в зоне отлива, играют яркие искры серебряных лучей солнца.
Вот бы пригодилась мне здесь моя складная байдарка! Ринуться в ней до того огромного рейда, изучить бы это множество фьордов….
Это было безумие, эту мою байдарку, на которой я однажды прошел по Дунаю до Черного моря, привезти с собой в Ла Боль. Она и теперь, наверное, там: среди вещей, которые Старик позволил мне привезти из Ла Боля, ее не было.
Внезапно, рядом возникает кок. В руке у него молочный бидон, «для молока», как он поясняет. Посмотрев на меня хитро, кок интересуется:
– Если вам что-то надо, господин лейтенант…
– Благодарю! – обрываю его на полуслове. Ответ мой звучит довольно резко и грубо. Но почему я должен спорить с собой? Что этот Майер здесь вынюхивает? Может, ему нужна машина? Или просто хочет услужить?







