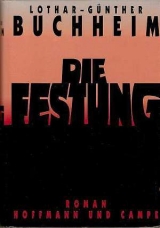
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 111 страниц)
Все это ужасно неприятно: тот, кто здесь и сейчас нормально рассуждает, того и НАДО считать безумным.
Украдкой наблюдаю за нашим капитан-лейтенантом, нашим Стариком. Он являет собой исключение из правил: среди всех этих рож и показухи, он сидит строго и прямо – человек, которому его форма ранее была скорее в тягость, чем желанна.
В самый разгар обеда вдруг завыла сирена воздушной тревоги. В тот же миг снаружи доносятся громыхания, нарастающие с каждым мгновением. Грохот звучит громче обычного: ветер дует с моря.
Точно кладут, проклятые союзнички! Стекла дребезжат: так это еще не бомбы! Это огонь тяжелых зениток. Звук такой, как залпы праздничных салютов на Хемницком велодроме. Мощные звуки пиротехники: Содом и Гоморра! Лучшее приходит под конец: тяжелые удары канонады – волны упругого воздуха просто бьют по телу. В то время мы должны были платить за удовольствие ощутить такие удары, тяжелым трудом заработанные гроши. Сегодня все не так: салют нам устраивают иностранцы, а бонусом всем нам являются бриллианты фейерверка в светлый день.
– Да они так весь город разнесут в щепки!
– В самое яблочко, доктор! Хорошо сказано. Для моряка довольно умное наблюдение!
– Да уж. Сказанул, так сказанул.
– А я бы так не сказал…
– Дурацкое замечание!
Старик сидит неподвижно с каменным лицом.
После обеда ко мне подходит капитан-лейтенант Старый Штайнке. «Как это было в Нормандии?» – интересуется он.
На лице у меня, наверное, появилось неподдельное удивление. Старый Штайнке первый, кто после Старика интересуется этим у меня. «Мы узнали, что значит превосходство в воздухе. Когда в небе столько самолетов, что на земле даже мышь пробежать не может, то тут и говорить не о чем. Хотя все выглядит довольно мрачно».
При этих словах капитан-лейтенант отводит меня в сторону стоящего неподалеку клуба, хотя у меня нет никакого желания идти туда.
Усевшись, старина Штайнке говорит: «Старые лозунги и ужимки утратили свою силу. Сейчас все вертится вокруг свинца, меди, никеля – вокруг промышленного потенциала».
Удивленно молчу: это довольно смелые и рискованные слова. Но должен ли я из-за этого пересматривать свое отношение к магазину флотилии? Судя по всему, Старина Штайнке не вписывается в схему самоуспокоения и ликования.
Косясь то вправо, то влево, он вполголоса продолжает: «Мне нужны только шноркели. Без шноркелей подлодка всего лишь куча железа. Конец и выпивкам и иллюзиям…».
Не испытываю никакого желания ждать, когда Старик вновь вернется к затронутой теме о Симоне и СД. Лучше бы я работал, хоть в порту или бункере, хоть на берегу. Надо вырваться из адова круга флотилии!
Старик, выслушав мою просьбу, бормочет: «Тебе придется тащиться черт те куда!», но выделяет и машину и водителя.
Спустя полчаса уже сижу на корточках на твердом, сбитым в корку, грязном песке. Море отсюда кажется зелено-голубой полоской, не шире толщины большого пальца. До моря тянется песчаная коса с накатывающейся на него рябью покрытых белой пеной волн. Когда вода откатывает назад, становится виден темный от влаги песок. И над всем этим гигантский купол неба.
Море едва дышит. Дыхание его ровное и спокойное. Ставлю одну ногу на влажный песок, а другую по щиколотку в воду и смотрю по линии прибоя: извивающаяся как змея линия белой пены тянется от меня вдаль и эта линия имеет мистический смысл: линия раздела между твердым и жидким. Никакой надуманной линии типа градуса широты и долготы, никаких меридианов, никакого экватора – а отчетливо видимая линия водораздела – линия раздела двух древнейших элементов: Воды и Суши.
Сидя так, с высокозадранными коленями на теплом песке, опершись спиной на кусок занесенной песком скалы, размышляю: а ведь не только этот вид меня привлек, даже заворожил. В принципе, в этот тихий день рассматривать больше нечего: ровный горизонт моря, кобальтовое небо с парой облаков над синевато-стальным морем. Почти никаких цветовых контрастов, слабые переходы тонов…. Но в этом есть и что-то особенное: волшебное воздействие всего увиденного и происходит оно не из форм или цветовой гаммы….
Если бы мне раньше кто-либо сказал, что вода может шелестеть и шептать, волочиться и скребстись – я бы расхохотался тому в лицо. Шипеть, греметь, журчать – да! Глухо громыхать – да! Издавать вздохи и бульканье, тоже присуще морю, но здесь и сейчас я слышу эти чудесные шепоты и перешептывания – такого раньше никогда не слышал: они возникают от сотен тысяч крохотных пузырьков, что возникают во влажном песке, когда языки воды быстро накатывают и вновь отступают и так бесконечно.
Испуганно вздрагиваю от донесшегося со стороны моря взрыва. До рези в глазах вглядываюсь в голубую даль, но ничего не видно. Скорее всего, далеко на юге тральщики нашли еще одну чертову петарду.
Надо было бы запретить ведение минной войны! Мины не относятся к честному единоборству, но лишь придают войне коварный, подлый характер. Но тогда следует объявить вне закона и участие в войне подводных лодок. Тайно установленные мины или выпущенные исподтишка торпеды – не очень-то большая разница.
«Изломанная жизнь», я бы так назвал свою книгу, и название это несло бы двойной смысл: Разве можно представить мою жизнь по-другому?
Большой, красного кирпича дом, что мы снимали, был вполне в феодальном стиле, но до самой крыши покрыт ипотекой. Конец финансов означал и конец семье. До полного краха оставалась пара деньков, но скрытый раздор был адом.
Словно наяву вижу, как моя мать убегает перед приходом полиции через туалетное окно. Бабушка что-то придумала и что-то соврала полицейским, с тем, чтобы мать успела скрыться. Целую неделю она скрывалась где-то, и это буквально свело меня с ума. Мне было тогда всего 14 лет.
При всем при том, мне всегда доставалось от матери. Еще и сейчас помню охватившие меня чувства, когда она представляла меня директору какого-то банка, жившего на свое несчастье через дорогу от нас, и которого мать горячо уверяла, что ему необходимо просмотреть папку с нотами этого вундеркинда – которым был я – чтобы потом, конечно же, совершить сделку и сократить наши расходы.
Помню что в ту минуту хотел провалиться сквозь землю. Но как же часто бывало еще хуже! Вижу себя истерично плачущим в подушку, после того, как мама, как нарочно, позвонила в дверь моему школьному товарищу, чтобы предложить «дамские духи» и тем самым заработать так нужные нам деньги. Она попалась на удочку одному прохиндею-оптовику, наобещавшего ей золотые горы в этом бизнесе.
Ясно помню того оптовика: у него была лысина, что биллиардный шар. Никто не хотел приобретать его духи. Они были очень дорогие и представляли собой всего лишь резиновый баллончик с каким-то черным содержимым.
Воспоминания нахлынули на меня и услужливо поставляют одну картину за другой: Вот пышный букет роз на стене нашей спальни, мамин портрет в «Салоне» – в полный рост и в тяжелой золоченой раме; а вот мамино падение в Эльбу: как быстро отнесло ее от берега, потому что была полая высокая вода, и я, пацаненок, бегаю по покрытому брусчаткой берегу и кричу, кричу, кричу! А вот грозовой шквал, когда мы были в лесу, направляясь к Эльзе Брандштрем, жившей в то время в каком-то саксонском замке. Вот стропальщики, что прямо перед нашим домом закопали сбитую машиной овчарку… Картины памяти мелькают, как в кино….
Здесь, на мысе Saint-Mathieu, я уже рисовал раньше: спокойное море, штормовое море. Для этого мне пришлось долго лежать на животе, поскольку иначе нельзя было удержать мольберт. В лицо били соленые брызги, а в ушах стоял рев бурунов и иногда я был полностью покрыт летящим роем белых соленых брызг.
Беру голыш, отполированный морем словно кегля, подношу ко рту и касаюсь языком: соленый! Здесь все пропитано солью. Море, огромная солонка, отдало свой соленый привкус траве и камням.
Даже воздух здесь соленый. Делаю глубокий вдох. Легкие работаю как кузнечные мехи. Физически чувствую, как кровь обогащается кислородом. Если бы я только мог сорвать с себя эту проклятую форму! Более всего хотел бы сейчас напялить свою выцветшую голубую рубаху, костюм-тройку из овечьей шерсти, на ноги сабо, на голову берет свиной кожи.
Мне кажется, что я один Вов сем свете. Дома отсюда не видны. Неподалеку стоят несколько домов, но они скрыты в тысяче метров за скалистой грядой.
Совершенно не видны и ангары для подлодок. Здесь, у меня, царит лишь Великий гранитный беспредел. Все остальное сожрал соленый ветер. Особенно быстро он пожирает дерево. Хотя не брезгует и железом.
Так, сидя у серого, огромного каменного исполина похожего на уснувшего слона, вдруг возвращаюсь мыслями к Симоне. Едва могу представить себе это Carpe-diem жизнью. Если бы она только придерживалась нашего негласного уговора: жить каждое мгновение с закрытыми глазами. Но нет: Симона постоянно твердила: «Apr;s la guerre…». Как будто у нас могло бы появиться время после этой войны….
Если бы я только знал, куда они запрятали Симону! Старик наверняка знает больше, чем говорит. Славненько было бы приставить к его башке пистолет и заставить проболтаться….
Вода освободила большое нагромождение прибрежных камней. Но здесь, где я рисую, невидно песка, а лишь скопище изъеденных морем подводных камней, похожих больше на сточенные зубы древних чудовищ.
Однажды я где-то прочел, что море не имеет памяти. Мол, море забывает все сразу – еще не исчезнув в дымке. Так писалось в противовес памяти земной тверди. Но и рассуждения о том, что суша имеет память, тоже не более чем иллюзия, которой мы сами себя поддерживаем и доказательством постоянно являем наши оценки вечных архитектурных шедевров. А правда в том, что до полного растворения в вечности на суше проходит намного больше времени, чем в водах моря.
Все сильнее и выше брызги воды. Ясно слышны резкие шипящие звуки, словно капли попадают на раскаленное железо: начинается прилив. Вода бьется о бастион рифов. Пора сворачиваться.
Как на U-96 Первый вахтофицер, так сейчас здесь адъютант читает за ужином изречения из отрывного календаря, «для всеобщего сведения», как это действо называет Старик. И, как и раньше, он комментирует эти изречения.
«Досрочно освобожденный редко раскаивается», читает адъютант. «Как это, адъютант?» интересуется Старик и это звучит язвительно.
Адъютант становится пунцовым и замолкает.
«Ну, давай дальше!», приказывает Старик и адъютант читает упавшим голосом следующий листок: «Трудолюбие – вот вечная лотерея!» – «Это вполне относится к инженеру флотилии» – гремит Старик.
Не перестаю удивляться: Старик, такой брюзга, а ведет себя как ребенок. Адъютант кисло улыбается, остальные же робко хмыкают, словно не знают о чем идет речь. И лишь Старый Штайнке сотрясается от смеха над грошовыми премудростями нашего командира.
За едой старший врач флотилии делится своей тревогой по поводу венерических заболеваний членов команд подлодок: «На лодках, пришедших за последнее время во флотилию, я обнаружил случаи гонореи. По-видимому, у нас есть люди, которые уклонились от лечения – это мне совсем не понятно. Раздаются голоса: ««Господа, инфекция блокирована»» – это от страха, что может возникнуть ненужная злость по поводу того, что многие матросы могут быть направлены в лазарет. Имеются и такие командиры, которые делают все, чтобы батальон не прошел обследование в лазарете: ««Я, понимаешь, сам такое пережил, так что не уступаю этому санитарному фельдфебелю», – продолжает врач флотилии, повысив голос, – А потом становится еще круче. Братва демонстрирует свои члены, но как им теперь поможешь, когда у них уже вместо яиц – яичница?»
Демонстрируют члены! Мне тоже частенько приходилось бывать в такой очереди. И до сих пор в ушах звенит: «Показывай свою вонючую «маслобойку!» Так, а теперь оттяни крайнюю плоть!»
Однажды, у стоявшего рядом со мной товарища в такой момент случилась эрекция. Фельдфебель-санитар увидал такое впервые, а потому громко заорал: «Это кто тут приказал вздыбиться?» и как ужаленный начал орать на бедолагу. Тот стоял пунцово-красный и сжимал в руке свою вздыбленную «маслобойку». Все кто был там, буквально падали от смеха!
Наш врач и меня мог бы так же представить, в конце концов.… С такими воспоминаниями можно и подавиться….
Демонстративно откладываю нож и вилку и делаю такую мину, которая должна выражать разочарование. Для старшего врача флотилии это, судя по всему, послужило сигналом продолжать в том же духе. И он начал рассказывать о двух новых случаях сифилиса, и пока я рассматриваю потолок и считаю лампы в люстре, он вдохновенно рассказывает о твердом и мягком шанкре так, словно о яйцах сваренных вкрутую и всмятку.
«В целом, господа командиры, я хотел сказать лишь одно: такое заболевание у бойца должно быть расценено как умышленное нанесение себе увечья, – продолжает врач, – Прошу обратить на это самое серьезное внимание!»
К счастью терпение Старика иссякло. «Довольно интересно и поучительно, – ворчит он в сторону обер-штабсдоктора, – Особенно для молодых господ офицеров. Но полагаю, ваша лекция достигла своей цели. Так скажем». Старик смолкает на миг, а потом громко объявляет: «Через час прошу всех собраться здесь! Приятного аппетита, господа!»
Мне известно, почему Старик реагирует так резко: два унтер-офицера с лодки Мауэрсбергера должно быть умышленно заразились этой заразой. Один триппером, а другой сифилисом.
Меня так и подмывает спросить наконец-то Старика, какой черт подбил его взять Симону во флотилию. Однако у Старика есть уже выработанная шкала отношений со мной: он сидит неподвижно и даже веки прикрыты. Кажется, что он дремлет…. Чтобы обратить на себя внимание беру бутылку, наливаю себе и Старику пиво, создавая при этом как можно больше шума, и поскольку пара бутылок уже стоят пустые, с шумом двигаю кресло и привстав, поскольку буфетчик не смотрит в мою сторону, прошу принести еще пару бутылок. Не стесняясь, будто заправский официант, беру у буфетчика левой рукой два полных бокала пива и ставлю их на стол.
Но вдруг останавливаю себя: все это воротит меня с души! Именно то, что мы не можем поговорить непринужденно. У Старика какая-то собачья привычка держать меня на расстоянии. Зараза: Старик – большой начальник! ОН должен говорить, а не я!
Раньше различие в званиях и должностях не было для нас преградой. Сегодня для меня тоже ничего не значит то, что Старик является корветтен-капитэном, однако его сегодняшнее служебное положение, его должность командира флотилии, создает, при трезвом рассмотрении, явную дистанцию между нами.
Несмотря на открытие кегельбана, клуб заполняется. Поскольку Старик все так же молчит, прислушиваюсь к шуму за соседним столиком. Вебер подсчитывает, что и сколько потопили другие, в то время как он болтался, словно собачий хвост и не встретил даже парома. Затем речь заходит о том, что, несмотря на плохие времена, приходящие подлодки надо встречать, как и прежде: «Вспомните, как раньше все это было обставлено!» – «Точно! С девушками и цветами» – «Где, черт возьми, взять этих девушек? Может украсть?» – «Конечно, хорошо бы сначала получить рапорт о прибытии. Тогда можно было бы установить какой-либо порядок встреч» – «Я тоже так думаю. Но обижаться не стоит, если не все пройдет как по маслу…» – «Я бы в таком случае – если бы все зависело от меня – сказал: Дитя мое – раз и в тишине» – «Да, раз-два – и в дамках! Ха-ха-ха!» – «Куча цветов и при этом соответствующий рапорт. Надо смотреть в оба, чтобы не поскользнуться…» – «На цветах, что-ли?»
Зампотылу хватает воздух как выброшенная на берег рыба, а затем выпаливает: «Если последует команда ««Равнение направо!»», а там, справа, будет стоять смазливая медсестричка, и все выпучатся на нее.… А с другой стороны будет другая девушка…» – «Дорогой ЗПТ, во-первых, команда звучит так: ««Равнение направо – равнение налево!»» Если вот так приказать, то мои парни знают, что делать. Вам следовало бы лучше знать такие команды еще с младых ногтей!» – «Так точно! Сначала рапорт – а потом девушки!» – не унимается Вебер.
И что только меня подвигло слушать весь этот треп? Конечно, вся компания хорошо выпила, но поднятый ею шум и гам вызывает у меня лишь сострадание. А вот и продолжение: «Да бросьте вы! Все то слишком красиво и разумно. Не нужно ни от чего отказываться. Вернулся живым на Родину – получил поцелуй и цветы. А для полного счастья еще и шампанское. И шампанское должно быть обязательно!» – «Ну, шампанское само собой! Цветы и шампанское».
Старик сидит неподвижно, будто и не слышит этот галдеж. Я же жадно ловлю каждое слово.
«А поцелуй ты забыл!» – «Значит: поцелуй, цветы, шампанское. Так?» – «Нет, так я не хочу. К чему это распитие алкоголя на пирсе?» – «Что ты несешь? Вечно придираешься!» – «На пирсе не должно быть алкоголя!» – «Шампанское – это алкоголь? Парень, шампанское – это не алкоголь!» – «Нет, раньше, раньше. Я вот как-то пришел с бутылкой шампанского и моргал и кивал…. Ну все в курсе этого. Потом поднялся на борт. Усы подкрутил, кожанку напялил, и обращаюсь к командиру: «Медвежонок, поскольку ты потопил один корабль, я и принес тебе одну бутылку шампанского». А тот мне и отвечает: «Тогда я лучше снова уйду в Брест».
Тут поднялся такой гвалт, что я различаю лишь отдельные обрывки фраз: «… получил Рыцарский крест. А потом завился бургомистр Пустобрехшкин со своей мадам» – «На награждение Дубовыми Листьями всегда прибывает обер-бургомистр. Такова традиция» – «А ты? Что ты хочешь? Что тебе принести? Шампанское? Коньяк?» – «Ничего. Вообще ничего. У меня на борту все есть».
Внезапно Вебер орет: «Вперед парни! Пора! Еще по кружке на посошок. Ну, вздрогнули. На посошок!»
Лежу на кровати и ловлю убегающий сон, а меня вновь охватывают сомнения по поводу Симоны: не задумала ли она уже давно, исподволь добраться до сведений, представлявших огромную ценность для противника? И был ли Я в ее раскладе лишь нижней ступенькой всей пирамиды? Достигла ли она, будучи в особой милости у Старика и попав во флотилию, этой своей цели? Стремилась ли она к этому с самого начала?
Виновником моего пробуждения стало небо: что за пронзительная синева! Какое-то окно вдали светит, словно прекрасный карбункул; толстые баллоны заграждения извиваются в небесной синеве, напоминая гигантских червей: при такой погоде это совсем не лишняя предосторожность! В этот момент до меня долетает некое подобие шмелиного гудения. Но это всего лишь самолет-разведчик. Эти разведчики очень наглые, поскольку знают, что летают вне досягаемости наших зениток. А истребителей, которые могли бы их сбить, нигде не видно. Соображаю, что лучше: остаться здесь, во флотилии или поехать в бункер. В случае, если все это воздушное свинство начнется тогда, когда я буду в пути, придется сыграть в героя. А мне как-то не очень этого хочется. Но если быстренько собраться и наплевать на завтрак, то есть шанс добраться вовремя до бункера. Все лучше быть в порту или в бункере, чем торчать здесь – а потому – в путь!
Упаковав мольберт, забираюсь в омнибус. Сажусь сразу за водителем. За спиной – громкие сердитые голоса: «Хрен его знает, на кой черт все эти мешки!» – «Флотилия – это тебе не груда орденов и нашивок…»
Проходит минута, и человек с сердитым голосом снова выдает: «В моей прежней флотилии был у нас командиром флотилии один святоша-проповедник. Так он считал, что все подлодки, это всего лишь один большой детский сад, и при всем при том, получил все то свинство, что и я имею от наших моряков – честное слово!»
Снова пауза. И вновь тот же голос: «А ведь я раньше был приличным пареньком!»
Его сосед громко бормочет: «Все мы когда-то такими же были!»
Из-за галдежа, часть разговора от меня ускользает. Но вот опять сквозь шум доносится: «Да он никогда не видел приличного борделя! Ладно, это его дело. Лишь бы других людей не трогал. И вообще, зачем он в это других-то впутал?» – «Может, он был голубым?» – «Вполне возможно. При атаке под перископ он рыдал» – «И, тем не менее, стал командиром флотилии?» – «Только звался им! Как командир, он был полный профан!»
Молчание. «Черт его знает, как так получается, что командирами становятся, чуть ли не курсанты! Да еще с причудами. Но у нас все равно все идет своим ходом. Лучшая защита – гондон! Мне не было еще и 18 лет, когда это называлось «На получение гондонов – смирно!»
– и каждому по 3 штуки, и плевать на то, что ты с ними будешь делать. Перед каждым сходом на берег одна и та же сцена: «Получить гондоны!»»
Опять молчание. Едем по дороге ведущей на запад, и тут гвалт вспыхивает с новой силой: «Теперь и Старик может оттянуться» – «Что ты имеешь ввиду?» – «Ну, сам посуди: француженки-то нет!» – «Это хорошо» – «А где она?» – «Арестована!» – «Арестована?» – «А ты что не знал?» – «Не-а. А за что?» – «А черт его знает. Вроде как за шпионаж…»
Вот это да! Лучше бы я этого не слышал! Выходя из автобуса чувствую себя так, словно меня огрели по голове чем-то тяжелым. Каждый шаг дается с трудом. Присаживаюсь на обтесанные бревна и кладу мольберт на колени.
Неужели действительной причиной ареста Симоны был шпионаж? А что если весь этот проклятый разговор был всего лишь обычным трепом? А если Симона просто помогала обживать этот пустой, холодный морской госпиталь безо всяких планов и хитрых мыслей? Господи! Ну, в чем я подозреваю Симону? Словно в тумане, закрывшем мне глаза, вижу ее вновь в этом лимонно-желтом свитере, как она снимала его медленно-медленно, и также медленно эта лимонно-желтая ткань скользила вверх по соскам ее грудей. Словно Симона выступала на сцене стриптизбара. И при этом коричневые соски отвердевали, напоминая шоколадные трюфели на упругих загорелых холмах.
Когда Симона хотела свести меня с ума, то она выполняла это просто залихватски: прямо посреди кафе она присаживалась на пару секунд ко мне на колени и при этом приподнимала свой раскрашенный оранжевыми полосами фартук так быстро и ловко, как это может сделать, присаживаясь, миловидная девушка, чтобы не помять свою одежду. Успевая при этом показать мне, в совершенной близости от своей матери, что под ним у нее совершенно ничего нет.
– Может, в тебе течет негритянская кровь? – не раз спрашивал я Симону, – В твоей испанской крови определенно есть примесь крови мавров. Одни твои груди чего стоят!
А Симона, как ни в чем не бывало, вытягивалась перед лежащим на боку зеркалом, говоря при этом ясно и громко: «Я такая миленькая!»
На подходе к Бункеру меня, как и всегда, охватывает оторопь при виде этого гигантского сооружения. Эти огромные доки и плавучие гаражи для израненных подлодок построены словно на века. Они не будут ни взорваны, ни оставлены ржаветь. Этими гигантскими горами из стали и бетона мы воздвигли себе такие памятники, которые навряд ли кто-либо когда-нибудь уничтожит.
На верфи Бункера трудится, несмотря на многочисленные воздушные налеты, множество французов. Сейчас перекур и они сидят там и тут на моле из притопленных понтонов и ловят рыбу бамбуковыми удочками в соленых водах порта – гротескное общество черных беретов, которые никак не говорят о военной гавани.
Неужто, задаюсь вопросом, эти вот береты и создают картину мирной жизни? Нет, скорее дополняют картину рабочей одежды. Кстати никто из них не носит рабочих роб. На всех сильно полинялая одежда. Полосатые, клетчатые, двубортные с потертыми лацканами пиджаки, брюки со стрелками и бечевками вместо ремней. Все вместе напоминает сборище бродяг и нищих.
Вот еще двое показались из пасти Бункера, в таких же брюках и пиджаках. Один из них стягивает с себя дырявый свитер. Не хватает лишь удочек. Медленно шлепают до самого края мола, выковыривают пальцами из ширинок брюк свои концы и высокой дугой запускают в воздух фонтанирующие струи. Затем очень тщательно стряхивают с концов последние капли. Один поворачивается и замечает меня, одиноко сидящего на полуразрушенном моле. Однако не показывает ни малейшего смущения. Переминаясь с ноги на ногу, он с трудом упаковывает свой пенис обратно и при этом кричит мне: «Faire pipi!» Затем громко хохочет, словно этими словами осчастливил все человечество.
Когда, пообедав, сидим в кабинете, Старик вдруг заводит разговор о воздушных налетах: «Сам видишь, как у нас тут все закручено» – произносит он так радостно, словно сам все и организовал. «Не могу пожаловаться, что здесь хуже, чем то что я видел в Берлине и Мюнхене, не говоря уж о Гамбурге…» – «Ах да. Конечно. Ты же был в Гамбурге»
Кажется, Старику хочется поговорить: «Вчера, скорее всего, опять были Ланкастеры. Ланкастер может нести супербомбу весом до 9 тонн. Здорово! Такая туша должно быть размером с рекламную тумбу…. А нам совершенно нечем ответить». Гнев Старик меняет на сарказм: «У нас было достаточно аэродромов: Брест-Норд, Landivisiau, Morlaix. Но если бы сегодня сюда прилетели наши немецкие самолеты, их, скорее всего, не узнали бы. Слишком уж это для нас необычно: немецкие самолеты в небе! И наверняка их обстреляли бы наши зенитчики».
Старик с силой отталкивает свое кресло назад от письменного стола и к моему удивлению продолжает: «Союзники применяют в основном четырехмоторные дальние бомбардировщики, Либерейторы или Ланкастеры. Летят на огромной высоте и почти всегда в сопровождении истребителей: Спитфайров. Мало-помалу начинаем разбираться в их типах самолетов. В 1939 году, над Вильгельмсхафеном у них были бомбардировщики типа Веллингтон. Это были настоящие ветряные мельницы».
И так всегда. Стоит завести разговор о технических характеристиках, Старика словно прорывает. Мои познания не позволяют поддерживать тему, и я не знаю, как перевести ее в русло разговора о Симоне. Эта тема – табу. Перевожу разговор на другое: «А что это за чудак у тебя в саду?» – «Ты имеешь в виду Бартля?» – «Ага» – «С ним все в порядке. Бывший солдат кайзера. Перед войной работал на строительстве новой гавани где-то в Южной Америке. В 1 Мировую служил на «Goeben», а до того как попасть ко мне во флотилию – в автовзводе военно-морской части в Роттердаме. Оттуда и привез свои познания голландского черного рынка, а также свое умение готовить «настоящий китайский рис». На должность провиант-мастера мы не могли бы найти лучшего служаки…. Бартль может тебе рассчитать с точностью до марки или пфеннига, что свинина гораздо рентабельнее в пищевом рационе, нежели обычные кролики. Исключение, по его мнению, составляют лишь ангорские кролики. Они его искренняя гордость. Их мясо принадлежит флотилии, а белая шерсть и шкурки – ему. Такие вот у нас с ним дела!»
Зампотылу копается в кипе бумаг, когда я захожу в канцелярию.
– Симпатичные фотографии, правда? – говорит он мне, – Наконец-то нашел.
Он протягивает мне одну: размером 9 на 12, глянцевая, ровный кант. «Господи! – думаю про себя, – ну чего он привязался ко мне с этими своими семейными фотографиями? Mademoi-selle Chamois!» И тут, с полувзгляда, узнаю на фотографии… Симону!
– Где это снято? Где вы сделали этот снимок?
– На северном побережье, в Brignogan.
Еле сдерживаюсь чтобы не выхватить у него остальные фото. Вижу Старика, в сапогах, балансирующего на каком-то плоском камне в воде, с Симоной на руках. Симона смотрит на меня через его плечо взглядом триумфатора.
Не верю глазам: на другом фото на Симоне надета офицерская шинель с погонами. Подушечками пальцев скольжу по снимку, будто желая стереть пыль с него. На самом же деле этими безотчетными движениями я словно хочу запомнить изображение.
Меняю угол обзора: отвожу фото как можно дальше от глаз, затем вновь приближаю ее. Никаких сомнений: это Бокс №2, а человечек в шинели капитана, рядом со Стариком – Симона! Отчетливо виден штандарт командира флотилии. Старик стоит без шинели и без фуражки: он обрядил во все это Симону. Вид у обоих такой, словно они вот-вот лопнут со смеху.
Судя по месту съемки, они то ли на катере портовой охраны, то ли на подобном суденышке. Снимок сделали в тот момент, когда судно с Симоной и Стариком уже окинуло тень нависающего бункера, то есть на выходе из него.
Пока тщательно рассматриваю снимок, меня буравит одна мысль: если этот снимок или его копия – а, скорее всего, снимок сделан Лейкой или Контаксом – попадет в руки СД, тогда всем – спокойной ночи! И как нарочно именно со стариком! Так потерять голову.… Не стоит даже и думать о том, что произойдет, если эта фотография пойдет по рукам.
Пытаюсь скрыть бурю в душе и лихорадочно думаю, что же сказать. Подняв голову, вижу на лице зампотылу дьявольскую усмешку.
– Чудесное фото! – говорю как можно более равнодушно и улыбаюсь в ответ, – Хорошо схвачен момент и светотени. Очень живой снимок. Есть еще такие же?
– К сожалению, нет, – отвечает зампотылу.
Когда возвращаюсь к себе, меня вдруг пронзает мысль: Старик и Симона…. У Старика, наверное, не все дома были, когда он потерял всякую осторожность. Больше ничего не придумаешь! Ведь мы же все-таки не одни на этой планете! Неужели он не соображает, что творится вокруг? Та нелепица, что он мне выдал – совершенная чушь!
При всем при том, кажется, что Старик забыл, что он не просто командир и за ним теперь, следит на пару сотен глаз больше чем прежде. С катушек съехал! Это очевидно.
Симона арестована, Зуркамп – в концлагере. Мои товарищи по классу убиты. Этот молох пришибет всех нас. Чтобы взять себя снова в руки, язвительно говорю себе: «Вот такой получился расклад! Традиционный треугольник: два друга и леди, которая все смешала».
Надо бы поговорить со Стариком!
Еще одна подлодка вернулась: на выдвинутой трубе перископа вьются четыре вымпела. Это лодка Любаха. У Любаха Рыцарский Крест и смешная прическа. Хотя он выглядит исхудавшим, с впалыми щеками, зато, в общем – неплохо. Наверное недавно побрился. О Любахе известно, что он еще ни разу не вернулся из боевого похода небритым. Лишь он, единственный из всех командиров субмарин, сплошь напомажен – с головы до задницы. Он прямо дышит стремлением к элегантности: даже обычную бортовую форму он носит с явным пафосом.
Уже в 1937 году, так же как и Старик, Любах ходил на небольших судах в должности Вахтофицера. Когда же он получил Рыцарский Крест на Ленте, его стали повсюду расхваливать за то, как умело он уклонялся от встречи с преследователями после успешной атаки на врага.
На этот раз Любаху придется всем рассказать о невероятном успехе его чрезвычайно долгого похода: «Просто невероятно для этого времени! Как глоток хорошего вина, а не бормотухи!» – произносит Старик.
Стою среди комитета встречающих и наблюдаю, как экипаж лодки, в поношенных кожаных куртках сходит с лодки. Какая огромная разница между ними и их командиром. Они несут свои скудные пожитки в сумках из парусины или потертой кожи. На многих слишком большие по размеру морские сапоги и такие же кожаные куртки. Кожаные штаны измяты, словно меха гармошки.







