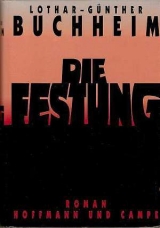
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 111 страниц)
Когда мы снова сидим в машине, я испытывающее смотрю на Старика, уставившегося невидящим взглядом на дорогу и сидящего так прямо за рулем, как будто у него случилась судорога в затылке. И поскольку он ничего не говорит, доктор, сидящий рядом с ним, тоже молчит, да и зампотылу весь погружен в молчание: При этом у обоих языки, наверное, горят от услышанного и увиденного. Поэтому могу беседовать только мысленно сам с собой, представляя что Старик мог бы сказать, если бы два других не сидели с нами в автомобиле... Мы проехали уже около десяти километров, когда, наконец, Старик, кажется, захотел нарушить тягостное молчание: В какой-то момент я вижу в зеркале заднего вида, как он закусывает нижнюю губу. Затем, прямо посреди узкого поворота он говорит:
– У поросенка была такая хрустящая шкурка...
Услышав это, доктор и зампотылу фыркают дуэтом, словно Старик сморозил прикольную шутку. А когда мы проезжаем через ворота флотилии, доктор осмеливается тоже открыть рот:
– Удачный день – country life at its best, – произносит он вполголоса, будто бы разговаривая сам с собой.
Когда я поднимаюсь вместе со Стариком в его студию, останавливаюсь и вдыхаю воздух полной грудью. Меня охватывает нечто вроде ощущения домашнего очага.
– Это было слишком много для сына моей матери, – говорю, – но в любом случае я кое-что узнал...
– Я бы тоже не возражал пропустить сейчас стаканчик шнапса!
– А потом?
– А потом полная тишина!
Старик уже все обсудил с Ренном, успокаивают меня утром. Остаться здесь и спрятаться, втянуть голову и затаиться, по этому правилу мы поступаем уже довольно давно – по крайней мере, пытаемся. Для меня эта флотилия самое лучшее и самое надежное место. Только здесь я наполовину защищен от легавых, здесь они менее всего могут причинить мне зло. И все же: вопреки всему... у меня земля горит под ногами! И почему Старик ничего не говорит о Симоне? Пусть пройдет какое-то время это самое благоразумное. Но это уже все. Покинула ли Старика его смелость? Может быть, он, в конце концов, хочет совсем выбраться из этой аферы угрожающей его карьере? Но ведь такая карьера может существовать лишь как абсурдное представление в его мозге. Поскольку в нашем случае карьера для нас – это безвозвратное прошлое – независящее от того насколько быстро или медленно продвигаются вперед союзники... После завтрака, с мольбертом на плече, захожу отметиться в служебный кабинет Старика. Старик пыхтя выдувает из себя воздух и неожиданно бросает:
– Мольцан задолбал!
Я стою и не знаю, что сказать по этому поводу.
– У него, конечно, была причина для празднования – но все же что-то должно оставаться в рамках приличия! – продолжает Старик.
Узнаю, что Мольцан вчера вечером, упрямый и бухой, каким он всегда был, не захотел пойти в офицерский публичный дом, а во что бы то ни стало хотел остаться со своими людьми и направился в бордель для команды.
– А там ввязался в ссору – даже затеял драку, – говорит Старик, – и оказался Мольцан в самой середине!
– Задачка! – отвечаю меланхолично. – Нам вот раньше просто добавляли соду в чай. Мы называли эту хрень «Пофигизм».
– Тебе хорошо смеяться! – произносит Старик и яростно передвигает туда-сюда папки на письменном столе. Затем внезапно встает и объявляет:
– Я должен быть в бункере! Едешь со мной?
– О лучшем и не мечтал!
В машине, Старик ведет ее сам, его словно подменили. Он даже насвистывает:
– Гордо реет флаг...
Рискуя разбить губы о ветровое стекло, я начинаю говорить:
– В Коралле я, кстати, видел твою фотографию с Фюрером.
– Это ту, с капитаном Рогге, командиром крейсера «Атлантис» и обер-лейтенантом Зуреном? Райнхардом Зуреном?
– Да. Как это все прошло тогда?
– Да, а как это должно было пройти?
– Я имел в виду, какое впечатление произвел на тебя Фюрер?
– Я бы сказал: как на фото.
– И больше ничего?
– Ну может быть, чуточку менее низковат, чем я думал.
– И никакого особого впечатления?
Теперь Старик вынужден сконцентрироваться, пытаясь пробраться между горами обломков. Только когда мы оставляем позади эту трассу слалома, он отвечает:
– А вот как ты все это собственно говоря, представляешь? Стоишь навытяжку, рукопожатие, пристальный, испытующий взгляд тебе в глаза – вот так все это происходит. И сюда добавь, естественно, волнение и подготовку ответов на возможные вопросы. Таким вот образом это происходит!
– А где все проходило?
– В «Волчьем логове». Около Растенбурга, в Восточной Пруссии.
– Как они только и нашли такое место?
– Они начали строить его там уже в 1940 на землях одной фермы, еще перед началом кампании в России. Теперь это гигантская вещь. Снаружи видишь немного, но затем можно только удивляться: огромная лисья нора из бетона – и полная безопасность! Здесь, напротив, мы как на ладони!
Я вспоминаю, как мне пришлось однажды ждать одного человека из Имперского управления студенчества в Доме художника в Мюнхене. Вокруг меня пол был покрыт восковыми каменными орнаментами, передо мной огромный круглый стол – столешница из полированного гранита, из единого куска в дубовом кольце. Ножки стола резные: Орлы с лапами льва. На стенах тусклые гобелены, на потолке мощные бронзовые канделябры и по обеим сторонам высокой, во все помещение, дубовой двери бронзовые факелы, косозакрепленные, по римскому образцу. Сюда же добавим отзвуки шагов сапог, прищелкивания каблуков. Приходят и уходят партийные чины: с полудюжины различных униформ – как они излучали! Я смог внезапно представить себе, как на попавшего в такое окружение вдруг нападет мания величия.
– Разве он не хотел узнать что-нибудь о тебе? – я вновь тереблю Старика. – Неужели ничего не спросил?
– Ничего особого. Только, так, в общем – Англию поставить на колени и тому подобное – и тут же все орут: «Так точно, мой Фюрер!» А ты, что, его еще не видел? Он же и твой Главнокомандующий.
– Видеть видел – да. Один раз в Мюнхене. Издали, правда, но у меня эта сцена стоит перед глазами, словно это было вчера.
Старик резко сворачивает направо и вновь гонит прямо. Заглушая шум двигателя он кричит:
– Ну и как? Давай рассказывай!
– Это было на Кёнигинштрассе в Мюнхене. Она тянется вдоль Английского сада – здания там стоят только на одной стороне. Я как раз топал по ней, и тут навстречу мне выезжает автоконвой. В первой машине сам Фюрер! Я четко рассмотрел кузов: открытый, с низким ветровым стеклом, жесткозакрепленный флажок со свастикой, но только свастика на золотом фоне вместо белого – и, кроме того, вертикальный, а не под углом как на обычных знаменах.
И еще запасное колесо около капота мотора, немного опущенного в переднее и заднее крыло и таким образом невидно резинового протектора шины. Странно, что все это можно было воспринять в точности за одну секунду. А это значит: машина ехала довольно медленно. Я стоял, плотно прижавшись к бордюрному камню, а Фюрер сидел на ближнем ко мне борту и пристально смотрел на меня приблизительно с расстояния в один метр, из-под козырька фуражки. Бледное лицо, сальная кожа. Узенькая «зубная щетка» под носом будто намалеванная. От сильного страха я не знал, что делать. Я даже думал, что вот сейчас из машины выпрыгнут два быка из СС и наваляют мне по полной, потому что я не вздернул вверх руку от охватившего меня страха. Но в следующий момент факельный проезд уже проехал. Мне понадобилось добрых пять минут, пока я снова не пришел в себя... Людей, проходивших мимо часовых у зала заседаний этого полководца и не поднявших в приветствии вверх правую руку, жестоко избивали.
Старик ухмыляется. Он, очевидно, не знает, что должен сказать, выслушав мой рассказ. Наконец, он ворчит:
– Да, такие вот у нас дела.
В одном из цехов у Старика с инженером-механиком флотилии идет обсуждение какого-то вопроса. Поскольку я не хочу, как собака у своего хозяина стоять на поводке, то собираюсь уйти.
– Полчаса, не больше! – говорит Старик.
– Боже! Ну и дела! – доносится до меня, когда я присаживаюсь на кнехт у достроечной стенки – это почти рядом со мной восклицает какой-то моряк, и я тихо удивляюсь, как умело он выкладывает свою приманку. Но трое других, сидящие с ним у стеллинга, знают правила игры: Они не говорят ни слова. Ему остается лишь смотреть, какое впечатление производят его слова.
– Парни, есть вещи, которым можно только удивляться! – немедленно начинается второй заход.
Теперь один из присутствующих милостиво соглашается:
– Ну, давай уже! Трави баланду!
Но рассказчик теперь не торопится. Он просто снова задерживается:
– Можно только качать головой – ведь часто обычаи имеют людей, но об этом мало кто догадывается!
Реакцией на эти слова было недовольное бурчание. Теперь первый моряк действует так, как будто он совершенно утонул в размышлениях о пережитом. И только когда один из слушателей говорит:
– Да ладно гнать-то! – он вздрагивает, словно очнувшись ото сна:
– Я был в отпуске в Берлине у моего дяди и моей тети. У них же там, в Берлине, магазин скобяных товаров…
– Лучше бы тебе сунуть кольцо в нос и поводить по зоопарку – вот это было бы очень интересно...
Однако рассказчика нельзя сбить этим замечанием.
– Это прямо за углом на Фридрихштрассе. Так вот там я как-то болтался вечерком – и тут со мной заговаривает одна девка. Она захотела пять рейхсмарок.
– Не тяни! Захотела от тебя прямо тут же?
– Ну, вот я поднимаюсь с ней на третий этаж, где она жила. Там сидят трое и играют в скат. Им нельзя мешать, а нам надо было пройти именно там. Ну, входим мы с ней в спальню, а вокруг кровати полный срач, и с кровати все сброшено – там был только голый матрас. И тут она стягивает с себя трусы и ложится на матрас!
– Ну и! – хрипло лает один из слушателей.
–... а рядом хлопают своими картами игроки в скат! Ну и получился полный облом...
В эту минуту раздается такой сильный шум, что я не могу ничего больше понять: Где-то долбят молотом по лежащим металлическим листам, и этот звук забивает все. Когда стук молота, наконец, стихает, парни продолжают обсуждать животрепещущую тему.
– DKW – мастерского класса – может быть вполне приемлемым автомобилем, но ты же не знаешь всех его недостатков, – кто-то кричит резко.
– Так я об этом и твержу тебе, засранец!
Но судя по тому, что еще один говорит:
– DKW, это значит «маленькие ранки», – эта история быстро не закончится.
– Ну, ты ляпнул: DKW – это «Завод Немецких Мотоциклов», – раздается голос еще одного собеседника, что полностью переводит болтовню в сторону от основной темы.
– Не, я точно от вас свихнусь: Завод мотоциклов? – стонет другой, голоса которого я до сих пор не слышал.
– Парни, вы говорите об автомобиле, мотоцикле или о ебле?
– Скажу тебе по секрету: Ты – самая глупая свинья, какую я только знаю.
Это замечание сбило спрашивающего.
– Да ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? – угрожающе рычит он.
– Не-а, – отвечает говоривший простодушно.
– Я зажму твою голову между ягодиц и сожму мышцы – и ты сдохнешь в темноте.
– А сверху посыпь еще хлорной известью, – рекомендует другой, – чтобы не задохнуться от трупного запаха.
– Да ладно, не трепи языком попусту, ты, тупой засранец!
– К сожалению, новым командирам не хватает опыта, – сетует Старик, когда мы едем назад во флотилию. – Они конечно не хуже чем старые, но именно сегодня время не позволяет им накапливать опыт, постепенно врастать в профессию, пожинать успехи без слишком большого сопротивления и при всем при этом завоевывать уверенность в себе.
– Кажется, никто не интересуется общим положением дел...
– Ну и …? Что ты хочешь сказать этим?
– То, что при такой большой лености ума не может не удивлять, что они не спрашивают о том, является ли их собственное боевое применение все еще рациональным...
– Ты требуешь слишком многого. Они равны...
– То, что планируется в Берлине, является для них словами Бога! – я перебиваю Старика и пугаюсь своего строптивого тона. Но Старик, которому приходится объезжать воронку от авиабомбы, ведет себя так, как будто он не услышал меня, и просто говорит дальше:
– В конце концов, они привыкли к послушанию... и, кроме того: Что ты можешь знать о том, что они думают? Ты же совсем не знаешь большинства из них...
Позже во дворе мне перебегает дорогу зампотылу. Интересуюсь у него, как его дела. Он только машет рукой и говорит:
– Слышали ли Вы что-нибудь о фрейлейн Загот?
– Я? – спрашиваю в тупой оторопелости, и мы мгновение стоим лупая глазами полусмущенно. Наконец, мы говорим о погоде, пока я не говорю:
– Мне необходимо сейчас переодеться.
После обеда сижу со Стариком за одним из низких круглых столов в клубе. Беседа течет буквально по каплям. Присутствующие явно никем не интересуются.
– Я, на твоем месте, не был бы настолько заносчив, – тихо говорит Старик, не смотря на меня. – Я бы вообще не хотел знать, чем интересуются такие скользкие типы как ты...
Я пристально смотрю на него. Почему он внезапно стал так агрессивен?
– Это приглашение к самопроверке? – спрашиваю его.
– Можешь и так понять!
– Как насчет свежего пива? – приходит мне на помощь зампотылу.
– Не возражаю, – отвечает Старик.
Когда зампотылу исчезает, Старик снова поднимает нить разговора:
– У тебя в Берлине все схвачено. Если тебе позволено играть роль туриста между обоими мирами, значит, о тебе там хорошо говорят. А что же здесь можно узнать?
– Если бы они действительно этого хотели – то огромное количество материала. Но с шорами на глазах живется гораздо удобнее, чем в мыслях и думах.
Старик бросает мне предупреждающий взгляд: Следует потише болтать. В клубе слишком много посторонних.
– По-видимому, у тебя тоже есть шоры – по крайней мере, при оценке действий твоих коллег, – снова начинает Старик через некоторое время. – Ты просто не хочешь понять, что они были воспитаны согласно некоего определенного кодекса. И уж точно, переодетое в форму гражданское лицо, такое как ты, абсолютно не в состоянии понять, что значат солдатское воспитание и солдатские идеалы.
Затем Старик погружается в молчание, и я не мешаю ему. Нет никакого смысла продолжать этот разговор: Если Стариком признаются солдатские идеалы, то наш спор бессмысленен. Он залезает в свою скорлупу и закрывает забрало.
– У меня много дел, – говорю я, поднимаясь со своего места и делаю нечто среднее между военным приветствием и гражданским приветом. Старик лишь неприветливо кивает, как будто он не хочет позволить мне мешать ему в его размышлениях.
Пробираясь между креслами, я чувствую себя неловко и пристыжено. Я спиной ощущаю взгляды сидящих у барной стойки. Старик взял под свою защиту и этих упрямцев. Старик, говорю я себе, когда держу курс на мой павильон, стоит перед неприятной дилеммой. Он слишком точно знает, что сейчас разыгрывается в действительности, и он должен действовать так, как будто верит в мудрость Верховного управления и окончательную победу. Нацисты поступили, во всяком случае, довольно хитро: связали солдат с их собственной этикой и из их традиционных идеалов создали и создают своеобразную garotte.
– Довольствоваться существующими отношениями – что еще вообще остается...? – так Старик сетовал уже пару раз, и оно все и идет таким образом: Поскольку мы ничего не можем изменить, мы довольствуемся лишь отношениями. Мы не кричим во всю глотку «Ура!», но сплоченно маршируем и послушно держим шаг.
ПОКУШЕНИЕ Непосредственно перед ужином, в 18 часов 30 минут, прибывает особое сообщение Великогерманского радио о попытке покушения на Фюрера и Высшего главнокомандующего. Покушение на убийство Фюрера! Означает ли это его свержение? Революцию? От сообщения Старик буквально окаменел. Кажется, нечеловеческим усилием он открывает, наконец, рот:
– Снова как в 1918!
И с этими словами он внезапно поднимается из кресла и молча исчезает. Я не могу сразу встать, иначе это выглядело бы так, словно я бегу за ним, а потому сижу так же как и другие, которые либо рассматривают коврики на полу, либо пристально уставились пытаясь увидеть нечто сквозь дыры в чадном воздухе.
– Теперь начнется! – произносит, наконец, кто-то. И все смотрят на него так, как будто его озарило или он резюмировал это чрезвычайное событие.
Старик – я это знаю точно – второй раз сюда не придет. Так как я в высшей степени в нетерпении от новых сообщений, то держу курс на его офис. Туда он, скорее всего и ушел. Старик занят с большим количеством разноцветных папок. Я знаю, что там собрано: всяческие памятки, тайные предписания, тактические правила, приказы по флотилии и тому подобные циркуляры. Но мне также известно, что Старик потому занялся всеми этими папками, чтобы скрыть свое напряжение. Старик никак не реагирует на мои попытки заговорить: Он остается наглухо закрытым. Внезапно сообщают: Гитлер жив. Может быть, это снова обычная ложь? Сегодня нельзя слишком доверять такого рода сообщениям. О Сталине уже однажды сообщалось, что он реально умер, а его заменил двойник – но, затем выяснилось, что настоящий Сталин жив. Узнаю, что от гросс-адмирала прибыла шифровка. Но никак не получаю доступ к тексту. Старик не роняет ни слова о ней. Куда бы не обращал взор повсюду лишь запечатанные молчанием рты. Взгляды, которые я пытаюсь перехватить, скользят мимо меня. Если Гитлеру действительно удалось пережить покушение, много голов покатятся. Счастье ли для царя Петра то, что он в это время был заперт в камере, когда произошло покушение – или преступная шайка и теперь создаст концепцию tabula rasa как тогда после путча Рема? Если механизм арестов пройдет сразу во всех направлениях, то тогда помилуй нас Бог... На ужин мне следует появиться в столовой, хочу ли я того или нет. Это выглядит так, как будто внезапно возник вакуум, в котором мы можем только невесомо передвигаться. Наконец, Старик тоже приходит, но старательно уклоняется от моего вопрошающего взгляда. Что же теперь происходит в действительности? Восстание в Берлине? Почему не поступают новые сообщения? Инсценировали ли нацисты все это сами, чтобы ввести в игру очередную прозорливость Фюрера по старому образцу? Поразительный эффект – в буквальном смысле слова – он был бы им так кстати.
– Штаб-квартира Фюрера находится в Растенбурге, – я слышу, как говорят слева от меня.
– Я думаю, в Берхтесгадене?
– Была в Берхтесгадене, но была перенесена снова в Растенбург.
– Растенбург – я об этом никогда не слышал...
– Должно быть где-нибудь на востоке.
Я радуюсь тому, что, вообще, хоть кое-что говорят. Когда мы покончили с едой и больше не громыхают подносы, тишина становится тягостной. Как долго будет это продолжаться? Не должен ли Старик угостить нас чем-нибудь? Своими примечаниями к событиям? Собирается ли он, например, выступить с речью к народу? Но Старик сидит прямо, лицо наполовину скрыто за руками. Он сжал одну руку в кулак и вдвигает ее в таком виде в согнутую в локте другую руку, что выглядит так, словно он хочет продемонстрировать принцип действия шарового шарнира на опорной подставке. Он делает это добрых пять минут. Подбородок при этом вытянут. Носогубные складки на лице стали глубже, он выглядит постаревшим минимум на десять лет: пожилой человек тридцати пяти лет. Его волосы, бывшие раньше цвета кислой капусты, стали уже отчетливо светлыми и так или иначе – пройдет немного времени и Старик перейдет в разряд седых. Я так напряженно всматриваюсь в Старика, будто только мощью моего взгляда могу принудить его сказать речь. В следующий миг Старик действительно довольно резко бросает обе руки на подлокотники, вытягивается, открывая при этом рот, как будто ему с трудом дышится. И наконец, громко произносит:
– Приятного аппетита, господа! – и встает.
Немедленно раздается громкий стук стульев и шарканье ног. У некоторых со столов падают столовые приборы. Я сижу как завороженный. И это все? Столовая быстро пустеет, гораздо быстрее, чем обычно. Все убегают, как будто кто-то крикнул «Пожар!» Я буквально впиваюсь в радио. Постепенно узнаю: Покушение было совершено в полдень во время оперативного совещания в штаб-квартире Фюрера. Гитлер прибыл туда всего несколько дней назад из Берхтесгадена. Незадолго до совещания оно планировалось в одном из легких бараков, но из-за строительных проблем его перенесли в бункер – Гитлеру повезло: Деревянная постройка барака при взрыве легко бы разлетелась на куски. Никаких перекрытий. Здесь же, Гитлера укрыл мощный дубовый стол на кряжистых ногах. Он едва ранен. Во второй половине дня в Растенбург прибыл Муссолини. Должно быть, есть несколько убитых и тяжелораненых. Однако из находившихся там высших нацистских чинов никто не погиб, кроме одного стенографиста. На всех лицах отображается смущение. Некоторые выглядят глубоко подавленными. Что за чудо: Для них погиб целый мир. Вскоре объявляют, что Гитлер будет выступать с речью в двадцать один час. Но поскольку до десяти все еще ничего не происходит, я ложусь спать. На следующее утро узнаю, что в час ночи Гитлер выступил с обращением к немецкому народу. Радиомаат записал речь Гитлера:
– Немецкие соотечественники и соотечественницы! Я не знаю, в какой раз снова на меня было запланировано и осуществлено очередное покушение. Когда я сегодня обращаюсь к Вам, то это происходит по двум причинам: Во-первых, чтобы Вы слышали мой голос и знали, что я здоров и невредим. Во-вторых, чтобы вы непосредственно узнали о преступлении, которое не имеет аналогов в истории Германии. Совсем маленькая клика честолюбивых, недобросовестных и в то же время преступных, глупых офицеров ковала свой заговор, чтобы устранить меня и практически уничтожить штаб управления германского Вермахта одновременно со мной. Бомба, которая была подложена полковником графом фон Штауффенбергом, взорвалась в двух метрах справа от меня. В результате взрыва пострадал ряд дорогих мне сотрудников: есть тяжелораненые, один погиб. Я сам абсолютно невредим за исключением совсем небольших ссадин, легкой контузии и ожога. Я понимаю это как подтверждение моего предназначения продолжать следовать своей жизненной цели, так же как я делал это до сих пор...
Круг, который представляют эти узурпаторы, очень маленький. Он не имеет ничего общего с германским Вермахтом и, прежде всего, с германской армией... В этот раз все так сложилось, к чему мы как национал-социалисты совершенно привычны. Я копирую отдельные выкладки для моих рабочих документов. Теперь я еще больше испытываю настоящий информационный голод. Я хочу знать: Как морской флот повел себя? Какую роль сыграл Дениц? Какую его штаб? Был ли Дениц в Вольфшанце вместе с ним, или он сидел в Коралле? Где Роммель? Какую роль он играл в заговоре? Насколько велик, вообще, круг заговорщиков? Старик сидит, когда захожу в его кабинет, неподвижно за своим письменным столом. Он все еще выглядит таким растерянным, будто его настиг прямой удар судьбы. Неужели на него так подействовало это покушение? Или на то имеются другие причины? Старик сам наводит меня на след, когда внезапно спрашивает:
– Ожидают ли люди, что я что-то скажу?
Прежде чем я отвечаю, он решительным тоном говорит:
– Это должен сделать Штейнке!
Хочу всем своим видом показать, что план Старика очень разумен. Но тут он обращается непосредственно ко мне:
– Что ты думаешь?
Я пытаюсь сдержать насмешку в голосе, чтобы не разозлить Старика. Сдерживаюсь, чтобы с губ не сорвались слова «предвидение» и «промысел Божий»:
– То, что ты должен выступить, по крайней мере, перед офицерами – это естественно. Если ты вообще ничего не скажешь, это может выглядеть довольно глупо.
Старик кивает и поднимает плечи так, будто хочет изобразить подчинение предопределенности судьбы. Не хотел бы я сейчас находиться в его шкуре. В столовой вижу только тупо молчащие рожи, уклончивые взгляды. Большинство просто неподвижно смотрят перед собой или на белую скатерть. Некоторые, словно роботы, крутят в пальцах столовые приборы. Старик Штайнке выглядит как собака, которой положили слишком большую кость и которая теперь не знает, как с ней справиться. Таким рассерженным я еще никогда не видел его. Как то вдруг он становится похож на старую лягушку. Новости, должно быть, шокировали его очень глубоко. Внезапно Старик встает. Он откашливается так, словно страдает от катара, а затем с напряжением в голосе говорит:
– Господа! Эти офицеры – уже давно больше не офицеры. Это предатели...!
Старику следовало бы подготовить хотя бы черновой набросок своей речи, потому что он сейчас стоит перед нами, напоминая актера без текста и суфлера. Я бы провалился сквозь пол от такой мучительной неприятности. Однако, тишина и общая подавленность, кажется, не тревожат Старика. Он, очевидно, ждет момента, когда ему на ум придут уместные к случаю фразы. Но затем начинает говорить с яростью и возмущением:
– Предатели! Гнусные предатели, которые сами исключили себя из народной общности! – Да здравствует Фюрер!
Что это нашло на Старика? Держу пари, что он выступил с этим обращением только из чувства долга. А еще этот тон! Что могло подвигнуть на это? Хотел бы я увидеть его лоб в этот момент... По радио передают Баденвайлер-марш. Овации, демонстрации выражающие верность и преданность. «Провидение!» – и снова и снова: «Провидение!» Я больше не хочу ничего слышать об этом. Но не могу держать уши закрытыми. Дениц, Геринг поздравляют со спасением. Снова и снова гремят овации. Генералитет объявляется декадентским и немощным, Гиммлер назначается Командующим всей армии. Медленно вырисовывается картина того, что произошло в штаб-квартире Фюрера: У графа Штауффенберга в его портфеле была бомба с дистанционным взрывателем. Тот человек, который положил бомбу, то есть граф Штауффенберг, должен был объявить также и о смерти Фюрера, хотя он этого не смог бы увидеть. В Берлине группа заговорщиков должна была ожидать сообщения об удачном покушении, о котором сообщил бы Штауффенберг. Вероятно, генерал-полковник Бек объявил бы себя главой правительства. Майор Ремер из батальона охраны в Моабите выступил против восстания в Берлине, после чего лично позвонил Гитлеру и узнал его голос. Граф Штауффенберг и три других офицера были расстреляны еще вчера вечером – во дворе на Бендлерштрассе, в том самом пустом четырехугольнике, в котором я попался ротмистру Хольму. Фактически убитый из-за угла Гитлер – не выдумка! Как же все-таки наши парни на это отреагировали? Как они соотнеслись тогда с военной присягой и своим солдатским моральным обликом? Царит ли у них уже некое замешательство... Невероятно, что Грофац вновь пережил это! Ему стоит запатентовать себя как пуленепробиваемого. Но почему ни один из его ближайшего окружения уже давно не застрелил его, заколол или удавил голыми руками? Может потому, что он сам бы тогда не спасся? Может ли это быть основной причиной? Теперь все, они найдут и уничтожат всех – всех, кто знал об акции. А если бы покушение удалось – привело бы это тогда к миру? Например, через пару дней? Едва ли это вообразимо. Но Симона освободилась бы. А также и моего издателя эти собаки должны были бы отпустить. Однако, точно ли так? Наверняка, Геринг сразу бы приступил к наследованию. Фюрер назначил его своим приемником – еще в своей речи в Рейхстаге 1 сентября 1939. Или привело бы это покушение к беспорядочной борьбе за преемственность? Покончили бы с собой Геринг, Гиммлер, Геббельс и другие тотчас же? Не следовало бы одновременно с Гитлером искоренить и всю эту свору его прихлебателей? Неужели целью совершавших покушение был лишь этот единственный человек? Висит ли ВСЕ сотворенное только на нем одном? Может ли быть истиной то, что только этот единственный человек должен был быть устранен, чтобы наступил мир? Тогда также истинно и то, что уничтожение этого единственного было бы в состоянии уничтожить все это безумие... Но это ошибочное представление! Одно для меня ясно: Даже если бы покушение удалось и в Берлине тоже вспыхнуло бы восстание – люди здесь остались бы с Деницем. А Дениц с нацистами... Мне становится больно в животе от этого моего внутреннего монолога. Я бы хотел, чтобы сейчас раздался сильный взрыв, и все снова стало бы до тошноты нормальным – Служба по плану! Во второй половине дня Великогерманское радио передает обращение Гросс-адмирала. Оно гремит в клубе надо мной:
– Служащие военно-морского флота! Святой гнев и беспредельная ярость наполняет нас при мысли о преступном заговоре, который должен был стоить жизни нашего любимого Фюрера. Но Промысел Божий восхотел этого иначе – он прикрыл Фюрера и охранил и вместе с тем не покинул наше немецкое Отечество в его роковой битве.
Безумная небольшая генеральная клика, которая не имеет ничего общего с нашей смелой армией, затеяла в трусливом вероломстве это убийство, самую подлую измену Фюреру и немецкому народу. Эти мошенники – лишь прислужники наших врагов, которым они бездумно служат в своей бесхарактерной, трусливой и ошибочной глупости. В действительности же глупость их безгранична. Они полагают, что устранением Фюрера могут освободить нас от нашей жестокой, но неизменной судьбоносной борьбы – и не видят в своей слепой пугающей тупости, что своими преступными деяниями направляют нас в ужасный хаос и оставляют беззащитными перед нашими врагами. Искоренение нашего народа, порабощение наших людей, голод и неизвестные бедствия стали бы последствием этого заговора. Наш народ испытал бы невыразимое бремя несчастий, может быть бесконечно гораздо более жестоких и сложных, чем самое жестокое время, к какому только в состоянии привести наша современная борьба. Мы положим конец этим предателям. Военно-морской флот верен своей клятве в надежной преданности Фюреру, в своей мобильности и боевой готовности. ВМФ принимает только от меня, Главнокомандующего военно-морским флотом и своих высших командиров боевые приказы, чтобы сделать невозможной любую дезориентацию Флота поддельным приказом или распоряжением. Флот бесцеремонно уничтожит всякого, кто окажется предателем.
Да здравствует наш Фюрер Адольф Гитлер!
Снова и снова в голосе гросс-адмирала проскальзывают истеричные нотки голоса с пеной у рта. Я украдкой смотрю на окружающие меня лица, но не вижу никакого движения. В следующий миг мне уже не нужно ничего более как воздуха! Свежего воздуха! Когда я бездумно несу ноги к Бартлю, встречаю во дворе зубного врача.
– Вы идете в клуб? – спрашиваю так беспристрастно насколько возможно.
– Нет! – бросает он резко. При этом голос его звучит странным басом.
Поскольку зубной врач не двигается, я пытаюсь всмотреться в его лицо. Несмотря на тень от козырька его фуражки, вижу, насколько он бледен. Уголки рта подрагивают, чего раньше я не видел. Зубной врач делает шаг в сторону от меня, затем внезапно снова останавливается и пристально вглядывается в меня. У него не все дома! думаю про себя.







