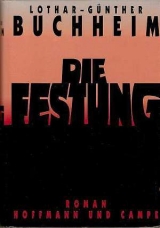
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 111 страниц)
– Раньше, если что-то подобное происходило, то это оперативно исправлялось. Теперь же у нас практически нет врачей на лодках!
– У нас всегда на лодке был маат-санитар.
– Да, уже...
– И врач-командир.
Проходит немного времени, и Старик погружается в представленный перечень аварий произошедших на борту. Между тем у меня перед глазами стоят картины наполовину сожженных, потерпевших кораблекрушение судов, людей на лошадях, скелетов в спасательных шлюпках, утопленниках. Потерпевшие кораблекрушение – это стало бы темой номер два, если бы Свод правил и норм поведения позволял говорить об этом. Но эта тема является табу. Она никогда не будет затронута. Входит адъютант и хочет узнать у Старика насчет «мероприятия сегодня вечером». Старик одаривает его несколькими скупыми фразами.
– Не пойму, как эти парни отваживаются вновь рисковать своими жизнями ради пирушки, – ругается Старик, когда адъютант уходит.
Я знаю, что он подразумевает – я уже слышал от зампотылу, что партийный оратор на подходе.
– Это говорит о том, что они мужественные и смелые люди, – говорю я. – Они жаждут этого из-за близости фронта.
– Я бы хотел, чтобы все уже закончилось! – кидает Старик, театрально закатывая при этом глаза.
– Но должно ли так вообще все быть?
– Да, все должно идти, как предначертано. Мы просто должны смириться. Командующий подводными силами, кстати, тоже прибудет.
– Превосходно! С собакой?
– Как же иначе! – Знаешь, а этот господин Партайреднер – государственный советник. Поэтому речь идет о, так сказать, «высоком посещении».
– Государственный советник? Как же его встречать?
– Как золотого фазана, естественно! Сегодня вечером, в любом случае, состоится богослужение в столовой. Как-никак, служителя заказали уже месяц назад.
– А почему ты мне не сказал ни слова об этом?
– Потому что я думал, что он больше не отважится... – Старик умолкает, а затем недовольно добавляет: – Меня удивляет только то, что Командующий подводными силами все еще сидит в Angers. Ему там, должно быть, постепенно становится довольно рискованно.
Наступает молчание. Старик берет следующую папку для дел из стопки на своем письменном столе, карандаш и начинает читать. Мне же остается только сидеть и размышлять, что здесь мог бы хотеть КПС... Я никогда не мог понять, в чем, собственно состоит его служба: Стратегической работой занимаются в Коралле, а если лодки стоят в базе, то непосредственно Флотилия заботится и о лодке и об экипаже. И все же вот имеется этот «Командующий подводными лодками на Западе», вместе с богатым штабом, как высшая служебная инстанция над флотилиями. Мне известно, что КПС совершил, в качестве командира, два подводных похода с отлично обученным экипажем. Во времена, когда не было еще такого смертельно опасного Абвера как сейчас. Два похода – и это все в его послужном списке. В одном я уверен: Я точно не стремлюсь с ним встретиться. Если он запретил Старику беспокоиться о Симоне, то ему, конечно, известно все произошедшее. Но что он знает на самом деле? В этот миг Старик откладывает в сторону папку и объявляет:
– Когда прибудет КПС, ты пойдешь со мной в клуб!
– Мне это надо?
– Так точно! – И затем гремит: – Эта встреча может тебе пригодиться, и ты снова нравственно вооружишься.
Ни слова о том, что для него встреча с КПС может тоже оказаться неприятной.
ЗОЛОТОЙ ФАЗАН
Большое помещение, в котором должен выступать госсоветник, производит полупустое впечатление, хотя Старик созвал всех свободных офицеров-подводников, которых смогли найти во флотилии. К тому же еще и всех свободных людей из роты охраны. Однако, многие очевидно были настороже и смогли вовремя отчалить. Теперь они недостижимы для Старика.
– Партийный трубадур! – предостерегающе шепчет Старик. А перед нами, стоит и поблескивает своим кричащим коричневым великолепием, «золотой фазан».
Господин штаатсрат надут как лягушка-бык, с огромной кепи на голове-шаре. На нем широкие коричневые брюки, его куртка, которая смело зовется такими парнями «военный мундир», имеет тот же самый коричневый цвет поноса. Добавьте к этому и сшитые на заказ коричневые сапоги. Портупея тоже коричневая. Весь господин штаатсрат – это симфония в коричневом цвете. Только повязка со свастикой нарушает одноцветность. И там же – как по волшебству – наш проворный КПС, пижон как всегда: белые брюки, мускулист и подтянут, как теннисист. Конечно: Летящая походка, орлиный взгляд – слегка измененная в снобистском духе копия Дёница. КПС всем своим видом демонстрирует нам, что он видит войну с более высокой точки, недоступной собравшимся в этом зале. Все просто нелепо: Командующий сидит, напоминая бледно-серую кинозвезду большого экрана – раздутую от самодовольства. Добавим сюда взгляд синих глаз, который по идее должен быть стальным, но выглядит как в театре у переодетого офицером опереточного баритона, в состоянии готовности выхода мадам Butterfly. Прошло почти четыре года, с тех пор как этот франт в последний раз был на борту подводной лодки. От командира у него не осталось ни малейшего следа. Хотел бы я увидеть его однажды, когда его клюнет жареный петух! То, что такой высший, влиятельный чин всегда должен является со своим фокстерьером, где бы ни появлялся, является в глазах Старика признаком хороших манер – мне это известно из его язвительных шуточек. Напряженно жду, когда начнет говорить Старик, но он, словно в прострации, не знает что говорить. Он ведет себя так, как будто ждет вступительного слова Командующего, но тот, однако, машет ладонью, делая защитное движение. До меня долетает:
–... Я здесь только гость!
В воздухе повисает наряженное молчание двух упрямцев. Тем временем государственный советник решительно подходит к кафедре и начинает свою речь. Сквозь полудрему слышу:
– Державы победительницы, которые в 1919 в Версале позорный договор... без исторической ответственности... зеркальный зал... погребальную камеру всеобщего вселенского уровня... неимоверный стыд... Рейх против этого мира... Всеми силами выступили в поход... не позволим нас подавить...
Старик рассматривает своего, навязанного ему гостя, как невиданную экзотическую птицу. Судя по тому, как штаатсрат стоит здесь перед нами и мелет языком, он чувствует себя великолепно, Когда он, наконец, дерзновенно сравнивает в смелости и неустрашимости Генриха IV и Гитлера, я пытаюсь сконцентрироваться и слушать более внимательно.
– Canossa было вознаграждено – через искоренение германского позора в усилении нации. Кайзер, как руководитель нации, победил те элементы, с триумфом которых закат империи был бы в свое время неизбежен... Да, можно очень хорошо видеть полные хаоса четырнадцать лет в период с 1066 до 1080 год и с 1918 по 1932 год, не только в их временном протяжении, но и после их завершения. А именно, царившие в Германии и за ее пределами западническо-демагогическо-иерархическо-сепаратистски-нигилистские инсинуации! На пике и на спаде вселенской вечности нашей Империи, мнимое превращение немецкого духа во всемогущий всемирный дух, которому его существование было отвратительно по сути своей, который произносился с анафемой и ложной ответственностью за войну – что же все это как не секуляризованное отлучение нас от церкви?
После небольшой передышки:
– Времена Хлодвига... большая внутренняя судьба... элементы 1919 года..., – и тут я снова отдаюсь в руки сумеречного состояния своего сознания.
Голос Золотого фазана и звенит и гремит и крякает и квакает. Время от времени он тычком наносит удар указательным пальцем, как шпагой, словно желая проткнуть натянутую вокруг него оболочку. Внезапно этот человечек кажется мне ужасно смешным: Нам, на военно-морскую базу, прислать такого карикатурного оратора партии – это какой-то абсурдный подарочек. Но чей подарочек? Подцепил ли его тот же КПС? Или Золотой фазан прислан к нам из Берлина? Когда он вновь наносит удар указательным пальцем, у меня невольно вырывается колючий смешок. Элегантно, чтобы скрыть его звук, покашливаю два-три раза и прикладываю обе руки ко рту таким образом, будто хочу изобразить индейский сигнал. Старик смотрит на меня, недоуменно подняв брови. Но позади меня уже смеются несколько человек – и довольно громко. Бог мой! Судорожно фиксирую взгляд на какой-то точке на полу, в паре метров перед моими ногами, чтобы снова не выйти из-под контроля. Тут поднимается сидящий впереди всех КПС, поворачивается к аудитории и говорит во внезапно наступившем молчании:
– Я прошу слушать господина штаатсрата с большим вниманием!
Позади, как в школьном классе, слышно глухое ворчание. КПС игнорирует его и снова занимает свое место, а лягушка-бык продолжает реветь дальше... После речи в клубе начинается большое веселье. Адъютант внимательно наблюдает за тем, чтобы штаатсрату постоянно подливали. После пятого стакана он опять начинает свое фехтование пальцем:
– Этот выпад в академическом духе – так точно, господа мои! Отвечаю! Двадцать три острых выпада шпагой...
Я смотрю на Командующего. Когда он поднимает кружку с пивом, то окидывает меня быстрым, каким-то осознанно-трезвым взглядом. Или мне мерещится? Был ли этот взгляд случаен? Может я ошибаюсь? Играет ли он в благородного человека или просто осматривается? Но для меня это своего рода знак: куда хочешь смотри, но только не в направлении Командующего. Показываю заинтересованность тем, что происходит вокруг. Время от времени влезаю в болтовню за моим столом. Господин штаатсрат развалился в кожаных обивках своего кресла. Он полулежит в нем наискось, руки брошены безвольно на подлокотники так, будто в парикмахерской приготовился бриться. Но и в таком положении он вливает в глотку стакан за стаканом.
– Союзники увязли у нас, как мухи приклеились, – ревет он басом.
Поскольку все молчат, Старик выдавливает, наконец:
– Да?
Для штаатсрата это звучит слишком скептически. Он приподнимается повыше и начинает, качая головой, новый словесный понос:
– Вы что, думаете, что эти господа смогли бы высадиться в Нормандии, если бы Фюрер этого не хотел? Фюрер даже определил точное место их высадки. Все другие места были закрыты намертво Атлантическим валом. И там эти господа немедленно сделали свою основную ошибку: из страха усраться перед Атлантическим валом они высадились точно там, где мы хотели. Точнее там, где мы специально оставили для них проход. Высадились, проявив полную бестолковость!
Старший полковой врача откашливается:
– Странно только, почему это союзники все еще сидят на побережье – а не плывут в свою merry old England?
Вот это выдал наш старший полковой врач! Я чуть не падаю от удивления! Как просто он завел здесь себе противника.
– Вам что еще т эти очевидные истины объяснять надо? – горячится штаатсрат, и яростно стучит кулаками по подлокотникам. – У Вас что, полностью отсутствует стратегическое мышление? Какая нам польза от того, что мы выдавим этих парней, и они снова улетучатся? Мы это уже проходили... в Дюнкерке! Там они ускользнули от нас, хотя мы разбили неприятеля наголову! Но на этот раз им не ускользнуть и не будет им никакого прощения! На этот раз обратный путь им заказан!
Госсоветник выпрямляется. Голос его от раздражения становится на тон выше, когда он продолжает:
– Фюрер знает, что он хочет. Теперь это означает сохранять выдержку и проявить твердую волю. Мы захлопнем мешок только тогда, когда вся эта шайка в нем соберется. Вот тогда-то Вы и увидите в один прекрасный день, как эти ублюдки умоются своей кровью!
Закончив речать, госсоветник настолько доволен собой, что снова, широко и с наслаждением, растягивается в своем кресле. Тыльной стороной кисти правой руки он потирает свои пузырящиеся прыщики в уголках рта. От этих движений остается стойкая краснота.
– Pantry! – командует Старик и заказывает вишневый коктейль для всех сидящих за столом штаатсрата.
Внезапно Командующий поднимается, а его фокстерьер высоко подпрыгивает.
– Тишина, господа! – звучит громовой голос Старика на все помещение. Зубной врач кривит лицо так, как будто бы он откусил лимон.
КПС расправляет складку на кителе, а большой палец правой руки задвигает над второй пуговицей кителя. Выждав минуту, он начинает:
– Коль уж мы так пируем, то я себе говорю: Все для подлодок! Это мой принцип! Я стоял и стою на этом, и это так! Наши подлодки непосредственно противостоят врагу в мировых водах, а штаб сидит на суше – поэтому все для подлодок!
– К сожалению, сегодня это не так как было раньше, и мы вынуждены затянуть пояса. Но мы остаемся ветеранами, которые помнят. Мы высоко держим традицию рыбы-пилы. Мы были и остаемся старыми ее приверженцами!
Раздаются громкие возгласы:
– Браво! Прекрасно сказано! И другие: – Верно! Точнее не скажешь!
Наглый оттенок этих выкриков, должно быть, не ускользнул от КПС. Но он не раздражается, а начинается снова:
– Этим мы можем сказать себе, что мы верны своему стягу и крепко держим его древко в наших руках, и для нас нет никаких Если или Однако. Мы поднимаем знамя борьбы над головой, мы это отработаем по полной программе – мы не сдадимся…
–... не смотря ни на что! – хрюкает кто-то пьяно позади.
Высоко тяну шею, чтобы рассмотреть, кто это был там. Почти одновременно и Старик тоже поднимается и кричит:
– Требую полной тишины!
Командующий невозмутимо продолжает:
– Нас не сможет сломать никакое поражение. Сейчас это только начало. Мы по-прежнему готовы встретить врага. Мы держим оружие наготове. А потому, господа, стоящие перед нами задачи ясны. Мы – мои господа... Мои господа, мы пьем за окончательную победу! Ваше здоровье!
Повисает минутное молчание, а затем, вдруг, тишину взрывают крики:
– Вперед, гип-гип – ура!
– Бороться, побеждать или погибнуть! – скандирует один, и тут же еще двое, дуэтом, с шумом подхватывают его возглас.
Из полутемного угла доносятся слова песни “Bel Ami”: «... ты не герой – а лишь мужчина, который нравится, Bel Ami!» Штаатсрат поднимается и гремит:
– Вот вам еще один их метод, господа. Таким вот образом международный иудаизм разлагает боевой дух немецкого народа – такими наглыми способами наступает он на героизм нашей расы, втаптывает его в грязь. Вы только вслушайтесь в слова этой песни! Еврей как грабитель, который с противной наглостью старается влезть в доверие к арийской женщине и пытается вытеснить немецких героев, хранителей очага – «…не умен – но элегантен / не красив – но очарователен…». Это заведомо известная нам еврейская фривольность, воздвигнутая на пьедестал: «…не герой – а только мужчина, который нравится…». Это целенаправленный удар кулаком в лицо немецкого солдата.
Говоря все это, штаатсрат размахивает обоими кулаками в воздухе. Его, похожая на биллиардный шар, круглая голова снова стала красной и шрамы на ней опять пылают. Как запоздалое эхо, из угла вновь долетает:
«Ты пользуешься успехом у женщин, Bel Ami! / Столько успехов у женщин, Bel Ami! / Не красив – но, очарователен / не умен – но галантен / не герой, а лишь мужчина, который нравится...»
Старик двигается в кресле, стараясь сесть повыше и поворачивает туловище в направлении угла, в котором так красиво поют. Царит громкое, разудалое веселье! Кто бы мог подумать! Старик надел на лицо мину, выражающую нечто среднее между верой в предопределенность судьбы и отупением. Затем он медленно встает. Что он хочет сделать? Ага, это КПС хочет раскланяться и уйти по-английски. После его ухода хрипящим покашливанием штаатсрат снова просит слова. Он поменял тональность:
– Думаю – это бесцельная трата времени – среди, так сказать, необразованных людей.
Штаатсрат бьет себя в грудь, некоторое время так и стоит, судорожно пытаясь вспомнить, о чем собственно шла речь. При этом он слегка покачивается и, наконец, извергает:
– Об этом нужно было вам сказать! Это нужно было вам доказать! О мужестве и храбрости! Так точно, я вам говорю!
– Pantry! – командует адъювант, – Господин штаатсрат больше не должен ничего пить. Эй, на камбузе! Я вас сейчас расшевелю!
– Конечно, это было настоящее мужество! – Госсоветник корчит яростную рожу. – Двадцать три острых сабельных удара!
И при этих словах он делает пренебрежительное движение рукой в пустоту и кривит уголки рта. Не хочет ли он облевывать нам весь клуб? Мне надо сочно выйти в гальюн. Когда возвращаюсь, Старик сидит на передней кромке своего кресла, в руке бутылка коньяка, наготове вновь подлить штаатсрату сразу, как только тот допьёт свой бокал.
–... все силу нашего оружия, силу наших душ – наши горячие сердца...
– Ну, понеслось! – слышу голос Старика.
Из брызжущего слюной рта больше не долетают никакие слова, только какой-то лепет.
– Убрать! – Старик рычит таким глубоким басом, что он звучит, как звук рыгания. Но несколько молодых офицеров, сидящих поблизости, поняли этот рык как команду, и бросились тут же к «золотому фазану», ухватили его за руки и ноги, как санитары хватают тяжелораненых, и уволокли его прочь.
К моему удивлению, он не делает никакой попытки сопротивляться. Бог мой, думаю я, это уже второй «золотой фазан», которого я вижу, буксируют таким образом, только с тем отличием, что первый – около Регенсбурга – вероятно, уже был покойником. Когда все ушли, и только мы со Стариком сидим в углу клуба, а перед нами полные пепельницы и пустые стаканы, он громко выдыхает, и затем говорит:
– Ну, вот ты сам все и увидел: Наши люди не хотят иметь ничего общего с этими коричневыми типами, которые нос бояться показать на палубе.
– Но ради кого тогда мы жертвуем собой? Вот за точно таких же, как эти, коричневых братьев – или нет?
– Ты несешь полную чепуху! – кричит мне Старик.
Едва сдерживаясь, я, с удерживаемой где-то в животе яростью, замолкаю. Хочу выплеснуть свою ярость на партию и ее типчиков, о которых тут переживает Старик, но что-то меня сдерживает. Было бы слишком глупо разругаться из-за этого проклятого «золотого фазана»... Утром хочу продолжить в кабинете Старика разговор о нацистских фюрунгс-офицерах. Но старик отвечает весьма общо. Осматриваюсь: Дверь в кабинет его адъютанта приоткрыта. Только когда мы остаемся одни – адъютант, со стопкой папок в руке, доложил об уходе – Старик возвращается к прерванному разговору.
– С этими наци всегда оказываешься в очень затруднительном положении. – Он буквально цедит каждое слово еще более глубоким басом, чем вчера, и так медленно, как будто он должен проверять каждое отдельное слово на вес, прежде чем выпустить его на волю. – Однажды подлодка доставила с собой двух пленных. Они свыклись на борту и подружились с экипажем, и по прибытии на базу они, естественно, тоже присутствовали при встрече. Командир лодки настоял на том, чтобы они, наряду с членами экипажа, получили свое пиво. И об этом пошел на него донос. Ну и начиналось тогда… Ладно, оставим это…
Старик вдруг смолкает на средине предложения. Смотрю на него удивленно. Но тут его словно что-то толкает, и он продолжает:
– Но в те времена это еще можно было легко обойти. Теперь это стало гораздо тяжелее. Теперь нужно быть дьявольски внимательным. Уже наслышаны о подобных историях.
– Да? – вылетает у меня. Но у Старика, пожалуй, в мыслях уже другая история. Очевидно та, что задевает его за живое. А я, в принципе, не хочу слышать ее именно сейчас.
Но внезапно, Старик ругается:
– Я буквально задыхаюсь от ярости, как только подумаю о том, что мы обязаны общаться с этими людьми, в случае если лодка не вернулась из похода...
Я знаю, что он имеет в виду: Существует приказ, по которому извещения о смерти могут передаваться родственникам только членами партии – ортсгруппенляйтерами или крайсляйтерами. Это называется “процедура соболезнования”. К сожалению, я хорошо представляю себе, как это происходит...
– Почему же тебе это, тем не менее, нравится? Ведь ты постоянно утверждаешь, что морской флот – вермахт – не имеют ничего общего с партией? – цепляюсь к нему.
– Здесь мы привязаны к приказу.
– Главнокомандующий Вооруженными Силами получил его от верхушки партии...
– Знаю я, как все это происходит..., – злится Старик.
Я воздерживаюсь от ответа, чтобы больше не донимать его. Однако замечаю, что эти слова Старика, похоже, не имеют ничего общего с тем, что он, собственно, хотел сказать мне.
– Мне не следует, – наконец, произносит он, – говорить сейчас, где, да это и безразлично сейчас – собралась диверсионная группа из пяти человек. Может быть, были сброшены на парашютах. Короче, их схватили флотские. Командир соединения – в его ведении небольшие соединения, охрана побережья, дозорные катера и тому подобное – заключил их под арест. Но тут прибыли люди из СД и потребовали их выдачи.
– И?
– И, к сожалению, командир последовал их требованиям. На следующий день, это установлено точно, этих пятерых расстреляли.
– А что затем произошло?
– Что должно было произойти? Для капитана цур зее – безразлично, кто это был, и что случилось – получил на руки квитанцию о передаче пленных, и теперь может повесить ее в рамку.
Уверен, Старик точно знает, какое это было соединение, а также как зовут командира. Тем не менее, я понимаю, что сейчас невозможно узнать от Старика что-либо еще. Однако почему Старик рассказывает мне об этом происшествии? На улице дождь: Моросящий дождь, такой мелкий, словно его распыляют из форсунок. Трудно сказать, сколько он будет идти. Дожди не заявляют о себе здесь медленным ухудшением погоды. Они появляются, в буквальном смысле из ясного неба: Без того чтобы их можно было действительно сразу заметить – ветер дует всегда – облака цвета серого капока налетают со стороны моря так быстро, что в миг затемняют солнце. Непосредственно за этим авангардом следуют развернутые веером тусклые грузные облака. И практически тут же город накрывают первые капли дождя. Проходит всего несколько минут до тех пор, пока водостоки не забурлят, и по всему городу спешат по ливнестокам к заглатывающим их колодцам потоки с одинаковым, напоминающим икоту и чавканье, звуком. И когда уже кажется, что весь город должен утонуть в этом сильном сливном потоке, ливень внезапно прекращается. Как по мановению волшебной палочки. И вот уже солнце снова сияет на умытом небосводе. Парусящиеся облака, плывут брасом дальше внутрь страны и снова открывают солнце, да так быстро, как будто прошедший ливень был совсем не серьезным. После этого повисает ослепительный блеск и сверкание: Покрытые асфальтом улицы, ведущие от гавани наверх, обычно черные как смоль, серебрятся от прошедшего ливня, крыши сверкают, напоминая всполохи молний, а вода, не успевшая стечь с домов по водосточным желобам, капает с крыш, зависая как станиоль на темно-пегих от дождя фронтонах домов. Иногда таких неожиданных ливнепадов бывает по пять-шесть в день! А в иные дни, облаков не бывает и за целый день. Практически постоянно, высоко за линией горизонта, надвигаются все новые облака, неупорядоченными группками, мокрая бахрома которых иногда скрывает и крыши и стены зданий, придавая им какой-то новый, загадочный вид. А иногда бывает, что и на второй день дождь никак не закончится. И из этого шумного бурного ливня раздается заунывное, неумолчное журчание воды струящейся в ливнесброс. Иногда кажется, что неведомый случай точно регулирует падение дождевых капель. Часами падают они абсолютно равномерно, никакого замедления, никакого намека на то, что источник небесной влаги иссяк и вдруг – ливень полностью прекращается! Также никаких вариаций в силе ветра, направление которого всегда неизменное: с запада. Дома дождевой шквал налетал с востока. Здесь все наоборот. Разговоры с самим собой – это мой щит: Парировать рассерженный взгляд, противостоять безумию – удается делать довольно долго, но затем наступают часы депрессии. В La Baule было тоже самое. Несмотря на щебет Симоны меня это буквально убивало. Там даже Старик вел себя по отношению ко мне и всему штабу флотилии как сумасбродный упертый нацист. Офицеры-подводники – это тщеславные простаки, перед которыми можно было разыгрывать все, что хочешь. И вот уже перед глазами, как наяву возникают и парижские мракобесы и верящие в Фюрера заговорщики в Коралле.
Какое отношение я имею ко всей этой своре?
30 января 1933 года, когда орды штурмовиков СА, с факелами поднимались в по дороге из Касберга в Хемниц – с тем чтобы пройти по кривой, напоминающей букву S, на которой трамваи всегда издавали страшный скрип и писк – голося свои ревущие песнопения, а я 14-летний мальчик говорил: «Вот это театр!», я впервые смог почувствовать, что массовая истерия может резко смениться дикой агрессией. Парни и женщины, стоявшие в колонне плотной стеной, образовывая настоящую реку потока огней, убили бы нас в момент, если бы моя мать чисто интуитивно не вскинула руку в гитлеровском приветствии, не прижала бы меня другой к себе и не заорала бы истошно «Хайль! Хайль! Хайль!».
«Это – начало конца!» Для моей матери это истина была очевидна, и те, кто приходил к нам, выражались похоже. Тогда еще никто не прятался за неопределенно пустыми фразами.
– А где, собственно говоря, живут твои родители? – интересуется у меня Старик, когда я захожу незадолго до полудня в его кабинет, таким тоном, как будто бы он почувствовал, что я только что унесся мыслями в Хемниц.
Вопрос бьет меня словно удар под дых.
– Ты хочешь знать это по служебной необходимости? Я имею в виду...
– Нет, просто так, – поспешно успокаивает меня Старик.
– Где живет мой отец, жив ли он еще вообще – я не знаю. Не имею никакой связи с отцом.
«Хорошая наследственность – это так здорово!» – констатировал мой господин Папаша, когда я, после десятка лет полного забвения, впервые посетил его, и, говоря это, он не заметил, как сильно ударил меня по колену, простота святая.
– А где твоя мать?
– Где она теперь, я не знаю. Мы потеряли нашу квартиру. Я живу, так сказать, без домашнего адреса. Мой брат – летчик – летает на самолете-разведчике где-то в России. Если ему пока везет, то он все еще жив. Во всяком случае, у меня нет никаких вестей о нем.
– Вот этого я не понимаю. Ты же недавно был в Берлине? А там ты бы мог получить известия о нем.
– Теоретически. Но меня тут же отослали обратно. Я должен был тут же развернуться и adieu. А потом на меня навалились другие заботы.
Старик, должно быть, заметил, что эта тема мне неприятна, поскольку теперь он погружается в полное молчание. Но почему мы должны были сцепиться? Как-никак, у нас такое впервые, что Старик спрашивает меня о моем происхождении. На лодке U-96 все, что касалось личной жизни, было табу. Прежде чем Старик может еще попытаться перейти теперь уже на другую тему, я спрашиваю его, хотя уже давно кое-что знаю о нем:
– А как у тебя сложилась жизнь?
– Обыкновенное кадетское воспитание, если ты, конечно, можешь себе это представить.
– Только в соответствии с моделью господина Райберта: кадет – это надежность, умение, послушание, неустрашимость в бою, молодцеватость – и естественно слепое подчинение приказам.
– Если хочешь, где-то так. Но ты можешь оставить господина Райберта в покое. Мой отец был кадровым военнослужащим, в звании «вертела», так сказать. И потому это напрашивалось само собой – я имею в виду кадетское воспитание.
– Совсем не веселое дело.
– Скажем так: не совсем такое, как у твоей деградирующей богемы, которой ты так поклоняешься.
Старика заметно радует, что у него для меня нашелся этот язвительный удар. Он чешет за правым ухом, и впервые это не выглядит жестом смущения. «Солдатская радиостанция Кале» сообщила, что немецкая подлодка была потоплена после пятнадцатичасового преследования ее кораблями союзников и бомбежки глубинными бомбами. Я узнаю это от зампотылу в клубе. Пятнадцать часов! – мне становится дурно. Не думаю, что господа дикторы преувеличивают. С такого рода техническими данными английская радиостанция точна. Пятнадцать часов: Мне не надо напрягать всю мою фантазию – картины вероятной трагедии появляются самостоятельно. И пока я тупо пялюсь в пространство передо мной, меня буквально разрывают вопросы без ответов: Были ли у них хоть какие-то паузы в этом преследовании и бомбежке? Сколько преследователей гналось за ними? На какой глубине бомба попала в лодку? Чья вообще была эта лодка? Называл ли зампотылу номер лодки? Поднимаю голову и встречаю взгляд зампотылу:
– Кто же это был?
– Хорстманн.
– О, Боже! – вырывается у меня помимо воли.
Старик, который как раз вошел, услышал мой возглас:
– Ну, ну, ну что случилось?
Зампотылу молчит. А мне хочется вскочить и нестись куда-нибудь сломя голову. Однако, вместо этого я глубоко вздыхаю и объясняю:
– Речь шла как раз о Хорстманне...
Старик застывает и не двигается.
–... нашему Фюреру и высшему Главнокомандующему троекратное «Да здравствует Победа!» – это гремит из радио.
Скосив взгляд, вижу, как наш доктор пытается совладать с собой. Насколько я его знаю, он бы сейчас с удовольствием, скорее даже из большого подхалимажа перед командиром, заткнул бы радио ударом кулака, чтобы заглушить этот вой. Но, кажется, доктор слишком погружен в свои мысли. После третьего ревущего «Да здравствует!» он вдруг орет как резаный:
– Не может ли кто-нибудь прекратить этот проклятый балаган? Проклятье!
– Ну, ну, ну! – слышу вполголоса из глубины помещения. А затем еще один:
– Держите нервы в узде!
Как долго, спрашиваю себя, доктор сможет выдерживать такое напряженное состояние? Кто-то со стуком опускает стакан на небольшой круглый стол, поднимается одним рывком, громко говорит:
– Приятного аппетита! – поворачивается и направляется к переборке.
– Нервы! – слышу снова.
Так как молчание становится все более тягостным, какой-то лейтенант обращается к присутствующим:
– А что происходит сейчас в России?
Никакого ответа. Того, что происходит в России, никто совершенно не хочет знать. Названия городов, которые диктор скрипучее оглашает по радио, влетают в одно ухо, а вылетают из другого не вызывая никаких чувств и эмоций.
– То, что должно, то там и происходит! – запоздало раздается голос инженера-механика флотилии, к общей неожиданности. – Там наши побеждают, господа мои. Побеждают, побеждают – нет ничего иного, кроме победы!
– Точно так! – отвечает лейтенант. – Мне просто хотелось узнать немного точнее...
Снова воцаряется молчание. Инженер-механик положил оба локтя на подлокотники своего кресла, а руки сложил на животе. Слегка подавшись верхнею частью туловища вперед, он заинтересованно рассматривает лейтенанта через верхнюю дужку своих очков: Взгляд психиатра. Сидит он так довольно долго, но лейтенант этого не замечает.
Но как только они встречаются взглядами, инжмех резко расцепляет сложенные руки и хватает стакан. Подчеркнуто громко он поднимает тост:







