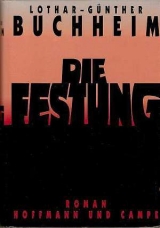
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 111 страниц)
МИННЫЙ ПРОРЫВАТЕЛЬ
Мне недостает чертежных кнопок или металлических скрепок, чтобы прикрепить к доске мои бумаги. Если не прикрепить листы, то ветер закручивает их пытаясь унести с собой. Надо поискать магазин, где можно было бы купить чертежные кнопки. Но пока это мне не удается. Почти все магазины разрушены.
Гостиница «Hotel de la Paix» на Rue Algeciras. Парадокс: даже последнее слово в его названии не смогло отель защитить. На разбитом фронтоне все еще висят три большие белые жестяные буквы, образующие слово PAX. Они ярко видны среди разрушений. Эти буквы напоминают мне большую настенную надпись «JESUS» на Репербане и бомбардировку той площади.
Не могу понять, почему в этом так сильно разрушенном городе проживает так много французов. Что удерживает их здесь и заставляет страдать от несущих смерть воздушных налетов?
Я экипирован для рисования довольно бедно: нет даже скамеечки, молчит и мой мольберт. Оба предмета моей гордости не прибыли с транспортом из Ла Боля. В Париже еще можно было бы достать добротные, хорошо сделанные мольберты. Но здесь об этом даже смешно подумать.
Ладно! Хватит! – командую себе.
Мне предстоит пройти добрую сотню метров по Rue de Siam, до одного разбомбленного углового дома, который я заметил сразу по приезду. Кучи щебня и бархатно-черные обугленные высокозадранные балки. И повсюду серые, бахромчатые облака опушенных гардин. Хороши для рисования, и просто для набросков. Тростниковым перышком! – мелькает мысль, – Как Ван Гог.
Закончив рисовать, направляюсь к торговому порту.
Здесь полно бесконечных пустых улиц, которые на сотни метров являют собой ни что иное, как ущелье из просмоленных деревянных стен складских ангаров, висящих повсюду обрывков кровельного толя, поблескивающих осколков стекла на земле. По обеим сторонам грузовые платформы. Когда пробираешься по такому покрытому пылью каньону, вдруг утешаешься тем, что никакой ангар не может быть бесконечен настолько, что даже нет и метрового просвета взглянуть на портовые сооружения. Но иногда меж двух ангаров видны пустые места, перегороженные тонкими высокими бетонными стенами, с остро торчащими вверх, поблескивающими зеленым светом бутылочными осколками.
Солнце проглядывает в облаках и под ним высвечивается вся уродливая живописность порта. Драгоценность жалости и гордость нищеты. Грозный, покрытый масляными и нефтяными пятнами док с завалами из деталей каких-то машин, механизмов, зубчатых колес, разорванных звеньев якорных цепей. Вся эта груда сияет подл солнцем алмазными россыпями своих сколов. В доке лежит охотник за подлодками – переделанное китобойное судно, которому я уже удивлялся несколько дней тому назад: нос высоко задран из-за взлета палубной линии. Нос сильно вытянут вперед: гигантский лемех для распаривания морской глади.
Мореходные качества этого корабля настолько очевидны, что я словно наяву вижу, как он трудится в бушующем море. Сами по себе линии носа мало говорят о бурной морской стихии, в которую он то и дело бросается могучими волнами.
У этого корабля ярко виден новый подводный штрих: изумрудная, похожая на мох зелень.
Неподалеку целое поле гребных винтов, словно листья капусты, желающие покрутиться вокруг своей оси, да намертво пришитые к земле. Здесь же настоящие горы якорных цепей с гигантскими звеньями. Наиболее пригодные из них окрашены в черный цвет и аккуратно уложены. По соседству буквально завалы всевозможных частей каких-то механизмов. Для чего они? Между всеми этими участками возвышаются горы металлолома из техники. Здесь же и корпус какого-то парусника, словно подготовленный к конопачению – серо-белый от соли и возраста. Он гордо возвышается среди всех этих железок, будто желая выделиться из всего этого металлического абсурда своими чистыми формами. Даже в этом порту я сумел бы нарисовать целую сотню картин: бесконечные валы серых тонов, пронзительно-яркий красный сурик, коричневая ржа…. И, тем не менее, хочу уехать из Бреста.
Однако только здесь у меня есть единственная возможность напасть на след Симоны. Я просто не могу позволить ей сидеть в застенке или концлагере! В Париже, а уж тем более в Берлине, все мои такие попытки были бы ОЧЕНЬ опасны. А что произойдет здесь, если вновь заявится контрразведчик, если начнется движение фронтов, если перестанут работать телефоны между Реном и Парижем, между Реном и Берлином и между Берлином и Парижем?
Старик – он то ведь должен суметь еще что-либо предпринять! У него же наверняка есть возможность обратиться к Командующему подводным Флотом или же попытаться что-либо сделать за его спиной. Едва родилась эта мысль, как я понимаю, что все это совершенно невозможно. Прежде всего, невозможно вопреки приказа командования покинуть наше расположение. И более того: я абсолютно уверен, что Старик пытается по мере возможности разыскать Симону. Может быть, в этот самый миг он ищет ее.
Забота за заботой…. Не представляю, куда они угнали мою мать…. Что случилось с Царем Петром…. Где остался мой брат….
Странно, что Старик ни разу меня об этом не спросил. А я сам, разве я спрашиваю Старика о ЕГО семье?
А что произойдет, когда янки прорвутся? Не понимаю, почему они этого до сих пор не сделали?
Еще накаркаешь! – торможу себя. Ну а что делать в моей ситуации? И тут же говорю себе: Не паникуй! Труды, называемые фолиантами, что насочинял маленький господин из Кенигсберга, со странным именем Иммануил, тоже успокаивают, словно сеанс у спирита….
В большом доке, куда, наконец, я добираюсь, лежит огромный брандер. Широкой посадки и могучий на вид, с точенным вертикальным носом. Корабль, от которого требуется не скорость, а достаточно большое место для груза. Клюзы, якоря, люльки маляров висят на высоких бортах: повсюду красят.
Проходящая мимо гигантская колонна тяжелых, пыльно-песочного цвета грузовиков Организации Тодта привлекает мой взгляд. Черт его знает, что еще они надумали бетонировать.
Наверное, перекрытия Бункера, которые требуется еще усилить. А может еще что, кто знает?
Когда завесы пыли опадают, оцениваю свет. Свет хорош. Солнце стоит пока еще не очень высоко.
Так, за работу! Мне НУЖНО нарисовать этот могучий корабль в узости этого дока. Он выглядит как древний, гигантский кит, заскочивший по ошибке в это ущелье.
Что мне сейчас надо, так это repoussoir, чтобы придать глубину рисунку. Присаживаюсь на пирсе с названием Jet;e de l’Ouest: потрепанные рыбацкие лодки в Quai de la Douane я возьму на передний план, а ангары и старые дома – на задний. С их выцветшими, плотно закрытыми ставнями и осыпающимися фасадами, они выглядят как гномики – безумное противоречие с этим гигантским, чистым кораблем.
На пирсе не видно ни одного человека. Здесь повсюду штабеля досок и бочки, но они дают мало тени. Приходится расстилать все свои пожитки на ярком солнце.
Еще раз пристально осматриваю небо и начинаю работать. Как всегда, первые пять минут решаю: быть удаче или провалу. Мне надо сразу найти обрамление картины и одновременно основные контрасты. Подсознательно считаю минуты и оттягиваю сигнал воздушной тревоги: мне надо всего полчаса тишины и я закончу.
Когда уже полностью поглощен работой, меня прерывают: кто-то загораживает свет. Это какой-то матрос, стоящий прямо передо мной. Вытянувшись по стойке, он орет:
– Господин лейтенант! Вы должны прибыть к командиру!
– К какому командиру? – спрашиваю ошеломленно.
– К господину капитану Фройденрайху! На наш минный прорыватель – вон туда!
Матрос показывает на большой, словно кусочками детской игры «пазл» раскрашенный в зеленые, коричневые и белые цвета маскировки, уродливый корабль, стоящий справа от меня в соседнем доке.
– Передайте, пожалуйста, вашему командиру, что я желал бы сначала закончить мою работу…. Кстати, у вас на борту есть приличный кофе?
Боже мой! Вот незадача! Если я выйду из такого состояния вдохновения, с которым начал картину, то могу с ней попрощаться. Напряженно пытаюсь умерить свой гнев и приказываю себе: Ни на волосок не отступать! Собраться и закончить! Собрать большие формы воедино! Собрать в кучу все эти потрепанные ангары вот сюда, прекратить вырисовывать эти вот ряды окон. Широкий взмах здесь и здесь – вот так, теперь все разделить, а решетку из мачт – на передний план.
Кажется, матрос отступил от меня.
Светлая синева кобальта задрипанных рыбацких лодок – если бы мне только удалось это передать! К этому примешать мягкие тени и легкий кобальт. Вот так и еще вот тут тушью – раз и два. И еще взмах вертикально кистью! Как здорово берет бумага тушь с кисти!
В глубине подсознания слышу, поскольку вновь нахожусь в лучшем, чем прежде настроении, равномерный стук по булыжной мостовой пирса. Уголком глаза вижу унтер-офицера с двумя матросами остановившимися на солнцепеке и пялящимися на меня. Не верю своим глазам: полное обмундирование, каски на головах, штыки. Не хочу верить, что все это ради меня.
– Приказ командира! Господина лейтенанта доставить на борт! – слышу рев боцмана.
Меня охватывает гнев: швыряю кисть на мостовую, туда же летит мольберт, и резко ругаюсь:
– Проклятье, что значит весь этот цирк?
Унтер явно ошарашен:
– Приказ командира! – только и может он произнести тихо.
Под эскортом патруля волокусь обратно по Jet;e de l’Ouest и затем следую за ними по косолежащему трапу. Несколько человек стоят в малярных робах. Какой-то унтер с оснасткой стоит навытяжку: «Сюда, господин лейтенант!»
Ногу выше, голову вверх, полутемный спуск, узкий коридор: вперед или назад? В конце переборка. В голубой куртке с четырьмя полосами: три широких и одна узкая, за письменным столом, сидит шкафоподобный директор банка, с мясистым, раскрасневшимся лицом. Едва поднимаю руку в приветствии, как он поднимается с места и ревет:
– Как вас зовут? Из какой вы части?
Вместо того, чтобы ответить, с подобострастием, как можно более по-граждански, говорю:
– Разрешите спросить, господин капитан, благодаря каким своим заслугам я обязан этому почетному эскорту?
У директора банка в морской форме, мгновенно вздулись вены на висках от гнева и он рявкает:
– Как вы посмели не выполнить мой приказ?!
Я потерял дар речи: не могу понять, что взбесило этого мужика? А тот все орет:
– Вы посмели, без моего на то разрешения, рисовать мой корабль!
Вот этот несуразный пароходик? Я прямо огорошен. Хочу ответить, но не могу, потому что в этот миг из красного от гнева лица снова несется:
– Как вы посмели без моего на то разрешения, без всякого доклада мне, рисовать мой корабль?! – и опять гневный рык сотрясает каюту: – Без моего командирского разрешения?!
Это словно сцена из театра абсурда. Безумие какое-то: я едва ли принял во внимание этот гротескно раскрашенный пароходик в доке! Хотел было объяснить этому чокнутому, что меня более интересуют старые грузовые ангары и французские рыбацкие лодки, да еще брандер, но никак не его закамуфлированный пароходик, но молчу.
На темных досках задней стены вижу герб, висящий на трех желтых медных цепочках, под ним четыре громоздких кресла. Широко открытыми глазами впитываю в себя совершенно невоенное убранство каюты, синие жилы на носу чокнутого капитана, его толстенную фигуру, поперечные складки на впритык сидящей на нем форме.
– Что вы себе позволяете?! – ревет мой противник вновь, – Я могу предъявить вам обвинение в нарушении приказа! Кому вы подчиняетесь в дисциплинарном порядке?!
– ВМоВК «Запад», в Париже! – лепечу в ответ.
– Это еще что за что?!
– По ВМоВК «Запад», я ответственен за подлодки – моя рота ВМоВК в Ла Боле у Сен-Назера, господин капитан!
– Я сам знаю, где находится Ла Боль! – рявкает капитан, – Я хочу, в конце концов, узнать, кто является вашим непосредственным начальником!
– Вероятно, господин корветтен-капитан Фукс из ВМВК, отдел ВМВК Печати ВС, – предполагаю я, – А в данный момент я непосредственно прикомандирован к 9-ой флотилии подлодок кригсмарине. Командир – господин корветтен-капитан Генрих Леманн-Вилленброк. Если господин капитан….
– Вы! Вы!....
На подбородке ощущаю капли слюны вылетающие из его рта. Ну, это уж слишком!
– Если господин капитан постарается не плеваться, я очень оценю это!
Реакция последовала мгновенная: лицо его стало свекольного цвета, легкие заработали словно насосы, а затем разнесся звериный рык:
– Так… так…. Невероятно! С такой неслыханной дерзостью говорить со мной! Да я Вас сейчас…
Вместо того, чтобы что-то отвечать, я освобождаюсь от мольберта, кладу его на письменный стол, прямо поверх каких-то бумаг и лезу в бумажник.
Опершись на свободный участок стола крепко сжатыми кулаками, и откинув тело чуть не на полметра, капитан смотрит на меня широко открытыми глазами. Едва подав ему аусвайс, как можно более равнодушно интересуюсь:
– Господин капитан считает меня шпионом?
Капитан старается выхватить удостоверение у меня из рук, но я крепко держу его за верхний край: – Извините, я не могу выпустить удостоверение из рук! – заявляю отважно.
Изверг кажется в первый раз смущенным, а я пру напролом:
– Вот здесь Вы видите мою работу. Больше о ней нечего сказать. Вы мне ее испортили! Кстати, Ваш корабль, убедитесь-ка сами, я вообще не брал во внимание!
Что-то произошло с моей обычной сдержанностью: Я буквально киплю от долгое время сдерживаемого внутри гнева и непреодолимого желания сцепиться с этим скотом. Но тот, все еще трясясь от ярости, выхватывает из моей папки несколько листков, где серым цветом, на коленкоре отпечатан фотопропуск с изображением печати Верховного Командования Вооруженных Сил. На его красном, рифленом подбородке выступили крупные, блестящие в боковом свете капли пота.
Наконец этот изувер, более-менее нормальным голосом негромко говорит:
– Немедленно покиньте мой корабль!
– О Боже! Ну и компашка! – стону, когда держа под мышкой мольберт, вхожу к Старику, чтобы доложить о прибытии в расположение.
– Чего ты так? – удивляется тот.
– Свара – мать их так…
– С кем?
– С командиром минного прорывателя, там внизу, в доке. Ты его знаешь?
– Не имел удовольствия. Сядь и передохни. Не понимаю, чего ты кипишь?
Но меня уже понесло!
– Что тут понимать, ради всего святого? Вообще-то я хотел бы знать, что такого секретного на этом пароходике? Сотни французов каждый день могут спокойно его сфотографировать – из сотни окон он как на ладони. Кого интересует это корыто?
– Наплюй и разотри! – машет рукой Старик, – эти господа просто не в форме.
– Так я что, каждый раз увидев перед собой в бухте десятки кораблей, которые собираюсь рисовать, должен докладывать о себе каждому из капитанов?!
– Жизнь жестокая штука! – только и отвечает Старик.
Мелькает мысль: Чертовски повезло еще, что я был в форме офицера, иначе Бог знает, что мог бы сделать со мной тот красномордый толстяк….
– А жаль, что он тебя не заковал в кандалы, – смеясь, произносит Старик.
– Да судя по всему, он был уже на грани этого! – парирую напыщенно.
Старику посылаю такую саркастическую усмешку, которую он мог увидеть лишь у своего зампотылу.
Капитан минного прорывателя пробудил во мне воспоминания о других извергах и придурках. Более всего о Глюкштадте. Та еще травма!
От сильной бессонницы я почти свихнулся. Вот было бы здорово связкой гранат поднять на воздух это «военно-морское точило»! Однако, где найти на все это смелость?
Я частица этого до крови истерзанного, но управляемого стада.
Эти придиры всегда придумывали все новые, особые мероприятия и способы их проведения, лишь бы лишить нас сна: ночные тревоги и ночные марш-броски с полной выкладкой, дежурство на КПП, противовоздушная вахта в казарме, противовоздушная вахта в недостроенном военно-морском госпитале…. И все это пока мы полностью не валились с ног от всех этих вахт и нарядов. Иногда, во время наряда по госпиталю можно было посидеть – на гробах. Там весь чердак, до самого верха, был уставлен гробами. Гробы стояли на гробах штабелями. В этом недостроенном госпитале еще не было медоборудования, стены и двери были не покрашены, зато уже был готов запас гробов. Сырая ель, лишь слегка покрытая темно-коричневой морилкой.
Эта картина горы гробов и сейчас поднимает во мне волну жалости к самому себе. Столько гробов было ничем иным как насмешкой над Глюкштадтом.
Вижу себя неуклюже, словно на ходулях, выхаживающим по плацу. Сплошное недоразумение! При этом держу предплечья под углом, а ладони повернуты вверх: так я несу воображаемую подушечку для орденов перед животом. Передо мной так же, по журавлиному вскидывая ноги, идет курсант, представляющий собой лошадь. Вокруг нас носится боцман с секундомером в руке и орет мне в ухо, что я делаю в минуту пять лишних шагов:
– Приказано делать медленнее похоронный шаг, ты, кретин!
А мы уже шесть часов на этом чертовом плацу, со всей выкладкой, тренируемся. Упражнение называется: «Сопровождение проводов покойника». Двумя часами ранее я сам был лошадью. Затем мы поменялись. И так все время, в то время, как в Гамбурге на счету была каждая пара рук.
Вечером я уже шел в траурной процессии командиром стрелков и в конце этого безумия должен был приказать: «Для залпа – товсь! Стволы под углом – вверх!» – пауза. А затем во всю мощь легких: «Пли!» И опять, и опять. Но однажды я забыл, то ли щелкнули курки в третий раз, то ли нет. А потому опять заорал: «Для залпа – товсь!...».
Тут начался настоящий ураган. И сейчас еще слышу рев боцмана: «Ты, кривая жопа! Четыре залпа! Ты совсем спятил? Ты с какой целью это все сделал? Да я тебе жопу разорву до глотки!»
И все же: в моих воспоминаниях блекнут глюкштадские пытки, словно смотрю на них с вершины Оберйоха. Гора Оберйох в городке Альгау. Альпы: там располагался мой трудовой лагерь. Отто Ритер фон Коравек звали того чокнутого, которому мы достались на наше горе и его радость совершенно беззащитными.
Трудно представить, что ему никто не расколол череп лопатой. А ведь в нашем отделении были парни, которые не были такими тормозами, каким был один чмо из нашей учебки. Даже сегодня не понимаю, почему они позволяли себя бить.
По какому праву этой банде разрешалось делать из нас садистов? Кто отдавал приказы этим безумцам, которых натравливали на нас, будто кровожадных псов готовых кусать и рвать?! Бывшие бойцы «Фрайкора» – Свободного Корпуса, с разбитой жизнью – такие люди нужны были службе занятости в качестве руководителей подобных лагерей.
«Добряк» Веппер слег в койку подо мной: болезнь его называлась менингит. Вечером он еще носился туда-сюда трясясь от злобы и ревя: «Левое плечо вперед – шагом – марш!», а утром лежал уже холодным, посиневшим трупом.
Писарь, унтер-офицер Милло, изливает мне свою душу. Он женат уже два месяца. Ему тогда дали четыре дня для поездки домой. Мечта же его – это иметь свой домик. Он считает вслух: вот, сколько он зарабатывает в месяц, а вот, сколько она, его жена. Военное жалование, бортовая прибавка, фронтовая прибавка….
– Это больше не вопрос!
– Что?
– Выпивка! – Свое пузо Милло получил от непомерного употребления пива.
Затем он выкладывает фотографии. Заставляю себя терпеть. Девушка в купальнике, она же перед каким-то памятником. А вот на краю колодца.
– Моя жена! – сдавленно говорит Милло и покачивает головой так, словно представляет мне ее вживую. На маленьких фотографиях едва различаю его вторую половину, но говорю тем не менее:
– Выглядит прекрасно!
Лицо унтера Милло расплывается в улыбке.
Когда тяжело бреду по расположению флотилии, ноги заплетаются от усталости, но ушки держу на макушке.
У окопа, перед главными воротами, какой-то боцман рассказывает своим товарищам сидящим по кругу около бочки с водой, куда они бросают окурки:
– На обратном пути, в Бискайском заливе, так вот там, наш первый помощник капитана был ранен при очередном воздушном налете в шею – в сонную артерию – но как! Такое море крови ты себе даже представить не можешь! Весь центральный пост был полностью залит…
– И что вы с ним сделали? – спрашивает кто-то из сидящих в кружке.
– Да, это было тяжело. Как можно перевязать шею? Все что осталось, так это сунуть палец в дырку, чтобы остановить кровь.
– А морфий?
– Да дали мы ему морфий и тут же палец опять в дырку. И так 36 часов сменяя друг друга.
– А потом?
– Что потом? Потом он отправился к праотцам….
– Помер что-ли?
– Ну, я же ясно выразился! Обидно, что все наши усилия пошли коту под хвост!
Некоторое время все молчат. Затем, тот же боцман опять говорит:
– Мы не хотели предавать его морю, – боцман говорит монотонно, словно пастор
– Так вы его…
– Да. Он два дня лежал на своей койке.
Кто-то чертыхается. Другой тихо произносит:
– Знаете, вчера вернулся Ульмер. Это была его третья попытка.
– Скоро отсюда вообще никто не вырвется. Сто процентов!
– Лодки, что были готовы перебазироваться, тоже все еще стоят здесь.
– И тральщики…
– Да уж! Полна коробушка!
– Заткни глотку!
– Что случилось с Ульмером? – интересуюсь у Старика в его кабинете.
– Ему вечно не везет. В этот раз прорыв воды через клапан выхлопа. Но с этим он справился. Однако затем сломался поршень, скорее шатун полетел. Черт его знает теперь, когда он станет в строй.
Мелькает мысль, что после этого, наверное, парень и сломался. Также было и с Зсехом. Одно ЧП за другим, пока он сам не почувствовал, что невезуха просто достает его, лично его. Невезуха…. Позор флотилии…. И он застрелился с горя.
– Может нужно его просто сменить?
– Если в общем, то можно! – реагирует Старик. И поскольку я пялюсь на него непонимающе, он бормочет: – ДОЛЖНЫ сменить!
Старик замолкает. Он демонстративно ворошит бумаги на своем столе….
Вечером, когда со Стариком идем в его кабинет, он вдруг вновь поднимает эту же тему:
– Сменить командира – не так-то это и просто, как ты думаешь! Вот наш Доктор – мужик рассудительный. Так вот он говорит, что любому человеку требуется отдых. Но ни один из них не подошел и не сказал: «Я так больше не могу!». Не думаешь ли ты, что человек ответит положительно, если его спросить, в порядке ли его нервы?
– Но ведь это сидит в человеке, внутри его, и это может взорвать его. И нет никакой дилеммы, когда через четкие приказы прослеживаются четкие отношения. Но если кто спросит такого человека, по большому счету, хочет ли он быть замененным, он НАВЕРНЯКА откажется. А так все портить как ты, разве это не тот же метод? Так поступал Дениц с командирами флотилий. То ли оставлять, то ли нет. Это из той же оперы!
– ТЫ это говоришь!
Старик трет подбородок, и щетина потрескивает под его пальцами.
– Ясность приказа – это было бы по-христиански. Но такое происходит крайне редко!
– Ну-ну, болтай-болтай…. – бормочет Старик.
Солнце скрывается за облаками. Скоро все поглотит вечер. В четырехугольнике окна не осталось никаких цветов кроме сине-серой однотонности облаков и воды рейда. В комнате темнеет. Но Старик все же не зажигает свет.
По соседству тихо: адъютант закончил работу….
Какое-то время никто из сидящих не говорит ни слова. Тогда вновь вступает боцмаат:
– Непосредственно из порта мы хотели выйти в море.
Боцмаат говорит, словно пастор с амвона.
– Так вы его тоже...
–Да, он провалялся два дня на своей койке.
Кто-то тяжело пыхтит и произносит
– Ба!
– Кстати, – говорит другой, – Вчера вернулся Ульмер. Это была его третья попытка …
– Скоро отсюда вообще больше никто не выйдет. Так можно остаться совсем одним.
– Патрульные суда, которые должны были быть перебазированы, тоже пришли обратно.
– И тральщики тоже.
– Да уж, лавочка просто полна под завязку.
– Эй, заткни-ка там свою глотку!
– Что с Ульмером? – спрашиваю Старика, оказавшись в его кабинете.
– Ему всегда просто дьявольски не везет. В этот раз это была течь на выхлопном патрубке. Устранили. Но затем сломался поршень, скорее, шатун. Дьявол его знает, когда он наконец встанет в строй....
Думаю: наверное, парень уже спасовал. У Чеха все было также отвратительно. Одна неприятность за другой, пока он не почувствовал, что неудачи преследовали лично его, следуя за ним по пятам. Неудачник. Позор флотилии. А потом он застрелился.
– Его может быть следует заменить?
– Давай-ка используем здесь сослагательное наклонение! – возвращает мне Старик. И, пока вопросительно таращусь на него, он рычит:
– Его следовало бы заменить.
Старик не хочет продолжать разговор и демонстративно погружается в ворох бумаг на столе.
Вечером Старик возвращается снова – когда мы входим в его кабинет – к моему удивлению к поднятой ранее теме: – Заменить командира – это не так просто, как ты думаешь. Хотя мысли нашего врача кажутся мне действительно разумными. Он говорит мне, что иногда человеку надо отдохнуть. Но сам по себе, никто не приходит и не говорит: «Я больше не могу». Как ты думаешь, такой человек, как Эндрас, например, сумел бы запросто ответить на вопрос, все ли в порядке у него с нервами?
– Это удар исподтишка, прошу прощения! Дилеммы нет, если имеются четкие приказы на четкие условия боевой задачи. Но когда человека всерьез спросят, захочет ли он быть освобожденным от выполнения приказа, он, безусловно, должен такую попытку отвергнуть. А разве извращать вещи так, как ты уже пытался, это не метод? Денниц так и сделал с командиром флотилии, когда поднялся вопрос продолжать вести дела, как было или нет. Мы это уже проходили. Старая песня!
– Ты утверждаешь, – Старик потирает подбородок растопыренной ладонью, и слышно потрескивание щетины, – Четкость приказов – мол, так было: что-то вроде Евангелия. А теперь, мол, такое происходит от случая к случаю. Послушай моего совета: Болтай-ка об этом потише – глухо бормочет Старик.
Солнце скрылось за грядой облаков. Скоро опустится вечер. В квадрате окна, не осталось никаких цветов кроме серо-голубых унитонов облаков и морского рейда. В комнате начинает темнеть. Но Старик, вероятно, еще долго просидит, не включая свет. Наступает тишина, адъювант уже закончил службу.
Из-за высокого окна также не проникает ни звука. Такая тишина одновременно и удивительна и подозрительна! Во всем здании жутко тихо. Мы сидим друг против друга молча, словно два покинутых и забытых после работы человека в большом офисном здании: Наверное, скоро придет охранник с проверкой, все ли в порядке и что мы тут делаем, в то время как другие сотрудники уже седьмой сон видят.
Я вижу Старика теперь лишь как силуэт на фоне вечернего света в окне: он упорно молчит.
Когда он, наконец, вновь разваливается в кресле и раскочегаривает причмокивая свою трубку, он дымит так сильно, как если бы хотел скрыть нас в завесе дымного тумана. Наконец, из этого тумана вновь доносится его голос:
– Ты был такой разговорчивый. Почему ты, собственно говоря, так мало рассказываешь о фронте Вторжения? То, что я слышал от тебя, я и так это знал!
– Потому что это не укладывается в рамки.
– Укладываться в рамки – что это означает?
– Знаешь, я лучше поясню свою мысль примером. Вот что пришло мне сейчас вспомнилось: я, прежде чем добрался до Барраса, иначе говоря, во Флот, совершил большой поход по воде. Вниз по Дунаю, на раскладном каноэ и прямо в Черное море и на Константинополь. А на обратном пути посетил Венецию, а затем по прямой через Инсбрук, Миттенвальд и Гармиш. Там есть поезд, который поднимается на гору Мартинсванд...
–К чему ты это все говоришь? – Прерывает меня Старик. – Мартинсванд мне ни к чему – я хотел бы услышать от тебя хоть что-то о Вторжении!
– Суть вот в чем: Там в купе сидели много теток, трещавших как сороки по каким-то пустякам, которые все были где-то вместе летом и трещали они не умолкая: мол, простыни не были хорошо проглажены и несли тому подобную муру. А потом одна из них спросила меня, откуда я еду, потому что у меня был довольно объемный рюкзак, и так как я тогда очень ценил правду, то честно и сказал, что еду из Константинополя. В следующий миг все в купе посмотрели на меня с удивлением, а затем сидящая рядом тетка повернулась ко мне спиной. И с этого момента я перестал существовать для всех присутствовавших – словно был просто воздух. А ведь я ничего не сделал, просто сказал правду – ничего, кроме правды.
Старик пытается какое-то время совладеть со своей мимикой, но начинает странно кривить рот слева направо и снова налево.
– Так я приобрел опыт, как видишь, – заканчиваю я.
– Послушай-ка, – произносит Старик, и теперь, наконец, начинает смеяться: он смеется глубоко внутри, и этот смех звучит у него почти как кашель.
–Тебе хорошо смеяться. А я уже ничего не рассказываю из предосторожности. То, что я мог бы рассказать, может быть легко интерпретировано как пораженчество. Так что лучше будем считать, что никогда ничего не было.
– Чего никогда не было?
–Так много самолетов в небе одновременно, этого никогда не было. Не было и солнца, затемненного летящими копьями – ты уже говорил об этом. А я вижу эту картину как наяву.
– Это все лирика! – произносит Старик презрительно. – Это не более чем лирика! Прочти-ка вот здесь! – И он берет газету со своего стола. – Понимаешь, нам катастрофически не хватает сейчас самолетов с четырьмя двигателями, которые могли бы осуществлять дальнюю разведку для наших подлодок – но вот здесь газета Фолькише Беобахтер доказывает, что четырехмоторники это вздор, и союзники не совсем в своем уме, что строят такие самолеты... и что наши двухмоторные самолеты являются самыми превосходными изделиями, что ты и можешь узнать, прочитав вот здесь....
Я с сомнением смотрю на Старика.
–Вот – читай!
Но, несмотря на это свое требование, он не дает мне газетный лист, а читает сам, с презрением в голосе, вслух: «Зачем нам четырехмоторные бомбардировщики?» – это заголовок!– «... -Германия уже давно является пионером в разработке новаторских разработок в конструировании четырехмоторных боевых самолетов, в то время как американцы только приступают к строительству четырехмоторных самолетов большой вместимости. Поэтому должны быть другие, более весомые причины, тому, что немецкая авиация предпочитает быстрые и проворные двухмоторные истребители-бомбардировщики четырехмоторным конструкциям... В борьбе с вооруженными силами противника быстрые истребители имеют явное преимущество, и как раз четырехмоторные англо– американские бомбардировщики легко сбиваются одним нашим истребителем. Только в огромных стаях эти тяжелые бомбардировщики представляют силу, что, однако тоже довольно сомнительно, о чем свидетельствует увеличение числа сбитых самолетов... (Фолькишер Беобахтер, от 26 мая). Все же не верю: мы годами ищем наши собственные машины, а газета называет это сумасшедшей мистификацией. А вот еще заметка: (Падение Англии в пропасть). Я все время задаю себе один и тот же вопрос: интересно, что это за люди, которые так все расписывают? Это же ваши люди, которые все высасывают из пальца! Эти затушевывания, выкручивание, обман по всем строчкам, это какая-то...







