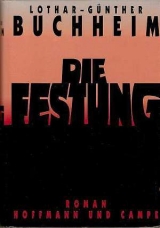
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 84 (всего у книги 111 страниц)
Боцман стоит как оплеванный и только громко дышит. Наконец выпаливает:
– Так точно, господин обер-лейтенант! – и слегка наклоняется вперед.
– Что это значит: Так точно, господин обер-лейтенант? – шумит на него инжмех.
– Немедленно все устраним, господин обер-лейтенант!
– Нет, не немедленно, а тогда, когда кают-компания будет свободна – ясно?
– Так точно, господин обер-лейтенант, как только освободится кают-компания, так я тут же, сам, лично за всем прослежу...
– Вот теперь я вижу, что Вы поняли команду точно, – произносит инжмех с циничной интонацией.
Номер 1 делает разворот, уходя, и я говорю:
– Занавес!
И поскольку инжмех смотрит на меня с вопрошающим непониманием, добавляю:
– Это было действительно красивое, красиво сыгранное театральное представление.
Спустя четыре часа хода под шноркелем, командир приказывает уложить мачту на палубе и погрузиться на 40 метров: Перерыв на обед. В честь этого по лодке снова зазвучала музыка. Не могу понять, как можно выносить эту какофонию.
Уже давно жду, чтобы, наконец, появился маат-радист и сообщил ободряющие новости. Для меня остается загадкой, как наш такой нервный в другой обстановке командир безмолвно выдерживает это мучение.
Мне все еще едва удается заснуть, даже при движении на электродвигателях, хотя на лодке господствует почти кладбищенская тишина. Небольшие звуки поступают от зуммера электро-двигателей. Посплю-ка я лучше во время хода под шноркелем. Правда, дизели шумят, но их грохот снимает мое напряжение и убаюкивает. Шум двигателей, как и всегда, успокаивает меня – хоть на грузовике, хоть в самолете.
Лежу на койке и делаю новую попытку высчитать сегодняшнюю дату, но быстро запутываюсь. Какой день у нас теперь действительно – скорее, какая ночь? Ночь вторника? Ночь среды? Или уже ночь четверга? Начинаю пересчитывать дни от выхода из Бреста досюда. Когда начался большой понос? Когда нам давали куриное фрикасе?
Промежуток времени, начиная с нашего выхода из Бункера, до этого момента кажется мне вечностью. Также давно утеряно представление того, что там за бакбортом находится твердая земля: Приходится здорово постараться, чтобы получить ее мысленные картинки: Стада коров, пережевывающие жвачку в свете луны; реки, текущие в ночном отблеске; утесы, охлажденные лунным светом; влажные луга, колышущиеся в своем зеленом дыхании; скрипящие лягушки в болотистой трясине; спящие косули в травяных кроватях под плотной листвой, угрюмые скалистые гномы под Brignogan – все это я мог бы воочию пережить сегодняшней ночью, если бы не был заперт в этом плавающем гробу...
Чувство потерянности охватывает меня: Мы сидим в этой стальной трубе и движемся, кувыркаясь во времени. Имеется только океан, и ни следа жизни: Все являет собой то Начало, когда из соленых вод едва лишь поднимались макушки скал...
Подсос воздуха дизелем опять на какое-то мгновение перехватывает у меня дыхание: С мечтательным полусном покончено.
Продолжать лежать? Нет!
Решаю: Опять в центральный пост! Это решение дается мне легко, так как мочевой пузырь начинает мучить меня невыносимо. В животе тоже больше не царит ни мир ни покой. Меня бьет сильная дрожь от предстоящей процедуры...
Ладно, попытаюсь-ка выждать еще немного – скажем так: до следующей команды «Слушать в отсеках!». Пора бы ей уже прозвучать!
Когда, наконец, сваливаюсь с койки и принимаю вертикальное положение, замечаю, как отяжелела моя голова. В затылке сидит глухая, двигающаяся боль и над бровями тоже. Пожалуй, от этой боли мне никогда больше не освободиться.
В центральном посту двое заняты странным делом: Они выстукивают консервные банки де-лая их плоскими.
– От банок надо избавиться, – поясняет мне один в ответ на мой любопытствующий вопрос.
– Так значит сейчас, все же, будет выброшен мусор за борт?
– Только то, что не плавает, – следует ответ.
В этот момент двигатели останавливаются: время к прослушиванию. Лишь только дизели смолкают, меня слегка подташнивает от высокого давления. И тут же происходит чудо контр-направлений: Барабанные перепонки втягиваются – и вытягиваются. Словно в черепе им уже не хватает места!
Знаю наверняка: Было бы чистым безумием начать сейчас слушать в отсеках.
Ну, а теперь помочиться! Большое ведро-параша стоящее вблизи свободно. Быстро выпускаю свой хвост наружу и хорошо прицеливаюсь: Вплотную рядом с моим жестким лучом лежит, согнувшись, человек и спит.
Надеюсь, мои кишки еще потерпят какое-то время. Обер-штурман буквально приклеился к своему штурманскому столику. С тех пор как ему прошлой ночью удалось провести привязку по звездам, он знает нашу позицию, но все же снова стремится определить местоположение. Почувствовав меня рядом с собой, произносит:
– До завтрашней ночи можем это сделать...
– Район вокруг La Pallice должен быть Вам уже известен, – говорю как бы между прочим.
– Не в этой ситуации, – отвечает обер-штурман резко. – Видите ли, в прошлый раз мы приходили со стороны Бордо.
Я думаю: Что это за заявление? но только говорю:
– С самого юга...
– Да, господин лейтенант. А мы даже еще не могли идти под шноркелем, потому что они не справились в Бордо с монтированием нашего шноркеля...
– Это мне известно...
– И тогда мы болтались там довольно долго, но все же должны были выйти в море.
Это звучит как: «... на этот раз мы в боле выгодном положении».
– Ну, наверное, Вы, хотя бы с городом познакомились? Я имею в виду La Rochelle…
– Ах ты, Боже мой! Извините, господин лейтенант – там мы были в походе как раз в начале Вторжения...
Обер-штурман говорит это таким полужалобным тоном, словно разочарован тем, что я соображаю с таким трудом.
– Там тогда все должно было пройти как по маслу. Я даже свое барахло не брал – как говорится, господин лейтенант...
В центральный пост передают радиодонесение. Командир бросает взгляд на карандашные записи и делает большие глаза.
– Вот, полюбуйтесь! – произносит он и передает запись мне.
«Подвергшись воздушной атаке – лодка затонула». Стоит номер подлодки и ее координаты.
– Я не понимаю: Это послание предназначено непосредственно нам?
– А как иначе? – отвечает командир. – Руководство остерегалось бы дважды повторять такую радиограмму...
Командир подходит к штурманскому столику с лежащей на нем картой. Я становлюсь вплотную рядом с ним: Хочу увидеть, в каком районе моря была потоплена подлодка.
Найдя место, правым указательным пальцем фиксирую его и, произнеся безмолвными губами номер лодки еще раз, пугаюсь: Это же подлодка Ульмера!
Господи, значит теперь и он!
Командир тоже, кажется, знал Ульмера. Боковым зрением вижу, как он нервно кривит лицо.
Мы стоим неподвижно и молчим. Что можно сказать в этой ситуации? Раньше или позже – когда-нибудь – но это настигнет каждого. Авиабомбы? А что иное?
Ломаю голову: Ульмер указал свои точные координаты. Если он знал свое местоположение так точно, то это может значить только одно: Томми, должно быть, поймали лодку при надводном ходе! Или может быть так, что их обер-штурман тоже дал только приблизительные координаты?
С командиром я не могу сейчас это обсуждать. Могу лишь наблюдать, как беспокойными стали движения его рук, держащих циркуль и угольник. Потому только и говорю:
– Проклятое дерьмо!
И тяжело плетусь назад в направлении офицерской кают-компании.
Спустя немного времени вижу, что Бартль внезапно появляется рядом, у коллег в кают-компании. Могу отчетливо видеть его, стоит мне лишь вытянуть шею, за углом узкого рундука, сидящим у стола с широко расставленными локтями и опущенной головой. Собственно говоря, серебрянопогонники должны были бы находиться впереди, в отсеках носовой части, но здесь обер-фельдфебели представляют для плетущего свои тенета Бартля благодарную публику. Откуда он набирает людей, которые не могут улизнуть от его словес? Однако сейчас Бартль безмолвствует. Путешествие, кажется, порядком надоело ему. Он также не может курить свою трубку, а без пыханья трубкой Бартль вовсе не чувствует себя человеком. И едва ли кто осмелится развеять его хандру предложив сделать пару затяжек.
Стараясь делать как можно меньше телодвижений, топаю обратно в корму – чтобы выпить пару-другую чашек лимонада...
Мне везет: Кок поставил два больших кувшина для самообслуживания. Через открытую в дизельный отсек переборку киваю главному мотористу. Если бы я даже прокричал ему свой при-вет, он едва бы понял меня.
Оба дизеля дают средний ход.
Плитки пола подняты. Снизу, в этот момент, дежурный машинист как раз протискивает себя вверх, испачканный с ног до головы маслом и грязью. Сетка осушительного отростка насоса трюма дизельного отсека, кажется, полностью забита...
– Подай-ка сюда ветошь! – орет он в отсек, перекрывая шум дизелей и исчезает, перехватив на лету брошенную ему ветошь, так быстро, словно рабочий канализационной сети ныряет обрат-но в свою преисподнюю.
Главный моторист занят у своего пульта. Он подсчитывает, как часто наполнялся танк еже-дневного расхода потребляемого дизелями топлива. Таким образом он определяет общий рас-ход топлива.
Переборка в отсек электромоторов открыта. Между могучими блоками дизеля мой взгляд беспрепятственно скользит до кормового торпедного аппарата. Снизу проблескивают два вала: Две гладких, серебристых колонны покрытых маслом. Куда бы ни кинул взгляд, здесь на всем, тонкий слой масляной пленки.
Прямо у пульта управления обнаруживаю банку с темным содержанием. Главный моторист должно быть поймал мой любопытный взгляд, и показывает мне жестами, что я могу попробовать. Содержимое вроде совсем не похоже на густую смазку. Думаю, что такую шутку главный моторист себе бы не позволил. В следующий миг он ковыряется у ящика рядом со своим пуль-том и выкапывает из хлама ложку, которую протирает только что надерганной из тюка паклей и затем протягивает мне. Ладно, попробуем.
Да это повидло из черной смородины! Здорово! Только откуда он его взял? В нос бьет запах дизеля, а на языке вкус черной смородины. Приблизив рот вплотную к левому уху главного моториста, кричу:
– Вкусно, как у мамы!
Его лицо вспыхивает румянцем, и он усердно кивает в подтверждение. Затем протягивает мне новый клубок чистых цветных нитей и кивает мне: Протрите руки! Я так и делаю, но вместо того, чтобы бросить паклю в ведро-парашу, вытаскиваю из клубка синие нити и складываю их в маленькую кучку на правом колене. А затем на левом колене делаю такую же кучку, но уже из желтых нитей. Главный моторист удивлено смотрит на меня.
– Выглядит красиво! – кричу ему, но он не понимает меня. Лишь недоуменно передергивает плечами. Я снова встаю и подхожу к нему.
– Пойду немного покемарю! – кричу ему в ухо. – Хорошей вахты!
~
Несколькими часами позже, когда переключились на электродвигатели, взбираюсь для разнообразия в башню и усаживаюсь верхом в седло перископа. Здесь наверху еще много места. Давно следовало бы примоститься на этом отшибе.
Воздух здесь, конечно, тоже достаточно плохой: Смрад плотен, словно облако, но здесь до-вольно много забавных вещей, например, нажмешь кнопку и можешь проехать на седле пери-скопа как на карусели – вокруг перископа, а спиной непосредственно мимо прибора расчета данных для Торпедной Стрельбы и других придуманных для атаки аппаратов. Я часто делал так на U-96. Но теперь другое: Ток экономят.
А в ушах звучат курсовые расчеты атаки: «Лево руля двадцать! – так держать – новый курс 170 градусов. Внимание ПУТС: Скорость хода корабля противника 12 – Курсовой угол 22 – Глубина 6 – Расстояние 900 – Держать курс постоянно...»
Когда смотрю в окуляр, то понимаю охотничью одержимость Старика. В самом деле, здесь наверху, сидишь как на охотничьей вышке.
Время залечь на койку. Но сон не приносит мне облегчения. Слышу через занавеску жалобные звуки пердёжа и тут же звучит комментарий:
– Задница – это не флейта – сказал Гете!
На это отзывается второй голос:
– Когда стоит, затем пердит – ответил Шиллер!
Жду продолжения, и это нагоняет на меня волну первого сна. Но затем, меня буквально подбрасывает на койке громкий стук о стол... Не могу сразу понять его происхождение, затем понимаю: Подо мной играют в скат – посреди ночи!
Какое-то время ничего не слышу, кроме обычных объявлений и хлопаний картами и затем легкий шум перемешивания колоды. Но скоро снова начинается:
– Однако, беру прикуп!
– Ясно, мастурбатор чертов!
Отворачиваюсь к обитой фанерой стенке и пытаясь больше не слушать треп игроков, закрываю глаза. Но мне не удается уснуть, потому что в глубине души ожидаю продолжения разговора. А снизу, словно дразня меня, доносится только сопение и спокойный говор.
Ладно, говорю себе, если не могу теперь вздремнуть, то, по крайней мере, попытаюсь почитать.
Перелистываю книгу Конрада «Зеркало моря», зажав ее между матрасом и стенкой борта, не останавливаясь на какой-либо странице – совершенно безразлично. Глаза пробегают по строчкам, но как сильно не стараюсь, не могу сосредоточиться на смысле прочитанного. И, тем не менее, позволяю взгляду и дальше просто скользить по словам...
Опять очередная глупость? спрашиваю себя. Совершенная глупость, это точно!
В голове от такого трудоемкого напряженного процесса ощущаю пустоту и кружение. Словно надрался как сапожник и потому мутит с перепоя. На самом деле, я никогда не испытывал желания надраться в стельку – но сейчас? Сейчас я буквально впервые испытываю стремление сделать это, представляя себе, как выпиваю стопку за стопкой в длинной череде наступающего дня – а потом еще одну на посошок и еще одну, чтобы наконец ощутить вибрирующее движение карусели во всем теле, как начало глубокого забытья…
То, что я испытываю такое желание посреди Бискайского залива, будучи заключенным в этом плавающем гробу, разве это не одно из чудес природы? Кто знает точно о том, как желания и мысли, стоит им лишь однажды зародиться в мозгу индивида и проснуться к жизни, продолжают существовать? «Энергия существует вечно, никуда не пропадает и только переходит из одного вида в другой», так нас учили, в конце концов. Наверное, это верно и в отношении мысли. Чтобы позволить возникнуть желанию сделать глоток коньяка, я, очевидно, затратил какую-то энергию – хотя бы только и какую-то ее толику, но, все же, энергию!
Ну? Говорю себе с глубоким чувством удовлетворения, и куда же она направилась, эта моя мысль?
Уже в полусне еще слышу снизу:
– Я говорил и говорю, что дрочить может каждый, а играть в скат – это не член катать… Для этого надо иметь мозги!
Проснувшись, вяло берусь за перетряхивание своей койки. Пока так хозяйничаю, понимаю, что наш способ хода по морю таким вот образом имеет также и свои преимущества: На теле у нас нет никаких сырых тряпок – все абсолютно сухое. Раньше никогда не знали, куда деваться от сырой прорезиненной одежды, сырых тельняшек, сырых носков, сырых морских сапог. Вечно имелись столкновения и скандалы с парнями из электромоторного отсека, которые всегда возмущались, когда к ним в корму приносили сырые тряпки для просушивания. Затем они по-ступили так, будто сняли машинное отделение за огромные деньги и стали буквально грудью на пути тех, кто хотел просушить одежду у них в отсеке. Никакой речи не было о сочувствии к морякам, несшим вахту на мостике, особенно когда наверху разыгрывался настоящий шторм, и ты совсем не понимал, были ли они людьми или амфибиями, когда спускались вниз после вахты. Под матрацем, вдали от чужих глаз, хранятся мои вещи: Два толстых конверта, оба адресованные начальнику штаба. Хотел бы я знать, что сокрыто в этих конвертах! Но как бы сильно не ощупывал их пальцами, не могу ощутить ничего иного как совершенно обычные листы.
В конце концов, кладу конверты обратно под матрас.
Мои raison d’etre сегодня – в любом случае это бумаги: Попутно я являюсь как бы курьером – в курьерской командировке, правда, с небольшими препятствиями...
Каких только приключений не переживал я в таких вот курьерских разъездах – или скорее: В так называемых курьерских командировках. Но на этот раз все могло оказаться гораздо серьезнее.
Выражение лица Старика при вручении мне обоих конвертов было полно важности. Могло, вполне логично, оказаться так, что у меня на руках оказались последние письменные докумен-ты флотилии...
Спрашивается только, каким образом я смогу доставить их в Коралл – Берлин очень уж дале-ко от сегодняшнего места нашего корабля.
Внезапно раздается звук как от гремящего вдалеке грома. Отчетливо выделяю из грохота три отдельных взрыва – грохочущих с интервалом около трех секунд друг за другом.
Тут же раздается ругань одного из маатов:
– Это уже напоминает мне чертов будильник!
Метко подмечено! Томми и в самом деле служат нам подобием будильника.
Когда же, наконец, эта чертова банда свиней прекратит долбать нас различными видами шума и грохота?
Под моей койкой кто-то захлебывается от приступа кашля. С тяжелым хрипом он сильно отхаркивается.
– Эй, салага, глотай свои сопли! Здесь никому не интересны твои зеленые устрицы, – возмущается кто-то напротив. Но затем он смолкает, будто лишь теперь внезапно заметил, что слишком резко высказался:
– Не по твоему нутру консервированные сосиски и огурцы...
С нижней койки никакой реакции: Парень кажется и в самом деле проглатывает свои харкотья.
Присаживаюсь в ЦП и всматриваюсь в стенку перед собой. Мой череп словно ватой набит. С ватой в черепе человек думать не может: Закон природы.
Вынужден бороться со своей летаргии – а это значит: Вату из серых клеток головы удалить и начать мыслить более ясно...
Чтобы достичь этого, закрываю глаза и обращаю взор внутрь себя. Когда с огромным усилием это делаю, вижу будто наяву, как ленивая масса в моей голове раздувается и затем сжимается. Она образует серое скользкое покрывало и напоминает мне некое подобие Млечного Пути с несколькими холодными искорками, вспыхивающими в нем тут и там. Млечный Путь и покрывало начинают затем вращаться, как в центрифуге. Из-за этого в моей голове все становится совершенно пустым, и меня тошнит. Я вынужден быстро открыть глаза, чтобы освободиться от чувства головокружения.
Чтобы снова ощутить себя, двигаю одновременно пальцами рук и пальцами ног в сапогах. Сглатываю полусухую слюну и крепко хлопаю веками, как если бы мошка попала в глаз. Наконец, эта черная центрифуга уходит из моей головы. Но остается чувство, что я больше не слышу. Вероятно, все дело в ушной сере... Из-за объемной ушной серы мои барабанные перепонки, пожалуй, больше не смогут правильно вибрировать. Значит, надо найти канцелярскую скрепку! Моя бабушка вычищала себе уши изогнутой в виде буквы U шпильки. Современный человек использует канцелярскую скрепку. У Первого помощника есть такие для его документов. Без скрепок он бы не смог существовать.
Теперь я сижу и разрабатываю план, как раздобыть скрепку у Первого помощника. Только на ум ничего не приходит. Мозг отдыхает. Хотя, чувствую, что мои серые клетки работают, во всяком случае, пытаются что-то сделать.
Значит, Я – жив!
Мои легкие раздуваются, мое сердце бьется, качая кровь. Мои волосы растут сами по себе – тысячи волос, мои ногти на руках и ногах тоже растут. Все функционирует. В моих ушах все больше и больше серы – и, кажется, больше, чем необходимо.
Раздобыть скрепку и вычистить уши: Это хорошая мысль. Только для этого я сначала должен направиться в офицерскую кают-компанию: В шкафчике, непосредственно над столом, Первый помощник хранит свои скоросшиватели и папки с мелко-напечатанными служебными инструкциями, которые он так часто перелистывает. Думаю, что Первый помощник не будет иметь ничего против, если я стырю у него пару-тройку скрепок, которые густо усеяли верхнюю сторону его бумаг.
Страсть к порядку, какую испытывает Первый помощник заставляет его скреплять скрепками все, что по его мнению, требуется скрепить.
Первый помощник, наверное, сейчас свободен от вахты. И может так случиться, что он как раз сейчас сидит над своим бумажным хламом. Хотя, можно было бы просто довериться ему и тогда не придется тырить эти его чертовы скрепки.
Замечаю, что пока рассуждаю, мои руки, независимо от меня, делают попытку ухватиться за что-либо, чтобы приподнять мое тело. Время – деньги! говорю себе. Только сначала надо пол-ностью придти в себя. Я все еще пребываю в какой-то прострации. А при движении в офицер-скую кают-компанию, я должен производить впечатление полной собранности.
Смотрю на часы на левом запястье и говорю им:
– Чертовы часы!
Стрелки стоят на нескольких минутах после двух. Два часа чего-о? Два часа дня или два часа ночи? Этот восхваляемый всеми Петер Хенляйн смастерил полную ерунду в своей замковой мастерской в Нюрнберге, и размножил ее миллионами экземпляров – только не подумал о том, что однажды найдутся также и такие люди, которые не смогут подойти к окну, чтобы обнаружить, светло снаружи или темно.
Разделил бы циферблат на 24 вместо 12 часов – и не было бы таких затруднений как сейчас.
Вместо того чтобы отправиться теперь, наконец, вперед, все еще сижу на том же месте.
У меня невольно вырывается стон, и я стыжусь этого: Кто-нибудь мог услышать... Не следует стонать тому, кто плывет в вонючем гробу сквозь морские глубины.
Эх, увидеть бы снова небо! Хоть одним глазком!
Звездное небо или просто обычное серое небо. Но надо оставаться скромным в своих желаниях и не ждать ничего с нетерпением. А потому не устремлять, например, свой взгляд к небу над дельтой Дуная или долиной реки По, с ее мощными вздымающимися облаками. Судьбу не вызывают слишком большими желаниями...
Если бы только она была: Судьба. Лишь в этом случае вся та дурость, что происходит с нами, имела бы смысл. И лишь в этом случае можно было бы легко поверить в то, что некая туманная инстанция уже давно записала в своих анналах, удастся ли нам пройти через это дерьмо или нет.
Но возможно ли представить себе, что все проистекает лишь по воле чистого случая, совершенно без какой-либо формы намерения и режиссуры Высшей власти?
Странно, что на борту я еще не слышал никого, кто бы громко молился. Здесь каждый питается своим страхом внутри себя – усердно и как может.
Черт, сейчас бы не помешал стакан горячего крепкого черного чая!
В этот момент объявляют о готовности завтрака. С трудом поднимаюсь и иду в направлении круглой дверцы переборки, качаясь как на ходулях.
Инженер-механик и командир уже сидят на кожаном диване и молчат. Луч света от лампы над столом прыгает, так как лодка раскачивается глубинной зыбью, скользит по стенам вверх и вниз – иногда так высоко, что господин гросс-адмирал освещается на какой-то миг, пока снова не опускается в темноту.
Господин гросс-адмирал! Где на него падает много света, там тут же появляется и большая тень. Или наоборот! Если бы зависело от меня, то эта дурацкая фотография из фотоателье была бы давно вытащена из рамки и разорвана на мелкие клочки.
Оба серебрянопогонника еще не появились. Это мне нравится. Я все еще не знаю, должны ли эти два старпера спать в отсеках носовой части или нет, но мне это как-то по барабану.
Командир издает вдруг несколько различных звуков. И внезапно, как будто озаботившись разнообразием этих звуков, барабанит ногтями правой руки марш по линолеуму стола. Наверное, это должен быть Хохенфридбергский марш. Командир барабанит с неподвижным, почти судорожно сжатым выражением лица.
Также внезапно, как и начал, он прекращает свою дурацкую дробь и опускает голову, словно погрузившись в глубокие раздумья. Когда же, спустя несколько минут он снова поднимает ее на одно мгновение и его лицо будто освещается изнутри, я ожидаю какое-то сообщение. Но командир лишь требует бачкового.
Почти одновременно с бачковым появляется один из двоих серебрянопогонников, тот, что постарше. Приходится уступить ему место, а командир и инжмех должны придвинуться друг к другу. Серебряник выглядит скверно.
В то время как я вталкиваю в себя порцию яичницы-болтуньи, представляю себе, что про-изошло бы, если бы состояние нашего толстого серебрянопогонника ухудшилось еще больше.
А если он испустит дух? Труп на борту, этого как раз нам еще не хватало – но какой это был бы материал для фильма: Командир, которому приходится заменить врача и который вынужден бороться за жизнь отдельного человека – а кроме этого еще и серебрянопогонника – борется со смертью, в то время как вокруг него кишит ад. Вокруг масса разбросанных шприцов с лекарствами, о назначении которых он не имеет никакого представления...
Хочу притормозить мою раскручивающуюся в голове фантазию, но нет, мой фильм продолжается: Конечно, он вкалывает что-то неправильно. Шишка с верфи трясется от судорожных, конвульсивных движений. Крупномасштабное изображение агонии – и затем, когда шишка с верфи отправляется на тот свет, изображение беспомощности на лице командира от того, что же делать с трупом. Всплывать? Все отговаривают командира. Однако он настаивает на присущей морю церемонии. Но едва лишь подлодка появляется наверху, враг определяет ее местонахождение и лодку окружают самолеты и эсминцы – а затем забрасывают ее глубинными бомбами и, наконец, наступает общий конец. «И все из-за этого засранца, серебрянопогонника!» успевает сказать под занавес командир.
Откуда на меня налетает вся эта гадость?
На секунду мне кажется, что схожу с ума. В голове резко звенят жужжащие струны, а затем опять наваливается бездонный вакуум. Никаких рефлексов больше – совсем ничего больше.
Исчезаю из офицерской кают-компании и плетусь центральным коридором: Хочу обратно, на свою койку.
Когда вытягиваюсь во весь рост, то дышу так спокойно и размеренно, как только могу, но я все же все еще не могу ощутить себя: Я живу как бы вне моего тела – этакая плазматическая клетка. Чувствую только свой череп. И в этом черепе гремит и урчит – глухой шум, словно от-клик взрывов далеких глубинных бомб.
Сейчас должно начаться движение под шноркелем, говорю себе. Затем на лодку поступит воздух. Мне чертовски необходим свежий воздух.







