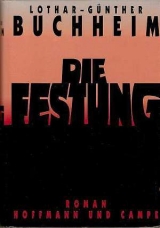
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 80 (всего у книги 111 страниц)
– Твою мать, – стонет централмаат и бросает на меня укоризненный взгляд. При этом он пальцами достает шоколад, выдаваемый подводникам, из одной из этих странных банок, напоминающих банки крема для обуви. Две уже пустые подобные банки лежат на пульте для карт. Если централмаат в одиночку прикончил обе банки, то это скоро станет отчетливым признаком того, что он тоже поймал свой понос: Нафаршированный шоколадом.
Вонь стоит чудовищная. Сколько смрада максимально может принять воздух? Где лежит граница его предела? До какого соотношения такой примеси ее еще можно вдыхать? В и без того взрывную смесь смрада, централмаат вбрызгивает теперь еще и обманчиво-ароматную примесь «Колибри» – дурно пахнущий одеколон, используемый для удаления с лица и рук морской соли. Что за ерунда? Словно хочет спасти сгнившую рыбу, сбрызнув ее ванильным соусом... Во мне внезапно поднимается непреодолимое отвращение, граничащее с едва сдерживаемой яростью. Но против кого я должен направить ее? Уж скорее задохнусь в собственном отвращении к самому себе... Вижу, как вахтенный инженер нетерпеливо постукивает по стеклу указателя оборотов дизеля правого борта. Он еще раз стучит по нему, но стрелка не двигается. Тогда он с негодованием кричит в корму:
– Что опять случилось с дизелем правого борта?
С кормы прибывает ответ:
– Дизель правого борта не готов!
– Могу представить себе! – кричит инжмех назад. – Что там не готово?
В следующее мгновение появляется дизельный механик. Совершенно без дыхания рапортует:
– Наверно зубы приводной шестерни сломаны, господин обер-лейтенант.
– Как давно?
– Не могу сказать, господин обер-лейтенант.
– Черт! – шипит инжмех.
Проблемы с дизелями не ослабевают. Собственно ничего необычного. Господин Рудольф Дизель не мог рассчитать такой нагрузки на дизеля. Продолжать движение хотя бы на одном дизелем – тоже годится. Но что, если и с ним произойдет нечто подобное? В ЦП происходит своего рода военный совет.
– Ремонтировать! – решает командир. Это значит опять уйти на глубину и потерять время. Все-таки можно вздохнуть с облегчением: Эти парни здесь не халтурят! Риск держать на минимуме: старое правило.
Приводную шестерню демонтировать – и снова инжмех сыплет проклятиями:
– Сначала пружинная муфта, а теперь еще и это – дерьмо, будь оно трижды проклято! Постоянно что-то новенькое!
Затем исчезает в корму. Сзади он выглядит так, как будто ярость согнула его и приделала горб. Всеобщая раздражительность постоянно требует новых жертв: Ремонт дизеля правого борта продолжается уже вечность, и в центральном посту поднимается ужасный шум. Всегда такой спокойный, централмаат ругается во все горло, потому что при откачке из трюмного пространства под дизелем, в сепаратор помпы попала ветошь из параши:
– Проклятые долбоебы! Если я кого-нибудь поймаю с ветошью, переломаю тому кости!
– Наверное, кто-то подтер ею задницу, – звучит робкий голос.
– В таком случае он должен забить себе в пасть эту обосранную ветошь или еще куда-нибудь. Если еще раз такое повторится... переломаю ему кости! Это я твердо обещаю!
– Может быть какой-нибудь серебряник, – произносит тот же человек, но теперь уже более уверенно.
– И что с того? Ему тоже кости переломаю. Здесь мой центральный пост, всем понятно?
Минимум трое серебрянопогонников должны были это услышать. Но никто из них не возмущается.
– В носовом отсеке один лежит в собственном дерьме! – доносится до меня.
Это сообщение пробуждает во мне картины виденных когда-то грязных коровников, с крупным рогатым скотом, которые носят свое дерьмо на собственных шкурах.
Навоз, однако, мне вдвое менее противен, нежели человеческое говно. Будучи ребенком, я даже преднамеренно вступал в навоз ногой. Я воистину наслаждался тем, как навоз продавливался меж растопыренных пальцев.
Снова идем под шноркелем. Сижу в офицерской кают-компании и рассматриваю, так как не могу сейчас писа;ть, обе мои руки, лежащие передо мной на темно-зеленом линолеуме стола. Я осматриваю их так, словно они принадлежат не мне, а кому-нибудь другому. На средних суставах обоих безымянных и средних пальцев растут короткие, крученые волоски – но их нет на указательных пальцах и мизинцах. Над суставами кожа образует морщинистые овалы – измятые складки. Ничего особенного: пальцы довольно короткие. Ногти маленькие, слабо выраженные. «Руки скульптора» – сказал кто-то однажды. Мои руки: Сгибаю пальцы, и мятые складки тотчас исчезают на сгибах суставов. Сжимаю руки в кулаки, и вижу, как сочленение корня безымянного пальца погрузилось вправо. Это опознавательный знак моей правой руки: Там имелась однажды сложная поломка пясти, которая слегка и уменьшила палец. Произошло это при ходьбе на лыжах в Fichtelberg. Незадолго до экзамена на аттестат зрелости. Недостаточное количество снега, и я свалился через обрез полевой дороги, что-то тут же щелкнуло в руке в кожаной мягкой рукавичке. Могло быть хуже. Мощная гипсовая повязка, конечно, действовала как смягчающее обстоятельство на экзаменах, и нося пиджак как тужурку через левое плечо я имел даже определенный шик: бедовый парень из Крепости города Ратенова.
Я мог бы сделать руками несколько кукольных сцен, осуществляющих определенные странные жестикуляции, но лучше поостеречься. Второй помощник сидит за столом, а инжмех как раз пробирается через люк переборки.
То, что я время от времени испытываю настоящий абсанс, очень беспокоит меня: Я не хочу уйти в никуда и обрести вечный покой. И каждый раз, вытягиваясь на шконке, испытываю страх, что это все же может произойти со мной.
– Там какая-то скотина опять мимо наблевала, – ругается вахтенный центрального поста. – Если бы они хоть раз убрали бы свое свинство! Но благородные господа об этом даже не думают!
– Они ведут себя так, будто находятся в борделе с полным пансионом!
Вахтенный ЦП получает поддержку от кока.
– В корме есть один такой, так он, хоть режь его, хоть стреляй, не хочет ссать в яму под дизелем. Салаги, а ведут себя, как говорится «Руки фертом под бочок, /А душа вся с пятачок!»
Раньше всегда особо отмечалось: Морфлот живет в чистоте, а не в грязи, как пехота. Так нам говорилось, во всяком случае, снова и снова вдалбливалось в наши головы. Теперь все выглядит, к сожалению, совершенно иначе.
И опять мы сбавляем ход для перехода на электромоторы. Раздается команда вахтенного инженера:
– Заполнить цистерну быстрого погружения!
Цистерна быстрого погружения? Но, можно ли ее заполнять водой на перископной глубине? Своим дополнительным весом она должна помочь идущей подлодке быстро исчезнуть с поверхности при погружении по тревоге – выражаясь точнее: в один миг помочь лодке преодолеть поверхностное натяжение. Поскольку ее пять тонн воды утяжеляют лодку, то эта цистерна затем должна быть снова продута и как можно быстрее. Но, мы же, уже были под водой?
Надо бы при случае выведать это у инжмеха и действовать надо хитрее.
Потащусь-ка я, лучше на свою шконку и подожду, как будут развиваться дела в животе. Итак, назад в жилой отсек, забраться на койку и затем, устроившись в ее узости, растопырить руки-ноги и лежать пластом. И занять голову чем-нибудь иным, нежели постоянными мыслями о говне, моче и блевотине – даже если кишки снова будут выкручивать меня в диких судорогах. Упорядочить мысли по возможности...
Легче сказать, чем сделать. В голове полный хаос: Мысли вьются как снежинки на быстро меняющем направление ветру. Затем в голове снова вращается маяк, проецирующий картины внутрь моего черепа. И там, в самом деле, появляется Симона, и картинки с ее образом становятся даже ярче вдвойне: Симона верхом к лошади, Симона в чудесном белом платье и красном бархате как фрейлина замка: Кер Биби, вечер моего возвращения, праздник для избранного общества Флота. Внезапно картины пускаются в быструю круговерть: Любитель красного вина, офицер-дознаватель, чины SD в Бресте, офицер с минного прорывателя – нужно срочно широко открыть глаза, чтобы не было головокружения.
Испытываю такое состояние, словно весь состою из одних лишь кишок: до самой небной занавески ощущаю себя доверху заполненным причудливо изогнутыми кишками. И тут как наяву вижу Стеклянного человека из Дрезденского музея гигиены. Это прозрачное чудо в натуральную величину стояло там с поднятыми руками – словно сдаваясь. Когда я в первый раз увидел этого стеклянного приятеля, то был совершенно изумлен видом того количества кишок, который был у него в животе. Фиолетовая груда выглядела как дополнительная и сверх того еще и небрежная мешанина.
Должно быть, это было в 1933 году. Музей был на площади Lingnerplatz, названной по имени фабриканта Карла Лингнера.
Год 1933 – как же давно это было! Дрезден тоже далеко. Колесные пароходы перед террасой Бюхнера, Эльбские Песчаниковые горы: Камень страхов, Камень короля и Пребиштор.
Точно: Одна из пещер этих гор называлась «Коровник». Господин барон Окс фон Лерхенау увековечил себя там, на стене песчаника, красной краской. А ниже кто-то приписал белой краской: «Я это слышал и читал: Как бык в коровнике упал.»
Хотя мои кишки еще бунтуют, мой мозг, кажется, снова пребывает в нормальном рабочем состоянии. Очевидно, отрава из живота не добралась до него и не сделала неспособным к выполненю своих функций, а потому он и снабжает меня красивыми, четкими картинами.
А собственно говоря, каким образом функционируют в моей голове мыслительные процессы? Как получается, что некоторые образы возникают во мне непреднамеренно, а иные только тогда, когда я их востребую?
Когда я снова занимаюсь гимнастикой, слезая со всей осторожностью с койки, моя правая нога подламывается: Затекла. Приходится невольно ждать какое-то время, до тех пор, пока пройдет зуд. Также и это могу себе научно объяснять – почему моя затекшая нога зудит: там же снова движется кровь, определенно. Но почему кровь зудит? Почему у меня такое чувство, будто в затекшей ноге имею сразу 1000 муравьев?
Размышляя, вспоминаю, какие приятные чувства появляются при опорожнении мочевого пузыря – когда выссышься до последней капли. Опорожнение кишечника не то. Вероятно потому, что часто сопряжено с потугами и стонами? Или зависит от того, что оно связано с определенной беспомощностью? Или со страхом, что при опорожнении кишечника я сижу распластанный и представляю этим крайне неутешительный вид со стороны?
В эту минуту во мне снова возникают воспоминания: голая задница одного парня, который в U-96 при тревоге стрелой вылетел из гальюна, а штаны все еще висели ниже колен. И одновременно также появляется чувство прошедшего страха, который нападает на меня в уборной любого поезда: страх, что я мог быть защемлен на очке при железнодорожной катастрофе – штаны ниже колен и неприкрытый зад...
Матрос из экипажа центрального поста, очевидно, наложил в штаны. Вид того, как он застыл и смущенно осматривается вокруг, является отчетливым тому признаком. Как же он теперь справится со своими тряпками? Мы не пехотинцы, которые могут замотать свой понос в нижнее белье и выбросить в кусты или поле. Бедняге не позавидуешь.
Неполадки с мышцей сжимающей задний проход – и в тот же миг честь человека втоптана в грязь. Гёте в засранных штанах – никакого полета мысли и быть не может!
Смрад выгоняет меня из ЦП, но и в офицерской кают-компании тоже пахнет отвратительно.
Мое обоняние получает, во всяком случае, вони больше чем достаточно. Получает свой корм аккуратно и вовремя. А что, если принюхиваться таким собачьим способом, как я это делаю, чтобы исследовать, какой смрад содержится в смеси с другими, вызывая такую пронизывающую вонь? Смогу ли я выделить определенный запах из этого смрада?
Наконец, понимаю: Это кислый смрад блевотины окутывает всего меня. Этот зловонный запах исходит из большого ведра-параши, который зажат вплотную к столу. Туда, судя по всему, и блевали измотанные шишки с верфи.
Плохо то, что противное содержание ведер-параш не может сразу выбрасываться за борт. Гальюн рядом, но он может опорожняться только при ходе на дизелях, сжатым воздухом. На этой лодке установлен, правда, иначе чем на U-96 – резервуар для фекалий, но что может сделать такая техническая предусмотрительность, если каждый второй блюет, а все 100 человек срут поносом? Понос нельзя урегулировать по прошествии времени. Понос обладает революционным характером: Прет без остановки.
Во мне поднимается новая волна тошноты. Скорее вон из смрада кают-компании и ЦП и посмотреть, может в корме получше живется-можется…
Едва перехожу переборку дизельного отсека, вижу, как кто-то у пульта управления дизеля правого борта сидит в глубоком приседе, как на скамейке для доения: голова опущена, предплечья на коленях. Выглядит так, словно дизелист задремал на табуретке в этом уютном положении.
Но тут человек поднимает голову, смотрит на меня выпучив глаза, достает откуда-то кусок ветоши, высоко вытягивает зад и подтирает его. При этом пристально, но безо всякого выражения, смотрит мне в лицо. А затем вытягивается во весь рост и одаривает меня смущенным кивком. Когда же подтягивает штаны, вижу, что край ведра-параши, на котором он только что сидел, тщательно обит черной ветошью. Я выражаю легким движением бровей, что, пожалуй, одобряю эту затею. В ответ парень улыбается: Мы хорошо поняли друг друга. Забота, вопреки несправедливости данных обстоятельств, еще и об определенном комфорте – это зарабатывает свое признание.
Смрад свежего говна настолько силен, что, как мне кажется, проникает в меня даже тогда, когда я с усердием дышу ртом: Он буквально проникает мне под кожу.
А ветошь, которой он вытерся? Что с нею? Мне следовало бы пронаблюдать, куда дизелист ее сунул. Не мог же он бросить ее в парашу? Нужно быть полным идиотом, чтобы швырять ветошь измазанную говном, непосредственно в дизельную яму!
Боюсь, что мне уже никогда не освободиться от смрада поноса – точно также как китобои не теряют пропитавший их запах рыбьего жира, как бы много они не купались и не намыливались. Я знал одного такого с судна-матки китобойной флотилии «Jan Weilern», так он, однажды, приняв горячую ванну, буквально облил себя одеколоном с запахом сирени. И что в результате? После этого он завонял и рыбьим жиром и сиренью – хуже, чем самая захудалая проститутка, не моющаяся неделями.
Посещение кормы было моей ошибкой.
К счастью, на борту есть хлорная известь. Ее обычно используют, чтобы предотвратить ядовитые газы, образующиеся при соединении кислоты из поврежденных батарей с соленой водой в трюме. Теперь она должна смягчать и это страшное зловоние. Но, скорее всего, не поможет.
У китобоев выработалась свойственная только их телам система отключения запаха: Они просто больше не ощущают запах рыбьего жира. Что за странный процесс отбора? Почему я чувствую запахи говна и блевотины, но не запах дизелей?
Со слухом то же самое: Я могу навострить уши и различать самые тонкие шумы, но не воспринимаю шум дизелей. Чертовски сложные обстоятельства...
Я, должно быть, совершенно потерял последние часы. Если верить моим часам – а я верю им, то я был в бессознательном состоянии добрых пять часов. Сидя выпрямившись за столом, напротив выгородки инжмеха, правда, прислонившись к стенке, но все ж таки сидя прямо, я не спал: Я – отсутствовал. Подобное этому еще никогда со мной не случалось. Туман перед глазами – и все. Ушел в небытие...
Находимся ли мы вообще все еще в этом мире? Думает ли еще хоть кто-нибудь о нас? Не списаны ли мы давно? Не стали ли мы уже приведениями, типа того вида полуслепых лемуров, что ориентируются только по слуху? Не превратимся ли мы в конце в белые, шишковатые гигантские личинки с усиками-щупальцами вместо ушей?
Блуждаю взглядом вокруг. Люди выглядят как умирающие голодной смертью, так сильно у них истощились мышцы. Если понос не прекратится, всю душу, в конце концов, высрем из тела.
Шишкарь с верфи напротив меня выглядит особенно плохо. Если так и дальше пойдет, то он точно коньки отбросит. Бледные щеки беспомощно запали, как на злой карикатуре. Его коллеге, страдавшему вначале от клаустрофобии, кажется, полегчало: Он за своим поносом, очевидно, совершенно забыл о клаустрофобии.
– Это не будет продолжаться долго! – Командир пытается утешить полностью опустившегося шишкаря. А тот лишь глаза закрывает. Лучше бы он этого не делал. С закрытыми веками выглядит, как будто и в самом деле уже помер.
«Не будет продолжаться долго!» У командира железные нервы! Говорит так, как если бы речь шла лишь о морских милях, которые мы должны преодолеть. Не долго! Он может рассказывать сказки только этим шишкам!
В радиорубке никого. Конечно! Почему там должен кто-то сидеть? Если мы идем на глубине на электродвигателях, то для радиста нет никакой работы. И в этом случае мы являемся своего рода Летучим голландцем...
Мысль о том, что еще может быть предстоит нам, вновь сильно угнетает меня. Хочу я того или нет – я вынужден, как собака на цепи, лишь лаять на кость не имея возможности достать ее. И снова и снова говорю себе: Мы слишком медлим, чтобы достичь нашего убежища в южной гавани еще до прихода янки. А сверх этого еще и огромная дуга на запад, на которую был вынужден решиться командир... Только теперь эта осторожность обернулась против нас. Перед La Rochelle мы снова превратимся в судно-ловушку. «…покуда в далёком сером море не отыщем остров Туле…», декламирую про себя. «Этот остров должен существовать!/Там ещё в силе клятва и честь./ Там мы опустим короля / В гроб из ясеневых копий…» Опять ловлю себя на том, что я использую воспоминания наполненные смыслом с большой задержкой. Не то, чтобы я глубоко утонул в мыслях и поэтому чувственные раздражители тормозили – скорее, мои нервы стали слабыми как растянутые резиновые шнуры.
Внезапно понимаю, что снаружи доносятся какие-то шумы. Мой слух их давно засек, но я как-то не придавал этому значения. Или шумовой контакт был нарушен. Теперь он снова существует. Вероятно, в моей голове имеется что-то подобное шумовым наплывам, которые могут уменьшать воздействие стороннего шума. В данный момент мой мозг опять воспринимает окружающее, и это главное – слава Богу.
Пытаюсь анализировать доносящиеся шумы: Глухие молоты? Или приглушенный шум лопастей шлепающих по воде?
И тут меня буквально пронзает догадка: Это же винты корабля! Без всякого сомнения: Винты корабля! Значит, они бродят здесь, словно охотничьи псы! Сам дьявол, наверное, помогает этим скотам!
От напряжения, с которым вслушиваюсь в шумы, не могу дышать. К тому же явно слышу, как мое сердце стало вдруг резче биться. Становится ли шум громче – или стихает? Идут ли они по нашему следу? Мой пульс стучит как сумасшедший. Истерика, что ли у меня?
Это может быть, наконец, совершенно обычная рыболовная шхуна, ничего не замышляющая против нас.
Может! Однако не должна. Обычная рыбацкая шхуна!? Что она может искать здесь?
А теперь – это еще что такое? Из-за ритмичного шума надвигается приглушенный грохот и гул. Удары молотов и шлепки идут почти вплотную, но глубоко за ними проявляются какие-то другие шумы. Это больше не стена шума, но эшелонированная по глубине зона шума. И вдруг вот оно: Гром и грохот, и настоящие громовые раскаты!
Глубинные бомбы!
Они обрабатывают какую-то подлодку – никакого сомнения... Совершенно ясно: Там пытаются прорваться и другие лодки в La Pallice – некоторые, может быть, из Saint-Nazaire, например. И вот теперь такая лодка в обработке...
Как далеко можно слышать разрывы глубинных бомб? Чертовски далеко, если стоишь под водой. Но как далеко? На 20 морских миль? Вздор! Гораздо дальше!
Гром и грохот длятся беспрерывно, кажется, раздаются впереди по правому борту. Но я могу и заблуждаться. Невооруженным ухом можно с трудом определить местонахождение источника шума. Один раз звучит так, как будто бы раздается от бакборта, затем даже кажется, что мы буквально полностью окружены грохотом. Но я говорю себе: Этого не может быть. Это грохотание и то наплывающий то уходящий отклик громовых раскатов не образуют кольцо вокруг нас, они просто доносятся с разных направлений.
В конце концов, я должен был бы уже привыкнуть к этой разновидности шума и больше не реагировать так сильно. Люди на Западном фронте в 14-18 году должны были слышать орудийный грохот тоже сутки напролет. В каждом фильме о позиционной войне во Франции обыкновенно царит такая же шумовая кулиса – ее записали на пластинки и сложили в архивы: все время требуется киношникам. Может быть, Томми уже также изобрели и подводное звуковое устройство для фонового сопровождения своих действий, записали весь этот шум и грохот на пластинку и усилено посылают в районе своего нахождения. Вероятно, делают это, чтобы порвать наши нервы, свести с ума и даже без оригинальных звуков?
Прекрасно, если бы это так и было! Но здесь звучит уж больно серьезно. Бомбы предназначены какой-то подлодке. Или двум? И все резче и резче работают бомбометы: обыкновенная пустая трата боезапаса. Трудно представить, сколько суммарно стоят эти глубинные бомбы, что ежедневно сваливаются в море.
Вуммеруммеруммм: Триольный звук! Звучит уже лучше – несколько жестче, чем затертый грохот. «Бомб страха» вроде тоже нет.
Появляется командир, и оберштурман уступает ему место у пульта с картами.
– Мы должны быть сейчас на высоте Larmor-Plage. 53 градуса: Larmor-Plage и Port-Louis.
Конечно – мне следовало бы давно об этом подумать: никакой не Saint-Nazaire, а Lorient! Мы на высоте Lorient. Значит, там какая-то лодка хочет проскользнуть через лазейку, и это ее теперь чистят граблями, судя по всему.
В Lorient располагаются Вторая и Десятая флотилии.
Из Lorient ходили большие подлодки. Водоизмещением в 1120 тонн, тип IX-C, с двумя кормовыми торпедными аппаратами вместо одного, как на нашей лодке. Эти большие подлодки были способны преодолеть 11000 морских миль в автономном плавании, при 12 узлах хода в непогруженном состоянии. Я даже однажды слышал слушок, что в Lorient стояла подлодка типа IX-D-2, водоизмещением 1615 тонн, способная преодолеть 24000 морских мили. Такая лодка была бы способна в автономном плавании пройти почти вокруг всей Земли.
Лежат ли в Lorient еще больше лодок в эллингах?
Я должен прижаться, так как два человека хотят пройти в корму, вплотную к командиру. Он делает полукруг острием циркуля. «Мы должны уйти еще дальше», бормочет при этом.
А вместе с тем драгоценное время утекает! – дополняю его втайне.
Мы определенно загнаны в тупик.
Но вся эта война и так является непрерывной последовательностью тупиков. Всегда этот вечный поиск меньшего зла! И всегда выбираться из беспорядка неизвестных факторов – неподдающихся учету факторов. Как часто имела значение способность принимать решения с наигранной решительностью и поступать таким образом, словно они являлись продуктом логичного мышления – а не чистой случайности.
Теперь это снова проявляется таким же образом: Командир хочет сделать еще более крупную дугу на запад, так как он предполагает сосредоточение вражеских сил между нашим курсом и побережьем – сказано четко и сжато: как в журнале боевых действий. Что означает, что мы ничего не знаем о враге. Мы просто предполагаем, что Томми стянули кольцо вокруг портов в Lorient и Saint-Nazaire, так же как и вокруг Бреста. Причем, однако, никто не знает, какое в данное время положение во Франции, в самом деле. Сумели ли наши остановить танки янки при их атаке или они продвигаются дальше вперед также быстро как от Avranches в Ренн. Продвигаются ли янки дальше в направлении Парижа или на юг...
Командир колеблется еще какое-то время, а затем дает коррекцию курса, которую он рассчитал.
Если мы пойдем этим новым курсом, то наверняка придем в Панаму.
Обер-штурмана нигде не видно. Ну, думаю, он все равно своевременно заметит, куда мы плывем в этой гондоле...
Когда хочу пройти через люк переборки вперед, вижу горящую красную лампочку над переборкой носового отсека: Triton свободен! Чудо! Так быстро я еще никогда не продвигался вперед. Наконец-то мне выпал шанс сходить по-большому по-человечески. По-че-ло-ве-чес-ки! и без зрителей. Слава Богу, облагодетельствовал, теперь могу испытать обычный при калоизвержении процесс кряхтения и потуг. Задержать дыхание, еще раз покряхтеть и потужиться – плюс музыка глубинных бомб.
Лучше всего я бы так и сидел здесь.
Какая жалость, что про запас нельзя посрать и помочиться.
Теперь, однако, враги могли бы прекратить свой шум!
Наконец, я управился с делами в темном гальюне.
У меня в кармане еще есть остаток туалетной бумаги – Хвала Господу и аллилуйя! А теперь брюки снова вверх, и я могу даже вымыть свои лапы под маленьким краником – морской водой и мылом.
Едва откладываю задвижку, как из руки буквально тут же вырывают дверь, и кто-то рвется мимо меня – наклонившись как от ранения в живот.
Те, наверху, хотят порвать нам нервы своими хлопушками. Но я чихать на них хотел! Забираюсь на матрас, поворачиваюсь на левое ухо и прижимаю подушку к правому: Я достаточно долго терпел эту долбежку.
Долгое время не чувствую, сплю ли я или бодрствую. Бессонница схожая с агрипнией. Я страдаю полубессонницей. Вероятно, у меня не отсутствует сон, вероятно, я только воображаю себе это. Кто его знает...
Я как-то слышал, что люди, у которых отсутствует хороший сон, обычно переоценивают свою бессонницу.
Моя названная тетя Хильда, как раз и была такой. Просто не могло соответствовать истине, когда она каждое утро заявляла, что не сомкнула глаз ночью. Когда-нибудь она точно засыпала, так как человек не может существовать без сна. Но чем ценен полусон? Определенно не половиной настоящего сна, потому что тогда мы не должны были бы спать вдвое дольше...
Как только командир справляется с недостатком сна? Как он может быть постоянно на ногах? Я кажусь сам себе уже полностью измотанным и опустошенным за эту поездку – что же тогда говорить о командире? Ведь у него из всех людей на борту наименьшие запасы сил.
Представление того, что мы не сможем найти пристанище ни на одном берегу, того, что для этой лодки нигде больше нет пристани, снова посещает меня. В полусне мне видится, будто мы уже много месяцев движемся по этому соленому морю. Не перед французским побережьем, а где-нибудь в безбрежных широтах без всяких координат. Топливные цистерны уже давно опустели и подлодка движется течениями – уже 100 лет или около того, без возможности когда-нибудь прибыть куда-нибудь...
И затем снова вижу изображения Симоны: Симона в широкой, расписанной цветами юбке на гоночном велосипеде. Симона в длинных, остронаглаженных брючках и тонком пушистом розовом свитере из ангоры легко и быстро двигающаяся между столиками своего кафе. Симона совершенно голая, коричнево-загорелая, увешенная морскими водорослями словно мальчишка-оборванец, в коричневато-зеленоватых разорванных лохмотьях... Картины сменяются в быстром темпе. Но это не фильм, а устойчивые картины, своего рода слайды, на мгновения вспыхивающие в мозгу.
Из болтовни, проникающей в полусон моего сознания, невольно составляю диалог.
– Центральный! – голос рулевого сверху из башни.
– Слушаю! – ответ вахтенного центрального поста.
– Запрос времени! – снова рулевой.
Придурок, думаю в полусне, мы должны сосредоточиться на том, чтобы рулевому смена пришла к назначенному часу. Всегда этот дурацкий запрос времени.
– Башня – 16 часов! – сообщает вахтенный ЦП наверх.
По-видимому, господа нуждаются в таком общении, чтобы взаимно поддерживать себя в состоянии бодрствования. Без подобной литании рулевой там наверху мог бы заснуть – никто бы и не заметил.
Некоторое время все молчат, затем из полумрака подо мной слышу приглушенные слова, почти шепот:
– Нам это никогда не удастся! Защититься от этих кораблей!
Тот, кто это сказал, должен был бы получить по морде от сидящего к нему ближе всех. Вероятно, кто-то из серебрянопогонников, лежащих на одной из нижних шконок. Ни один моряк не сказал бы такое! Таким вот трепом эти паникеры и приманивают к нам злобных фурий. Как я хочу, чтобы смог искоренить эти богохульные слова, как написанное мелом на классной доске, мокрой тряпкой – но во мне все повторяется и повторяется эта фраза: «Нам никогда не удастся...» Я то сплю, то просыпаюсь и, кроме того, внезапно испытываю сильную жажду. В офицерской кают-компании, наверняка, стоит на столе кувшин с лимонадом – а потому – прочь с койки.
Повезло: Кувшин существует и наполовину полон.
Назад на койку? Лучше посижу-ка в ЦП и попытаюсь сделать несколько заметок...
Когда присаживаюсь на свой ящик, тут же хочу снова вскочить: Моя задница доставляет мне сильную боль. Я не знаю, обильный ли коричневый понос, выбежавший из меня, воспалил анус или же боль возникла от того, что он у меня изранен и натерт. Постоянные боли во внутренностях – и теперь еще дополнительная боль при хождении по-большому и даже сидении. Не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь чувствовал свое очко так болезненно.
Переношу свой вес таким образом, что сижу либо на правом, либо на левом бедре и втягиваю анус. Правда, сначала он сильно болит, но спустя некоторое время боль ослабевает.
Сидя так, я заснул и вновь грезил в своем сне о скорбуте: Все мои зубы так и рвутся принять горизонтальное положение. Я же пытаюсь удержать их, противодействуя языком в вертикальном положении. Но так я больше не могу открывать рот: На вопросы лишь трясу головой или киваю.
От постоянного напряжения язык разбухает, а мышцы щек невыносимо болят. Внезапно кто-то бьет меня, подкравшись сзади – шутник – ладонью промеж лопаток. Страх разрывает мне рот, и зубы вылетают наружу и со стуком падают на пол...
Вместе с тем я бодрствую: Тщательно ощупываю ряды зубов языком изнутри и снаружи. Также и поверхность прикуса и остаюсь счастливым и довольным, потому что все зубы пока еще в наличии – за исключением двух, которые мне, одноглазый врач Темпель, когда мне было 10 лет, удалил в Chemnitze на Вестштрассе, причинив сильную боль и наверно без всякой в том необходимости. Меня всегда хвалили по поводу моих хороших зубов – как будто хорошие зубы были моей заслугой!
Надо лимоны сосать! говорю себе. Как только живот будет снова в порядке так и поступлю.
На U-96 у нас было вдоволь лимонов. Второй помощник, как сейчас помню, маленький Херрманн, смешивал страшный коктейль из лимонов и сгущенного молока. Жив ли еще маленький Херрманн? Ужасно, что неизвестно, что стало с братишками.
Командировки как рулетки: Некоторые оставались в живых, когда их лодка тонула, когда были откомандированы как раз на учебные курсы. Другим везло, когда они должны были выходить в поход на вновь введенной в эксплуатацию лодке, которая не выходила в свой первый поход.








