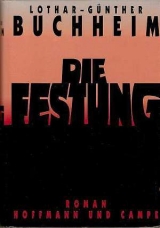
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 111 страниц)
Внезапно беспорядочная стрельба стихает – ее как отрубило. Только впереди раздаются короткие автоматные очереди, бой продолжается. Но тишины не наступает. Я слышу, как громко кричат раненые. Несколько девушек тоже ранены. Они кричат, взывая к состраданию Бога. Кто-то кричит:
– Санитар, санитар!
Этот вопль звучит в моих ушах странно старомодно. Если бы я только смог увидеть больше в конвое и на дороге, чем несколько машин перед нами и группу бойцов вокруг тяжелораненого. Далеко спереди, это мне хорошо видно, транспортные средства конвоя стоят вдоль и поперек на улице. Очевидно, некоторые хотели развернуться. Теперь слышу крики петухов, лай собак. Они звучат как насмешка. Дикое желание расстрелять этих петухов и собак, нападает на меня. Хочу отправиться вперед и узнать, что решили капитан и его визирь, но в то же время не хочу покидать автобус. Тут я вижу, как стрелок-мотоциклист приближается к автобусу и спрыгиваю на улицу, чтобы разузнать обстановку.
– Что случилось? – кричу громко, стараясь перекричать шум его мотоцикла.
– Вам следует немедленно вернуться в Брест! Проезда нет! Дорога впереди взорвана и обстреливается, господин лейтенант! У них минометы!
– А как нам здесь развернуться? – кричу слишком громко.
– Двигайтесь задом – до перекрестка!
Впереди снова слышны отдельные выстрелы. В правом борту автобуса насчитываю с полдесятка пробоин. И при этом никаких новых ранений, никаких попаданий в колеса, никаких серьезных пробоин – чистое чудо! Хорошо, что мы были в хвосте колонны далеко позади. Тошнит от мысли, что не могли раньше разведать эту дорогу. Улица в этом тесном месте между жалкими домишками оказалась превосходной засадой. Оба водителя за нами тоже оказались не пальцем деланные. Они спешно отъезжают назад.
– Давай назад! – кричу водителю, когда залезаю на свое место. Теперь он должен показать все свое умение.
Люди позади меня стонут. Я слышу, как один жалобным голосом спрашивает:
– Где же мы?
– В заднице пророка, – раздается в ответ.
Итак, назад в Брест! И я спрашиваю себя: Если теперь начнется большой маневр разворота, а господа террористы все еще будут поблизости, тогда «Каски долой и помянем погибших!» станет самой уместной песней? То, что вопреки нашим долгим поворотам – разворотам все прошло без ущерба для нас и нашего автобуса, я отмечаю как новое чудо. Однако мне пришлось изрядно наглотаться при этом пыли. Весь автобус словно припудренный пылью. Во время обратной поездки я ощущаю необыкновенное спокойствие. Ощущаю себя униженным, выдохшимся и полностью дезориентированным. Все! Баста! – бормочу себе под нос. Смотрю пристально прямо перед собой через ветровое стекло, но не вижу расстилающуюся передо мной улицу. Мне следует собраться, нельзя раскисать! Проклятье: за нами, наверное, опять наблюдают! Невольно снова и снова изучаю дома, наилучшим образом подходящие для нападений. Скорее всего, это предприятие было с самого начала обречено на неудачу. Дилетанты до невозможности! Во мне ключом бьет ярость. Вверху, в горле она становится толстой как пельмень: просто цирк!
– Говно! – вырывается у меня невольно.
Мне следовало бы воздержаться от этого высказывания: Водитель недоуменно смотрит на меня. Сзади в автобусе кто-то нервно всхлипывает. Бедняги! Они уже видели себя дома или, по меньшей мере, в приличном военном госпитале. А теперь? Все надежды рассыпались прахом! Почему они не послали вперед разведмашину, чтобы все разведать? Почему никто не подумал разведать улицу перед нашим конвоем? Почему никто не поинтересовался этими домами, которые прямо-таки созданы для засады? Почему не установили четырехствольную пулеметную установку с защитными щитами на средний грузовик, если уж нельзя было послать с нами танкетку? Эти гребанные носители отутюженных бриджей, это же не солдаты – а просто статисты, Жигало! В то время как мы катим дальше в западном направлении, в моей голове проносится масса беспорядочных мыслей о хвастливой болтовне о вундерваффе, об опустошительных последствиях Фау-I, о новых подводных лодках с двигателем Вальтера! А вот здесь, конкретно, у нас не было одного единственного танка! Грофац, Юпп, туша Геринг – этот вообще – наш геральдический имперский егермейстер! Они только раскрывают свои пасти, но так дело не делается... А мы вот сейчас везем – и это уже злая шутка! – гораздо больше раненых, чем было запланировано в Бресте. Они кровоточат свежими ранами и плохо перевязаны и как животные жалобно скулят постанывая. Я чувствую себя усталым и вымотанным, хотя при этом я не устал, а странно перевозбужден. Пот течет у меня из подмышек по ребрам вниз.
Все это выглядит явно не таким триумфальным, как предполагал Старик!
Когда мы проезжаем ворота флотилии, я слышу, как кто-то позади меня ревет из окна автобуса:
– Ну, вот мы снова здесь!
Другой в тон ему громко улюлюкает. Он не единственный, у кого сдали нервы. Часовой у ворот удивленно пялится на них.
Тут мое терпение лопается, и я кричу ему:
– Предупредите оберштабсарца! И быстрее!
А теперь по двору к Старику. Я громко стучу в дверь, и затем подчеркнуто молодцевато рапортую:
– Наше предприятие потерпело неудачу. На нас напали маки;. Автобус с ранеными прибыл назад. – И затем добавляю: – Полное дерьмо! Это была катастрофическая неудача, как пишут в книгах.
А чтобы еще более усугубить меру моего унижения, в кабинете Старика, во время моего доклада находится и зампотылу. И ухмыляется. Ярость вскипает во мне: Старику следовало бы еще и адъютанта вызывать, чтобы представление удалось.
Тут слышу голос Старика:
– Бедолаги! Оберштабсарц уже в курсе?
– Так точно – я вызвал его при въезде во флотилию.
И смолкаю.
Наконец, Старик приходит мне на помощь и говорит:
– Вот черт, тут ничего не поделаешь.
Зампотылу больше не ухмыляется. Вид такой, словно я пнул его коленом в живот.
Теперь мы втроем стоим перед большой настенной картой Бретани.
– Где это все произошло? – спрашивает Старик.
– Сразу перед выездом из населенного пункта Le Faou.
– Ну конечно!
В то время пока Старик скользит пристальным взглядом по карте, в моей голове мелькает: А почему, собственно, я чувствую себя этаким виноватым неудачником? Разве я потерпел неудачу?
– А как все в целом происходило? – Старик хочет знать теперь подробности.
– Они ждали нас точно на самом узком месте. Ты же их знаешь... А потом – огонь с двух сторон и ручные гранаты. Вероятно, у них там еще и миномет был.
– Это может сослужить нам хорошую службу! – говорит Старик и голос его звенит. – Во всяком случае, мы получили порядочную пилюлю...
– Умело сделано, – произносит Старик про себя. – На севере выдвигаются янки, а здесь сейчас выдвигаются эти маки;.
– Значит ли это, что вместе с этим для нас также потерян и Ch;teauneuf? – изумляется зампотылу.
Так как оба молчат, я говорю:
– Там нам хватило бы одного-единственного танка...
– Черт! Где же его взять? – реагирует нервно Старик.
– А что, здесь нигде нет?
– Насколько я знаю – нет! – Старик отвечает мне возбуждено. – Забыл что ли: мы – военно-морская база. У морского флота обычно нет танков.
Старик говорит все это цинично, как только может – а затем более спокойно:
– Я почти предвидел это, я чувствовал, что не получится...
Когда зампотылу уходит, я сажусь напротив Старика и уже более свободно говорю:
– Это была полная катавасия! Чудо, что не произошло более ужасного. Если бы эти террористы расположились переменными курсами, они закрыли бы нам и отход. И тогда бы ловушка захлопнулась. Во всяком случае, растерянность была страшная. Конвой был хорош и прекрасен – но если никто не знает, что он должен делать и где находиться...
– Знаешь, сегодня утром я подумал, что вся эта колонна напоминала скорее нечто вроде колонны демонстрантов. Интересно было бы услышать, что скажут господа из Армии. Я бы возглавил одно соединение.
– А я лучше бы выпил что-нибудь.
Когда снова прихожу в кабинет, Старик уже позвонил.
– У братишек душа ушла в пятки. По дороге на Le Faou, кажется, сконцентрировались массы террористов. Сейчас вы были бы в первую очередь отрезаны.
Отрезаны? – Это продолжается секунды, пока я не сознаю, что значит это слово. Но Старик ограничил его: в первую очередь отрезаны. Было бы смешно все же, иметь лишь небольшой свободный кусок дороги.
– Это была проба французов на смелость, – говорит Старик. – Собственно говоря, я ничего другого и не ожидал. Они пока ведут себя здесь в городе довольно спокойно...
Он не заканчивает свое предложение, как начинает новое:
– Это было только первое испытание! – и позволяет этому предложению звенеть прямо-таки радостно. – У каждого есть три испытания!
Смотрю на Старика, вытаращив глаза: Если это была шутка, то она была очень неудачной.
~
– Думаю, в следующий раз они расстреляют нас в пух и прах! Повезло, что ни одна машина не загорелась... Возвращаться назад на карачках – это совсем не то о чем я мечтал...
Но Старик на этом не успокаивается.
– Все-таки есть в этом и кое-что хорошее, – говорит он. – Теперь нам больше не придется ломать голову из-за Ренна. Форс-мажор. Против этого, к сожалению, ничего не поделаешь.
При этом он делает кислое лицо. Старик в ударе: Новая ситуация ему нравится, вместо того, чтобы впасть в уныние. Я могу только удивляться тому, как он сидит в своем кресле и занимает меня этой болтовней, словно в настоящий момент нет никаких проблем: Раненые снова в нашей медчасти, и я больше не досягаем для людей из СД в Ренне или Париже – это уж точно! Все к лучшему.
– И КПС также может сэкономить свои призывы..., – язвит Старик.
Я не могу сидеть здесь вечно, пронзает меня внезапная мысль и опутывает меня. Поэтому я поднимаюсь и говорю:
– Ну, тогда я снова распаковываю свои вещи.
– Действуй, – мягко отвечает Старик. – Если бы у меня был такой видок как у тебя, то я прежде всего умылся бы!
– Задание понял! – Мне становится стыдно: Давно уже следовало бы сменить подштаники. Сам бы уж справился как-нибудь.
Я всегда так поступал: словно толстокожий, раздраженный до последнего, не замеченный сверху, не повинующийся знакам судьбы. И это срабатывало достаточно часто, и было неплохо следовать указующему персту. Однако, на этот раз не получилось. На этот раз я страдал.
Я иду в радиорубку: стерильное помещение как в госпитале. Серые аппараты, провода. Радисты сидят ко мне спиной. Все напоминает проведение таинственного опыта.
Тишина. Только тонкое пищание доносится из наушников: призрачные голоса коротких волн.
Моршеля снова и снова вызывают на связь, но Моршель не отвечает. Царит «тягостное молчание», настолько тщательно радисты обыскивают магнитные волны.
Старик все чаще в течение этих дней стоит в задумчивости перед большой картой Атлантики устремив взгляд в район, из которого Моршель выходил на связь в последний раз. Лубах тоже молчит.
Так всегда: Сначала возникает лишь беспокойство, если отсутствуют ожидаемые сообщения. Волнение, которое затем появляется, тоже можно еще легко объяснить: У лодки могут быть веские причины не светиться в эфире. Если же молчание продолжается дольше, причиной этого может быть, наконец, простое повреждение радиопередатчика. Можно утешаться лишь тем, что были подлодки, которые выходили в эфир вновь, когда все уже считали их давно затонувшими. Во всяком случае так быстро как раньше больше не приходит «Трехзвездочный рапо;рт». Когда после обеда Старик находит меня в клубе глубоко утонувшим в кресле и размышляющим, он интересуется:
– Проблемы?
– Проблемы? – я усмехаюсь. – Откуда же им взяться в нашем защищенном от проблем положении?
Старик опускается в рядом стоящее кресло и смотрит на меня искоса.
– Хотел бы только знать, почему это ты баклуши бьешь?
– Я – баклуши? Но коль уж ты говоришь о баклушах: уж лучше их бить, чем они тебя – или нет?
Старик поднимает брови и ворчит:
– Остряк!
Я подчеркнуто равнодушно дергаю плечами.
–... и вместе с тем мы, пожалуй, можем прекратить поиски Симоны, – добавляю с горечью.
– Я бы так не сказал..., – отвечает он неуверенно.
– Мы слишком много времени угробили впустую...
Старик надолго задумывается, а затем говорит:
– И да и нет – но так или иначе, головой стену не пробьешь...
Поскольку Старик ничего более не добавляет, я снова погружаюсь в свои мысли... Какой же я все-таки был глупец! Искать Симону – это с самого начала была бредовая идея. Без Симоны я не сидел бы сейчас здесь. Что она вообще еще значит для меня? Лежа на койке, спрашиваю себя: Как теперь все должно повернуться? Нет танков, нет самолетов, нет новых подлодок – нет никакого чудо-оружия... Куда ни кинь – везде клин! Полный пипец!
Совершенно ясно, что мы находимся в глубокой жопе – и лишь только абсолютные идиоты могут сомневаться в этом. Практически все флотилии подлодок уничтожены, от флотилий минных тральщиков и флотилий сторожевых кораблей тоже мало что осталось. А флотилии эсминцев? Флотилии торпедных катеров, миноносцев? Все они сдохли. О крупнотоннажных судах вообще лучше помолчать….
Холодная ярость охватывает всего меня к этим надменным упрямым торговцам смертью, этим фанатичным заправилам, которые сами совершенно не испытывают никакой нужды в своем идиллическом маленьком сосновом лесу, но посылают экипаж за экипажем на верную смерть. А еще эти идиоты здесь, которые не способны даже к самым простым соображениям! Фюрер не оставит нас здесь! Фюрер посылает нам танк! Фюрер, Фюрер! И я не смеюсь! Наш славный Фюрер – он черта лысого будет беспокоиться о нас. Он скорее милостиво разрешит нам подохнуть здесь с голоду! Это по любому! Как можно спать, когда снаружи стоит чертовский шум! Вытаскиваю подушку из-под головы и кладу голову на предплечье. Так, а теперь подушку на левое ухо! Вот теперь я больше не слышу доносящийся снаружи неясный шум, однако различаю сильную стрельбу и совсем близко. Проклятье! Что должна означать вся эта тупая пальба? В следующий миг пальба прекращается – как будто моя ругань подействовала. Хорошо, попытаюсь теперь уснуть. Так проходит одна четверть часа, а затем еще одна. Но я не могу заснуть. В правом виске чувствую биение пульса. Может, подсчет пульса поможет уснуть? Пока шепчу онемевшими губами числа ударов пульса, жду напряженно начало новой пальбы. И она тут же начинается: Отчетливо различаю карабины и автоматы. Черт, это же просто беспорядочная стрельба от испуга. На кой черт такая бессмысленная трата боеприпасов? Со сном, во всяком случае, покончено безвозвратно. Можно было бы и встать. Но вместо этого остаюсь лежать с открытыми глазами и размышляю: Не впервые меня занимает вопрос, не слишком ли привлекают внимание павильон Старика и мой? Несколько храбрецов могли бы без шума снять часовых в воротах и легко захватить или прикончить Старика и меня. Это получилось бы у них без особого труда. Пока наши люди пересекли бы двор, добираясь до нас, было бы слишком поздно – думаю, наши вообще бы не забили тревогу. Следует обсудить это со Стариком. Но с ним на эту тему не так просто поговорить. Старик любуется собой в своем упрямстве и героическом позерстве. Вероятно, в его глазах это важная составляющая его роли сидеть здесь на передке у всех на виду и демонстрировать всем, что он Maquis ни капельки не боится. И тут резкая барабанная дробь автоматных очередей врывается в мои мысли. Довольно близко! Неужели на территории флотилии? Вместо того, чтобы броситься узнавать обстановку, я действую так же упрямо как и Старик: Остаюсь лежать и лишь напрягаю слух, однако не слышу ни призывов, ни криков команд, а только несколько коротких автоматных очередей. Десять минут третьего. Когда будет светать? Наверное, где-то около пяти утра. Значит, еще три часа! Твою мать! Несколько часов сна никому не помешали бы….
Нужно подумать о Симоне: У меня просто не укладывается в голове, что она тоже проживала здесь, в этом павильоне, именно в этой комнате, в этой самой койке, в которой я теперь лежу. Почему она не перешла в павильон Старика? Потому что это произвело бы чертовски плохое впечатление? Тогда он вероятно едва ли приходил к ней....
Я лежу словно в температуре. Снаружи снова что-то щелкает. На этот раз звучит вразнобой – как хлопушки. Дьявол его разберет, что теперь это должно означать. Приглушенные хлопки приходят словно издалека: три раза, пять раз, а потом опять две короткие хлесткие автоматные очереди – но на этот раз подальше. Внезапно на стене напротив окна появляются горизонтальные светлые полосы. Они мерцают и снова гаснут. Следовало бы закрыть жалюзи, чтобы, по крайней мере, прекратить оптические эффекты. И надо было купить беруши для ушей. Но нет, заткнуть уши, это не дело! Я должен услышать, если случится внезапное нападение... Снова белые полосы света! На этот раз они задерживаются подольше, прежде чем пропадают в мерцании. «…В глуби чертога на стене / Рука явилась – вся в огне… / И пишет, пишет. / Под перстом / Слова текут живым огнём…» В полудреме мои мысли путаются: То Оратор из области подносит свое лицо так близко к моему, что я могу видеть каждую пору на его носу как в увеличительное стекло. За борт подлеца и использовать вместо кранца! – предлагаю я адмиралу. Обмотать его линем! Этакий подлец! Однажды выплывет, как они за кулисами все проворачивали. И тогда наступит час расплаты! Затем я снова бодрствую. Обречен? Фильм такой был. Назывался «Поездка без возвращения»? Или это была книга? Насколько известно, Союзники давно уже организовали Комитет для нашего задержания. Томми и янки и русские, они втроем – и мы, нацисты, мы совершенно одни, и хотя бы только поэтому мы проиграли. Что мы принесли миру: разрушенный Роттердам, стертый с лица земли Ковентри. Повсюду лежат руины уничтоженных городов, опустошены целые области, уничтожены сотни тысяч человек. Должны ли оставшиеся нас полюбить? Только в Роттердаме на нашем счету 30 000 погибших, и это были, конечно, сплошь мирные горожане, которые, Бог свидетель, ничего против нас не планировали. Теперь очередь доходит до нас – до седьмого колена. Вера, любовь, надежда – эти три постулата жизни! Любовь – самый главный из них, и в ней мы будем нуждаться дьявольски сильно... Хлесткие щелчки выстрелов пугают меня в моем беспокойном сне. Ну, все – я уже сыт этим по горло! Одним прыжком вскакиваю с койки. Свет не зажигать! Еще пара выстрелов, затем беспорядочный грохот. И снова голоса перед главными воротами. Задерживаю дыхание, внимательно слушая: Топот сапог по мостовой, стоны и стенания и голос команды:
– Здесь берите – живей, живей!
Говорю себе: Там, наверное, схватили какого-то француза, который нарушил комендантский час. Патрульные стреляют чертовски быстро. Спешно натягиваю шинель, туфли и выхожу. У Старика горит свет. Дверь открыта. Кажется он внизу, у ворот. Там беспорядочно рыскают лучи карманных фонариков. И вот я слышу глубокий, взволнованный голос Старика:
– Оберштабсарца сюда. Немедленно! Шевелитесь! Он уже идет?
Вижу группу темных теней в полумраке, которые между собой тащат тело.
– Я сейчас подойду! – слышу голос Старика. Теперь он видит меня:
– Проклятая неприятность: Альвенслебен!
Я ничего не понимаю.
– Альвенслебен схлопотал пулю! Похоже, однако, что ему страшно повезло. Завтра он должен был выходить... Только предварительно должен был со мной встретиться.
В луче света, падающего из двери Старика, различаю бооцмаата охраны и узнаю, что Альвенслебен был подстрелен нашим часовым у ворот.
– Часовой крикнул ему «Пароль!», и когда ответа не последовало – выстрелил.
– Однако была целая перестрелка?
– Так точно! Господин обер-лейтенант тоже стрелял!
– А что будет теперь с лодкой Альвенслебена? – интересуюсь у Старика за завтраком.
– Мы приведем его в чувство. Раньше это был бы прекрасный отпуск с выездом на родину. Теперь ему предстоит идти в поход.
– Так он все же пойдет? А не следует ли доложить по команде о происшедшем и тому подобное?
– Собственно говоря – следует.
Искренне радуюсь тому, что фраза “собственно говоря”, получает наконец-то хоть какое-то ограничение. Старик смолкает. С этим «собственно говоря – следует», выполнена первая часть ритуала. Альвенслебену чертовски повезло, как сказал оберштабсарц: лишь касательное ранение, царапина – «чистое ранение мышцы, и не слишком сильное!» Вопреки моему дефициту сна я все же могу смотреть на сложившуюся сегодня ситуацию трезвым взглядом. Могу даже удивляться тому, как быстро привык к слову «отрезаны». Вероятно, оно не звучит в моих ушах слишком угрожающе. Я предпочитаю слово «окружены». Мы окружены врагом. Но слово «окружены» звучит как-то странно: Я окружен, ты окружен, он, она, оно окружено... Совершенно не хочу знать, сколько тысяч человек окружены здесь в Бресте. Но то, что, хватит всего несколько групп Maquis, чтобы поставить нас в крайне тяжелое положение – это, пожалуй, чистой воды безумие! Часовой, подстреливший Альвенслебена, прибыл к Старику. Я вижу его, бледного от охватившего его страха, идущего на негнущихся ногах по коридору.
– Его сейчас пронесет от страха! – говорю Старику, пока моряк ждет при адъютанте.
Парня зовут Гюнтер. Старик краток:
– Вы действовали правильно, Гюнтер. Все в порядке.
Только эти несколько слов – и у парня, стоящего вытянувшись в струнку, но со всеми признаками растерянности в проеме двери, кадык поднимается и опускается несколько раз, сглатывая слюну волнения, а затем он с заметным трудом открывает рот, как будто хочет сказать что-то, но Старик поднимает руку и спокойно говорит:
– Все хорошо, Гюнтер. Вы можете идти.
Гюнтер все еще, кажется, не может этого понять. Затем до него медленно доходит, что ему не угрожает никакое наказание, и я присутствую при превращении человека прижатого грузом вины к грунту, в человека, сияющего от проявленной к нему справедливости. Когда дверь снова закрывается, Старик говорит:
– Альвенслебен был, само собой, вдрызг пьян. Но реагировал достаточно быстро. Повезло, что он не подстрелил часового. Дружище Альвенслебен израсходовал почти весь магазин. Чувствовал себя, наверное, атакованным Maquis. Вот такая штука!
Два матроса убирают посуду в столовой. Узнаю: сиськатая посудомойщица Тереза не явилась на службу.
– Получает свои заказы, – объясняет Старик.
Я не понимаю.
– В отрядах Сопротивления, конечно! – поясняет мне Старик.
– Неужели она там тоже служит?
– Да больше придуряется, – бросает доктор.
Наконец-то до меня дошло: У Терезы – не все дома?
– Тьфу, ты черт! Господа, пора обедать! – кричит весело Старик и смотрит с усмешкой. – Времена станут еще труднее, – добавляет он радостно и слегка покашливает «кхе-кхе-кхе».
Зампотылу пристально всматривается в плавающие в бульоне куски картофеля. Несколько молодых офицеров издают булькающие звуки: давно уже не слышали ничего смешного. Никто не знает, что это внезапно нашло на Старика.
– Никогда не подумал бы, что такая дама ни мне, ни тебе, ни всему нашему шарму не поддастся, – обращается теперь Старик к зампотылу. Не краснея, тот направляет взгляд снизу вверх от своей тарелки и кривая гримаса искажает его рот улыбкой Щелкунчика.
– А как дела с ее заменой? – допытывается Старик. – Я имею в виду по женской линии.
– Почти безнадежно, господин капитан!
– В штольнях за лодочным Бункером довольно часто проходят чистые оргии. Разгульные пьянки со связистками из вспомогательной службы и медсестрами, – сообщает доктор.
– Болтовня! – Старик бросает резко. – Я лично сам все осмотрел позавчера...
– Днем, – ворчит оберштабсарц.
Старик вопросительно поднимает правую бровь, но позволяет оберштабсарцу закончить свое брюзжание. После всего, что я знаю, дела с каждым днем все хуже идут в штольнях, в которых отсиживаются солдаты: Пьянки и настоящие оргии с насилием каждую ночь. Кажется, в штольнях нет функционирующих уборных, а лишь зловонные параши, которые опорожняются где-нибудь перед входами. Даже в светлую первую половину дня на дорожке, проходящей между задней стеной Бункера и штольнями можно видеть группы пьяных в стельку вояк, среди них унтер-офицеров и фельдфебелей.
– Вчера, год назад, 24 июля 1943 года, был массированный авианалет на Гамбург, – произношу вполголоса.
Мы опять сидим в павильоне Старика.
– Когда я весь в грязи снова пришел после него в этот город счастья, то увидел лишь пирамиды, составленных по шесть карабинов...
– А зачем ты мне рассказываешь это? – безучастно интересуется Старик.
– Чтоб улучшить настроение. И чтобы ты лучше увидел различия. Вопреки всему, все, что здесь есть у нас – прекрасно: приличное пиво, хороший коньяк, чистое жилье – этакая ухоженная жилая атмосфера.
Старик не поддается. Он лишь произносит:
– Кстати, Брест упоминался в сообщении ОКВ.
– В связи с чем?
– К западу от Бреста получил повреждения вражеский эсминец.
– Поврежден эсминец – и об этом они трубят на весь мир?
– В районе Caen все еще идут бои. Об этом тоже сообщили. Судя по всему, речь идет о крупной наступательной операции.
– Кто же умудрился подбить эсминец?
– Черт его знает! Во всяком случае, из сообщения этого узнать не удалось. Они не сказали, кто подбил его.
Старик вновь погружается в свой ритуал чистки трубки, и между нами воцаряется молчание.
– По какому сценарию все теперь пойдет? – я, наконец, нарушаю молчание.
– Поживем, увидим – надежная народная примета.
– Доверяй, но проверяй – тоже хорошая примета.
Старик снова замолкает.
– Просто повезло, что у нас есть такая большая стена, – произносит, помолчав немного. – Она избавляет нас от больших проблем. Не хотел бы я сидеть здесь с флотилией на открытой местности.
– То, что мы занимаем выгодную позицию на этом холме, тоже элемент везения!
– Кто знает? Меня только волнует связь с Бункером – и сильно.
Действительно, это наш handicap: Дорога к Бункеру идет по всему городу. В темноте, даже вдвоем, никто не решится идти по ней пешком.
– Если бы у нас только было побольше автобусов... Ладно, поживем – увидим! Наступают веселые времена!
– И, к сожалению, среди людей больше нет любви, – язвлю, но Старик не слышит, он сосредоточен на своей трубке. Затем, как бы невзначай, он говорит:
– В Первой флотилии, между прочим, пропал командир. Был вызван приказом в Bernau – для награждения Рыцарским крестом. Где-то по пути и пропал....
–... вместе с Рыцарским крестом, – не унимаюсь я.
Лицо Старика сразу мрачнеет. Повисает неловкое молчание. Чтобы снова запустить беседу, говорю через некоторое время:
– Если мы потеряем здесь базу ВМФ, тогда море для нас будет закрыто…
– Остается еще Норвегия – Крайний Север..., – бормочет Старик вполголоса, как в монологе, и я задумываюсь, говорит ли он все это теперь с иронией или нет.
– А необходимые бункеры и верфи?
– Там нам все придется начинать с нуля...
– Могу себе только представить это так: Исландия, Фарерские острова, Шетландские острова, Оркнейские острова, Британские острова – чистый клинч! Стратегически не может быть лучше для наших уважаемых противников! – Я бы назвал это петлей на шее.
– Не преувеличивай! Пока еще не все так плохо, как тебе кажется! – Старик взрывается от ярости, – На карте все выглядит хуже, чем на самом деле.
– Я просто стараюсь представить себе районы, в любом случае, достаточно недружелюбные для нас – я имею в виду, для наших подводных лодок.
Тут Старик, к моему удивлению вдруг весело моргает прищуренными глазками и вальяжно так произносит:
– Ах, не знаю: Stavanger, Bergen – там тоже, конечно, может жить. Там даже есть селедка! Все-таки разнообразие: сельдь вместо устриц. Неплохо, однако, да?
Не могу придумать ничего другого, как закатить глаза вверх от наигранного отчаяния. А затем меня прорывает:
– Не помнишь, коллаборационисты в Норвегии зовутся «квислинги»?
– Да, «квислинги».
– Звучит как «мислинги».
– Точно так, – улыбается Старик. Но в следующий миг его хорошее настроение улетучивается.
– Если все Атлантические флотилии перебазируются в Норвегию, вверху с ума сойдут, – я снова затеваю беседу. – Может быть, вскоре мы узнаем об этом поточнее? Ведь такие крупные мероприятия требуют, в конце концов, тщательной подготовки, если они должны будут стать необходимыми...
Старик занимает глухую оборону:
– Это же чистое безумие позволить нам умереть здесь с голоду – или просто списать нас со счетов.
Старик складывает руки перед грудью, будто к молитве. Он так пристально смотрит перед собой, словно для него больше не существует окружающего мира. И хотя повисает гнетущее молчание, мне кажется, я знаю, какие мысли он прокатывает в голове: Более нет никакого известного стратегического плана. Никакой ясности, что ждет флотилию. Как все сложится дальше? Но вот Старик сводит брови домиком.
– А ты все пишешь и пишешь каждый день новые листки, – произносит он задумчиво, – и даже прилежнее, чем когда-либо раньше. Можешь ли ты мне объяснять, что, собственно, ты делаешь?
В замешательстве медлю с ответом.
– Вероятно, это чистый атавизм, – говорю, наконец. – Но может быть, я тоже тайно верю в большие перемены. Например, в танки, которые придут, чтобы освободить нас от захвата яростным врагом, и в чудо-подлодки, которые положат конец нашим страданиям. Вероятно, я верю во все это, но показываю не слишком отчетливо...
Старик криво ухмыляется и гремит:
– Скорее всего, я так полагаю, тебя однажды причешут против шерстки, а потом публично повесят – нам в устрашение и назидание...!
Перед сном прохожу еще раз по территории флотилии. Время от времени останавливаюсь и осматриваюсь вокруг. Затем прохожу сотню шагов и снова останавливаюсь, задираю голову и рассматриваю небо.
– Небо, – произношу вполголоса.
Надо мной висят звезды, некоторые из которых могу назвать. Задрав голову, произношу шепотом их названия. Но многих совершенно не знаю. Луна не видна. Весь свет идет от звезд. Почему? Моих знаний не хватает: Я даже не знаю, когда всходит и заходит луна. Внезапно яркий луч света бьет мне прямо в лицо. Я будто наталкиваюсь на встречный удар. Правая рука автоматически тянется к кобуре. Луч света опускается передо мной на мостовую.
– Пароль? – кричат мне резко из темноты – и, к счастью, я могу молниеносно его назвать.
Удвоенный наряд патруля, который так испугал меня, стоит под выступом крыши. Доносится стук каблуков и затем хриплый кашель.
– Спокойного дежурства! – желаю в темноту и топаю дальше.
Лежа на койке, еще раз прокручиваю сцену у Старика. Является ли это действительно атавистическим инстинктом, который побуждает меня, как белку, собирать все что вижу и слышу, делать запасы и при этом не задаваться вопросом, удастся ли мне когда-либо ими снова воспользоваться? Верю ли я все же в глубине души, в то, что то, что я делаю, сохранится? Или это мучение является просто моей формой жизнеутверждения? Как смог бы я здесь вынести хотя бы один день без того, чтобы не рисовать, не писать или, по крайней мере, не высматривать и не подслушивать и не вносить все замеченное и подслушанное в свои Заметки?







