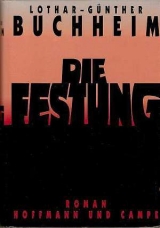
Текст книги "Крепость"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанр:
Военная документалистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 75 (всего у книги 111 страниц)
Тащусь в централ и становлюсь непосредственно за спинами горизонтальщиков.
Командир погружает лодку сначала на 70, затем медленно до 100 метров.
А теперь? За мной люди стоят опять словно статуи. Навостряю уши на новую команду. Но слышу только зуммер электромоторов. Командир молчит.
Стрелка манометра глубины стоит на сотне, как приклеенная. Командир, очевидно, не хочет больше рисковать опуститься глубже ста метров.
А если нам придется уходить от противника на двойную глубину? Если нам придется
уклоняться от глубинных бомб еще вниз – что тогда?
Командир приказывает снова всплывать.
Сто метров! Старик, если бы он сейчас стоял здесь в централе, лишь насмешливо ухмыльнулся, думая об этом трусишке командире. Старик приказывал погрузить лодку при пробном погружении так глубоко, что «система балок» шелестела, скрипела и даже трещала. Тогда вахтенный инженер посылал умоляющие, испуганные взгляды Старику – а тому все было похер. Он хотел знать, будут ли молчать крепления и на крайней глубине. У Старика, при пробном погружении, я был на грани нервного срыва. Но между тем я знаю, как он был прав...
А здесь, этот командир тоже, наверное, прав: Вероятно, лучше не требовать большего у этой лодки. Сто метров: Здесь немногое может произойти.
В то время как мы медленно поднимаемся, думаю: Не потому ли этот командир так любим своими людьми, что ничего от них не требует? Он, во всяком случае, не может выказать успехи. Однако это может означать и то, что он бережет экипаж в сомнительных случаях.
Теперь, на шестом году войны, экипажи больше не являются жаждущими подвигов командами, как было в ее начале.
Медленно плетемся на глубине 60 метров на экономичных электромоторах в западном направлении: Курс – 270 градусов.
– Прежде всего, отвалить от берега, – комментирует командир курс, как будто он обязан давать мне отчет. Затем добавляет:
– Вечером попытаемся пойти под шноркелем.
Что называется «вечером»? Сколько часов еще до «вечера»? Еще никогда мое чувство времени не оставляло меня так быстро как здесь на борту.
Наклоняюсь к пульту с картами, чтобы определить, где мы можем быть и на каком рас-стоянии должны пройти мимо La Baule и Lorient. Но не прихожу ни к какому понятию: наш прежний курс представлен лишь простой тонкой карандашной черточкой, направленной почти точно на запад.
Не хочу спрашивать оберштурмана о том, где мы находимся. Разве мог он правильно оп-ределить наше место в этом сумасшествии? При вполовину нормальных условиях и то было бы вполовину трудней проложить навигацию по компасу и лагу. А в нашем случае? Наше постоянное висение на крючке и сильные течения – все это едва могло бы помочь сработать правильно.
Просто чудо, что оберштурман сумел проложить курс, как я только что видел! Для моряка пытка не знать точно, где находится его корабль. Жмурки – чертова игра! А этот оберштурман уже имеет нехороший опыт в этой игре: появился под шноркелем в Ла-Манше перед английским, вместо французского, побережьем, что не совсем приятно.
Спрашиваю себя, какая может быть сейчас погода. Старая мудрость гласит: Нельзя выбрать погоду, но можно выбрать место, где живешь.... Если бы мы могли выбирать, то подошла бы погода пасмурная и ветер с бушующим морем – а ночь темная, как задница негра.
Хочу какое-то время полежать вытянувшись на своей шконке и перемещаюсь в отсек.
Но на моей койке уже лежат двое, уткнувшись друг в друга, словно педерасты. Парни с верфи. Черт их бери, пусть так и лежат! Итак, назад в централ. Там присаживаюсь на металлический ящик и прислоняюсь спиной к колонне зенитного перископа. Дела идут, контора пишет... Ничего и никого больше не видеть. Просто сидеть, приводя нервы в умиротворение, направив взгляд вовнутрь...
Когда вновь выхожу из полубессознательного состояния и пытаюсь упорядочить свои мысли, мне вдруг становится ясно, что за эти несколько часов я ни разу не вспомнил о Симоне. Такое впечатление, словно вдруг оказался в подобии вакуума.
Постепенно прихожу в себя и пытаюсь выгнать из головы помраченное сознание и ухватиться за где-то скрывающиеся ясные мысли.
Вокруг меня царят тишина и покой. Я различаю только спины горизонтальщиков и полу-профиль второго помощника. Осколки разбитых стекол выметены. Вахтенного инженера не видать. Наверно в корме, на ремонте. Оберштурман тоже отсутствует на своем обычном месте у штурманского стола. А командир?
На лодке почему-то стало больше места, чем раньше. Пригодился старый трюк: все аккуратно перетряхнулось – как мешки с картофелем: После встряхивания их можно легко завязать.
Кажется, меня должна была бы успокоить эта тишина в центральном посту: То, что здесь нужно было сделать, уже очевидно сделано, временно, по крайней мере – средствами, имеющимися на корабле. Но тишина в централе нашего корабля одновременно и пугает меня. Чтобы успокоить нервы, говорю себе: Все находятся на своих местах – личный состав центрального поста сидит там, в темноте. Наверху в башне сидит рулевой. Я не вижу его, но знаю, что он сидит там наверху и управляет подлодкой.
Что касается повреждений, то их тоже немного: гирокомпас снова в полном порядке. Магнитные компасы тоже. Компасы важны, они указывают нам курс. Без них мы оказались бы в безвыходном положении.
В глубине тени различаю теперь централмаата как отдельную фигуру: Согнувшись над вентилями, регулирующими подачу сжатого воздуха в балластные цистерны, он тоже повернут ко мне спиной. Наверное, с момента выхода лодки из эллинга централмаат еще не сомкнул глаз.
Делаю несколько шагов к пульту с картами и вижу лежащую там обзорную карту «Франция». Откуда она там взялась? Обычно здесь лежат только морские навигационные карты.
Ищу La Pallice и говорю себе: Дьявол его знает, как нам удастся выбраться из La Pallice – тьфу, тьфу, тьфу! – если янки тоже немного поспешат. Если их танки нанесут удар на юге, это будет катастрофа…
Но чему быть, того не миновать! Человек предполагает, а Господь располагает! Нас уже оглушил слух о второй большой высадке Союзников: Дивизии, ожидающие противника у Abbeville, откинуты теперь чертовски далеко за Rennes. Скоро падет Nantes и рано или поздно будет отрезан Saint-Nazaire – а вместе с ним и Бретань – весь огромный полуостров будет потерян.
Осторожно, как вор в ночи пробираюсь к передней переборке. Кокосовые маты снова
аккуратно лежат на плитках настила, тряпки, которые были выброшены из рундуков в проход, исчезли.
Занавеска перед командирской выгородкой открыта. Командир бодрствует вместо того, чтобы спать. Но где он может быть?
Проходя мимо радиорубки, вижу, что радист спит, положив голову на руки. Гидроакустическая рубка занята его товарищем. Равнодушный и с абсолютно не-выразительным лицом он медленно поворачивает штурвал поиска. Губы плотно сжаты. Ну, слава Богу!
Ставлю ноги, так осторожно ощупывая перед собой пол, будто несу хрустальную вазу на голове, и только потом переношу тяжесть всего тела и выравниваюсь.
Нахожу командира с инжмехом в кают-компании на кожаном диване. То ли спят оба, то ли бодрствуют?
Внезапно инжмех направляет взгляд на меня и выдувает воздух из-под оттопыренной верхней губы. Затем фалангами указательных пальцев он так сильно нажимает себе на веки, как будто хочет выдавить глазные яблоки, но затем внезапно широко распахивает глаза, словно в паническом страхе. Они красные и заплывшие. В следующий миг он пытается совладать еще и с судорожной зевотой.
Заикаясь, бормочу «... не хотел мешать». Затем удаляюсь, бормоча: «не хотел мешать» – что за глупые слова!
Хочу, чтобы командир как следует отдохнул в своей выгородке и по-настоящему выспался. Господь никогда не дает человеку больше того, что он может вынести.
А может он принял какие-нибудь таблетки, чтобы выстоять такую долгую вахту? О таких таблетках рассказывают странные истории: Некая подлодка охотилась на конвой – несколько дней кряду – и командир держался на ногах только лишь благодаря таким таблеткам – но кон-воя все не было и не было, и командир, наконец, уснул – да так, что проспал конвой, когда тот объявился.
Волна позднего сочувствия затопляет меня. Чувствую себя тоже совершенно измученным – измотанным и разбитым. Направляюсь к своей койке – вот верное для меня сейчас направление! Оба серебряника пусть убираются к черту, если они все еще там. Самое разумное сейчас для меня прикорнуть и покемарить. Сэкономить силы и нервы.
Итак, обратно в корму! «Для выхода разместите правую руку на правом поручне» – помнится так было написано в правилах для пассажиров в Хемницском трамвае. Или это была левая рука? Тупость, что даже этого не знаю правильно – даже этого! «Запрещается спрыгивать с трамвая во время поездки». Что еще у нас есть в запасе? «Non sputare nella carozza» – «Ne pas ouvrir avant l’arret ты train».
Что это со мной творится? Может быть, так вот и начинается размягчение мозга?
– Господа, хочу рольмопс копчёный маринованный, – слышится стенание, как раз когда ставлю ногу в кубрик.
– Закажи официанту.
– У него он будет не такой!
– Убери свои вшивые грабли отсюда, старый хрыч!
– Давай-давай, обжирайся! Ешь, пока рот свеж…
Не могу понять: Едва закончился весь этот кошмар с бомбежкой, а унтер-офицеры уже снова весело болтают, подтрунивая друг над другом, будто мы все еще не находимся в самой глубокой жопе.
Серебрянопогонники исчезли. Один из унтер-офицеров поясняет мне, что он был тем, кто разместил их дальше. Браво! Брависсимо! Хорошо, что никто не смотрит, как медленно я взбираюсь на койку. Я буквально вползаю на нее. Сколько усилий требуется, чтобы задвинуть верхнюю часть туловища на матрас и затем подтянуть ноги! Не замечая ничего, судорожно сжимаюсь, сворачиваясь калачиком. Откуда только появляются у меня эти мышечные боли?
Когда, наконец, лежу в позе эмбриона, наслаждаюсь чувством, вызванным истомой охватывающей все тело, распространяющейся по нему с головы до ног: Прижимаюсь плотно к матрасу, ощущая по очереди расслабляющиеся затылок, спину, зад, ноги, пятки – все тело...
То, что мне удалось снова заполучить мое старое койко-место – просто чудо: Человек – это существо привычки.
Как только нашел правильное положение на тонком, жестком матрасе, время сокращается, уносясь прочь, как ветер: Ведь вот вроде недавно я был в таком же положении на лодке U-96, а теперь здесь. Но хорошо уже то, что снова лежу на своем месте.
Какая невыносимая, свинцовая усталость. Зуммер электромоторов сделает остальное, что-бы погрузить меня в сон!
Блуждаю взглядом по заклепкам нависающего надо мной потолка: Такие же заклепки, как над моей старой койкой. Звуки, долетающие до меня снизу, напоминают скорее запоздалое эхо.
Ощущаю себя как-то странно: «Плавающее состояние сознания» назвал я когда-то такое состояние... Если все то, что я сейчас воспринимаю вокруг себя, все в действительности не существовало, а было бы лишь обманом зрения? Если бы на самом деле я не находился здесь с другими 100 телами? Это же ясно, как пить дать: Все повторяется! Я могу коснуться головой этих выкрашенных белой краской заклепок – одну за другой. Могу нащупать отчетливые гор-бы, образованные на них краской. Это уже было на U-96: один в один!
Именно это я и имею в виду: Здесь все то, что я уже однажды испытал, повторяется, толь-ко более сложным способом. Тот унтер-офицер, что болтает за занавеской полный вздор, не один ли это из унтер-офицеров-дизелистов с U-96?
Волны сна накатываются, но прежде чем накрыть меня полностью, они постепенно спада-ют, создавая во мне всякие мысли: если Старик родился в тысяча девятьсот одиннадцатом, то ему сейчас тридцать три года. Тридцать три и не больше? Курам на смех! Когда мы переживали те несчастья в Гибралтаре, ему было только тридцать. Но для меня он уже был пожилым человеком – на мой взгляд, тогда Старику было около пятидесяти... О времена! Тридцатилетние выглядят как патриархи! Сколько лет может быть этому командиру? Едва одна моя мысль начинает работать, высчитывая его возраст более точно, другая тут же начинает думать о весе подлодки. Хватит ли нам его, чтобы подняться и сделать хоть глоточек свежего воздуха? И исчезает снова… Опять шумы снаружи. На этот раз звучат, напоминая угрожающее собачье рычание. Это должно быть отзвук очень далеких бомб. Но как далеко от нас? Собачье рычание превращается в приглушенный гром опять сбрасываемых глубинных бомб. Бомбежка с перебоями: Бомбят – пауза и снова начинают. Затем два или три четко различимых в тишине забортных шумов. На-конец опять возвращается долгая глухая барабанная дробь – словно барабанят по сильно растянутой коже барабана. Если не ошибаюсь, эта дробь раздается теперь с двух разных направлений. Грохот литавр, раскатистое громыхание и долбежка в барабаны никогда, наверное, не за-кончатся. Братишки хотят, что ли целый день так громыхать, потому что им нравится танцевать под такой грохот? Казалось, они уже в изобилии позабавились подобными акустическими эффектами. Не паникуй, говорю себе. Отвлекись от этих шумов. Жди и пей чай. Не думай о будущем, ни о чем не беспокойся. Что еще вспомню из подобного? Почему Луну должно волновать, что собаки на неё лают?... В моем животе идет бурное брожение. Старая поговорка самогонщиков в самый раз подходит к моей ситуации: «Холодна вода не мутит живота»... Надо бы сходить по большому, но у меня нет ни малейшего желания сидеть на одном из тех вонючих ведер. Уже сама только мысль о том, сколько ведер полных дерьма, мочи и блевотины стоят в лодке, вызывает удушье в горле. В глубине души надеюсь, что кишечник успокоится, и буря в животе уляжется – и продлится это в течение последующих нескольких дней: Надо просто меньше жрать! Было бы здорово, если бы от голода я не ходил по-большому в воняющие дерьмом ведра: Из ничего ничего не бывает – вот еще одна правдивая поговорка. И тут о себе заявил, да и во весь голос, мой мочевой пузырь. Сколько времени прошло на самом деле с того момента, как я помочился в последний раз? Удивительно, что пузырь смог столько выдержать. Может ли пузырь на самом деле лопнуть, или его «клапан» спасет? Черт! Ничего не помогает! Придется вставать, и искать ведро, чтобы жидкость в мочевом пузыре не разорвала меня. Вылезаю из койки и перелезаю через нескольких серебряников, лежащих словно мешки на неприкрытых плитках голого настила, затем, будто утка переваливаюсь через порог люка переборки. В централе выбираю одно из двух больших ведер стоящих рядом с балластно-осушительным насосом. При обычных условиях, я должен был бы продолжать двигаться вперед, к гальюну, но Тритон может быть до сих пор не работает из-за своего шума.
Левое ведро кажется менее более наполненным, чем правое, поэтому направляю свою струю в него. Она крепкая и тонкая, брызжет как струя молока при дойке коровы. Какое облегчение! С плеч долой и эту заботу. Дай Бог, чтобы кишечник не сыграл со мной злую шутку. В правом ведре, в моче плавает дерьмо, два куска, толстые, как говяжьи рулеты. Я перестаю дышать, чтобы не вдыхать зловоние. Обратно в отсек и на койку. Через свисающую занавеску доносится болтовня. Слушаю вполуха:
– Ты можешь, в конце концов, почистить свою чертову одежду? Совсем культуру потерял?
– А как же, мой сладкий, именно там, где темнее всего: прямо между булками жопы!
НА ПЕРЕХОДЕ
Вдруг раздается пугающий меня звон посуды. Поэтому некоторое время стою в напряжении. Небольшой сон приободрил меня. Чувствую себя, как после тяжелой болезни: болезнь была тяжелой, но теперь она позади. Внимательно осматриваюсь, стараясь разобраться, что происходит в центральном посту.
На моем пути сетка двухъярусной кровати. Почему она закрыта на крюки? Что это должно значить? При такой слабой тряске, вызываемой электромоторами невозможно свалиться с койки, Бог тому свидетель. Что за дурость...
Ладно, говорю себе, то, что сетка закрыта на крюк – это намек мне: Надо лежать. Поэтому, пожалуйста – поступай, как всегда хотел: Во время шторма я всегда жаждал одного: лежать вытянувшись во весь рост, в тихом месте, вместо раскачивающейся доски трамплина. Сейчас имею то, о чем мечтал: койка, которая не брыкается и не старается сбросить меня с себя. Я могу спокойно лежать, сложив на животе руки, будто помер. Не хватает только цветов. Моя занавеска наполовину открывается, и я слышу:
– Господин лейтенант, вас вызывают в кают-компанию!
– Что случилось? Зачем? – спрашиваю ошеломленно.
– Заморить червячка, господин лейтенант.
– Ужин?
– Не-а – по-настоящему поесть.
И тут замечаю, что из камбуза доносится пряный запах.
– Я бы скорее сказал, завтрак, – продолжает голос и добавляет: – Настоящая вкуснятина – куриное фрикасе, господин лейтенант.
Теряюсь в шквале мыслей: Завтрак? Сколько же я спал? Что имеется в виду под словом «завтрак»? А почему при движении на электромоторах? Неужели наверху белый день? Почему только завтрак? В любом случае, тело нуждается в пище, как аккумулятор в токе производимым генератором. Целую вечность не ел нормально. Мое намерение, по возможности ничего не есть, растворяется.
Вылезаю из койки. Прихорашиваюсь, запустив пятерню в спутавшиеся волосы – весь мой утренний туалет к столу. Грязный как свинья! А что ты хочешь? Аварийная ситуация!
В кают-компании, за накрытым клеенкой столом, сидят командир и вахтенный инженер. Глаза пустые, как мертвое озеро. Оба помощника занимают свои места на узкой стороне стола. Я просто киваю и получаю в ответ четыре кивка. По соседству раздаются громкие вздохи и всхлипывания. Слышны приглушенные проклятия. Наверное, старшина лодки чертыхается. Странная улыбка блуждает по лицу командира. Самодовольство? Благодушие? Не считает же он своей заслугой то, что нам удалось уйти от Томми? Нам просто повезло. То, что мы все еще живы – это чудо, а не заслуга. И вот приносят куриное фрикасе – как бонус за страдания, так сказать. Я знаю, что это обычный бортовой провиант: все готово, с рисом под голландским соусом. Коку пришлось просто разогреть. Мы сидим сейчас как в отдельном кабинете для важных персон ресторана: В уголке за столиком для постоянных клиентов. Пять человек, не имеющих никакого желания беседовать. Глоток Hennessy или Martell мог бы сейчас осчастливить меня. Я был бы счастлив хотя бы одному из тех тысяч глотков, которые оставил в Logonna или утопил на рейде. Бачковый с видом важным, как у официанта, подходит со своими мисками. Он демонстрирует нам, поднимая нос и принюхиваясь, как хорошо пахнет от мисок. Еда, как исполнение долга. Но, по крайней мере, приходится выполнять процесс поедания исходя из реалии: Нож и вилка остаются неиспользованными, потому что ложки вполне достаточно для этого соуса с шафраном и кусочками курицы. И в то же время у меня возникает ассоциативное название этого соуса – «Соус – цвета детской неожиданности», и в смысле цвета, и по вкусу.
– Вкусно? – интересуется у меня инженер, с участием в голосе.
– Отменно!
– Немного сыровато – могло бы и получше быть приготовлено, или нет? – продолжает он.
Парень оказывается садистом: разыграет заботливого человека и тут же накладывает мне, поскольку я только что съел свою порцию, новый полный черпак желтого фрикасе с рисом, провозглашая при этом:
– Такой вкуснятины у нас давно не было. А я даже не знаю нашего зампотылу! Кстати, ведь у нас на борту есть еще и половинки персиков в сиропе!
Вливаю в себя чай, только чтобы утопить в нем свое раздражение. Инжмех откинулся на спинку скамьи и сложил руки на животе. Это большое достижение для кока на подлодке суметь приготовить горячую пищу для ста человек, в существующих теперь условиях, – объясняет он мне. И при движении под шноркелем, узнаю дополнительно, и днем и ночью кок пашет как проклятый: Потому работа на камбузе ночью довольно трудна. Что особенно трудно, так это то, что при непрерывном сильном давлении ниже атмосферного – до двухсот миллибар и более – никогда не знаешь, имеет ли вода во время приготовления пищи на самом деле сто градусов. Если нет, то кок попадает в довольно глупое положение при готовке. И ничего не поделаешь.
Совсем как наш учитель физики объяснял нам: «Выще тощки кипенья вада не кипить» И в качестве дополнительного пояснения: «Хощь лопни, увелищивая силу пламья».
– Ну и пережили мы пьеску, – подает голос первый помощник, и я могу только восхищаться вдруг проснувшимся в нем красноречием. – Кок хотел испечь пироги и уже замесил тесто, как всегда. Но потом здорово удивился: При давлении ниже атмосферного получилось тесто, которое так раздулось, что в его горшки не поместилось.
Перед глазами возникает видение того, как кок борется с тестом, а оно веревками свисает с тела, охватывая все его члены, становясь все толще и мощнее, и, в конце концов, удушает его, и никто не может пройти больше от центрального поста к корме, потому что тесто из камбуза достигло последнего уголка и заполнило все переходные люки переборок...
– Только тогда, когда дизели остановились, тесто снова просело. Было просто смешно видеть, как оно сморщивалось, – добавляет он подумав.
Командир, едва притронувшись к еде, благодарит первого помощника возмущенным взглядом. По его мнению, слишком много пустой болтовни. Командир ведет себя довольно сдержано со своим первым помощником. Могу понять его: Неопределенная улыбка, с которой тот смотрит, когда ты с ним говоришь, тоже заставляет меня нервничать. Этот кривящийся стянутый рот может быть просто признаком смущения, но придает вид высокомерный и насмешливый. Повар подходит с улыбкой на лице наполовину смущенной, наполовину жаждущей одобрения. В этом все повара кажутся одинаковы: После выполненного дела, они жаждут похвалы командира как непреложную дань.
– Молодец, – охотно говорит командир. И даже первый помощник бросает быструю похвалу коку, когда тот уже наполовину ушел вперед:
– Обед в это время, – говорит мне первый помощник, – не был в программе. На самом деле это было сделано для нас не из-за полуночи или летнего времени. Просто было сделано исключение, потому что в течение почти двадцати четырех часов никто практически не ел.
– Может быть, аппетита не было, – бормочет командир, стараясь при этом звучать саркастически.
Первый помощник, видимо неправильно понял его и переспрашивает, слегка подав вперед верхнюю часть тела, выражая полное внимание:
–... Господин обер-лейтенант?
– Вы лично, есть хотели? – произносит командир в своей растянутой манере говорить.
– Нет, господин обер-лейтенант.
– Ну, вот видите, – командир делает обидчивый вид.
Первый помощник выглядит взбешенным. Вдруг командир смотрит на меня, будто увидев в первый раз. Лицо его в этот миг подергивается, что уже раздражало меня еще при нашей первой встрече. Затем он натягивает маску уверенного в себе дружелюбия, и говорит:
– Приготовление пищи при ходе на электромоторах действительно не имеет успеха в любом случае, потому что мы не можем потреблять ток от аккумуляторов для такой роскоши и, конечно, находимся без воздуха.
Киваю понимающе. И вскоре опять воцаряется молчание... Мы сидим не более получаса, как снова начинается шум. Для начала, на очень малом рас-стоянии, раздается добрая дюжина взрывов. Не близко, но все же достаточно громко, чтобы пронзить до костей. Я удивлен, что командир не вспрыгнул, не помчался как ужаленный тарантулом в центральный пост. Он откидывается назад и посылает набожный взгляд в потолок. Оба помощника тоже молчат. Первый нервно водит пальцами по своей тарелке, как слепой, который хочет почувствовать формы и точно запомнить их. Только инженер продолжает есть. Откусив кусок консервированного персика, он бормочет:
– Только бы аппетит испортить! – затем добавляет: – Никакого уважения…
И замолкает в смущении, что сморозил что-то не то. Сосредотачиваюсь на рассмотрении нашего командира: Он хочет представить себя упрямым и несломленным – но лицевые мышцы предают его. Они тянут его рот попеременно влево и вправо, как при полоскании горла. Нижние веки подергиваются. Вдруг наши глаза встречаются. Как легкий ветерок по его лицу пробегает кривая усмешка. Затем он говорит:
– Не к нам, конечно же.
Но к кому же тогда? Может быть, еще одна лодка движется в этом же районе? Командир поясняет:
– Может быть, бомбят просто для того, чтобы прострелять места предполагаемого нахождения подлодки.
Инжмех тоже открывает рот:
– Если заявятся домой с полным боекомплектом своих глубинных бомб, представь – вот это будет для них действительно плохим впечатлением.
Повезло, что этот парень такой опытный человек. От бравого вояки в нем столько же мало похожего, как и у пожилого инжмеха с подлодки U-96. Его голос не обладает командными свойствами, а странная шаркающая походка совсем не-военная: Он ходит не на каблуках, но так, как если бы у него были слишком большие тапочки на ногах, которые он не хочет потерять при ходьбе. Кроме того, еще и сутулая осанка: Когда инженер не занят, его руки свисают как у гориллы. Как и любой, действительно влюбленный в свое дело инженер-подводник, он буквально женился на своих моторах. Смотря на командира и лейтенанта-инженера, сидящих передо мной, я впадаю в ступор из-за вновь растущего во мне проклятого ощущения нереальности всего происходящего. Спиритический сеанс! говорю себе онемевшими губами. Оба помощника командира, сидящие за узким концом стола, тоже не двигаются. Удивляет сначала то, что здесь сидит весь, так сказать «офицерский клуб», но затем вспоминаю: Сей-час дежурит третья вахта – во главе с оберштурманом. То, что инженер с нами, успокаивает меня. Значит, не все так плохо с нашими повреждениями, как выглядело на первый взгляд. «Все под контролем», объявил он. И только пожаловался, что не знает, в каком состоянии топливные цистерны. Это известие не слишком радует, но все же, все же…. Едва лишь мелькает эта мысль, как внезапно, словно испугавшись чего-то, он произносит:
– Минуточку! И поднимается.
Второму помощнику и мне приходится встать, чтобы пропустить инженера на выход. В проходе он чуть не сталкивается с бачковым, так спешит. Скольжу взглядом по часам, стоящим на полке, на правом борту, прямо под фотографией Деница: Уже скоро они, в Бресте, будут садиться за стол. И вероятно забудут и думать о нас. У них свои заботы. Как пчелиный рой, наверное, снова налетят бомбардировщики союзников, чтобы раздолбать все в щепки. Бомбардировщики? По крайней мере, нам они не угрожают, если мы будем продолжать, как сейчас, идти на глубине в шестьдесят метров. Чистое безумие то, что сейчас удалось сбить врага с толку. Но тут же сердце щемит от того неизвестного, что нас еще ждет: Бог знает, что у нас впереди... Кто знает, не нашли ли братишки еще какую-нибудь новую чертовщину, чтобы отследить нас при ходе под шноркелем? Не смотрю больше на фото Карла Деница. Почему я не заметил с самого начала, что за бал-бес этот человек! До крайности упертый, а теперь еще и преданный Фюреру национал-социалист – вот составляющие его сегодняшней карьеры, в любом случае. «Подводная война в семи морях!» – а мы, теперь вот, ползем раком по району одного из этих морей... Не знаю, сколько времени я провел в полудреме-полусне пока не было инженера.
Между дремами, в полусне, пил чай и опять засыпал, а пил чая столько, что отвращение к нему все еще сидит у меня в горле, как бы тщательно я не старался отплевываться. Уже одна только мысль о бледно-желтой субстанции, которую я влил в себя, вызывает у меня тошноту. Позже я, должно быть, просто провалился в своего рода полусон. Едва ли могу вспомнить хоть одно сновидение. Вертящееся колесо тайфуна и я, отчаянно борющийся с крутящей меня центробежной силой. Измученный и отчаявшийся, я старался добраться до центра этой центрифуги, но центробежная сила была сильнее, и было непросто победить ее. Она снова и снова тащила меня к краю, то вверх, то вниз головой, я врезался головой в борта и был в последний раз отброшен как смятый пустой пакет – все кости были сломаны.
Странный приступ чувства долга мучит меня. Я не могу просто так сидеть и делать не-сколько заметок...
– Посмотрю-ка, как дела в корме, – бормочу тихо, но никто не отвечает. Осторожно! говорю себе: – Не потеряй то, что написал.
Куда бы не повернул взгляд: везде спят. На шконках, на полу, свернувшись калачиком, сидя в странных позах в укромных уголках и закутках, напоминая акробатов в пустотах между агрегатами. В то, что люди могут спать в таких гротескных положениях, я бы раньше не поверил. Спать стоя, да, это возможно. Потому что и лошади и другие четвероногие тоже это делают. Кроме того, чудо уже то, что экипаж реагирует на такое положение дел вполне нормально. Им приходится терпеть, кто знает как долго, необходимость этой пещеры жизни. Ясно одно: Чело-век выдерживает гораздо больше, чем животное. Вот в чем мы снова и снова убеждаемся – да-же в самой сложной обстановке. Если не ошибаюсь, сейчас в воздухе висит еще и запах плесени. Здесь просто все истрепалось за столь короткое время. Только на этот раз это не из-за потеков воды в башне. Все стало сырым и заплесневелым, потому что мы не получаем в лодку достаточно свежего воздуха. Не могу дождаться, когда же начнем двигаться под шноркелем. У меня вызывает полную депрессию и нервное истощение это бесконечное движение на 60 метрах, в этом черном море. Возвращаюсь назад в центральный пост: На штурманском столе остатки пищи. Нет шума дизелей в лодке, вообще никакого шума, ощущение того, что наверху царит светлый день, чуть не сводит с ума. Опять приходится изо всех сил сопротивляться желанию выблевать все из-за вида плавающих в гигантском горшке, словно в консервных банках, каловых масс человеческой плоти. Во время сбора урожая у K;strin мы должны были питаться из консервов колбасками и свининой в рассоле. Невольно вспоминаю те жирные куски свинины, которую мы ели каждый день: Во мне даже поднимается тошнота. Чтобы подавить ее, представляю себе, как наша лодка выглядит со стороны. Представляю себе, что сижу сейчас в подводной лодке, рассчитанной на двух человек, а U-730 медленно движется и входит в свет моего прожектора... Меня угнетает отсутствие четких знаний в области движения под шноркелем. Например, я не знаю, что лучше помогает противнику при погоне за идущей под шноркелем подлодке: со-нар или гидролокатор. Понятия не имею, как далеко в ночи, в полнолуние, можно увидеть дымный шлейф дизелей. Даже не знаю точно, какая сейчас луна. Снова и снова спрашиваю себя: как труба РДП, эта чересчур длинная жердь безо всяких подкосов, может выдержать давление воды при ходе на дизелях – в долгосрочной перспективе? Должны ведь возникать колебания, целая кульминация вибраций, которые со временем смогут снести его крепление и вырвать из своего места в прочном корпусе. Достаточно ли было проведено испытаний, чтобы временное РДП стало постоянным? Нахожусь в отсеке, когда слышу команду из центрального поста:








