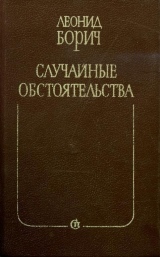
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
– Мария Викторовна, спасибо вам, – проговорил у нее над ухом Володин.
Слишком ласково, слишком близко проговорил. Да ладно, отмахнулась она, наверно, не слишком. Но танец-то еще не кончился, за что же он благодарит? Или она что-то пропустила?
– За что «спасибо»? – рассеянно спросила Мария Викторовна, которой вдруг показалось, что Букреев и Филькин в чем-то близки сейчас, и она не могла понять – в чем.
– За этот танец, – сказал Володин.
Слишком что-то значительно. Надо, пожалуй, чуть отодвинуться, только незаметно. Или бог с ним?
– По-моему, принято после благодарить? – Она взглянула на Володина, и как раз хорошо получилось: потому, мол, и отодвинулась, чтобы взглянуть.
– А мне все время хочется благодарить, – сказал Володин. – За то, что появились, что разговариваю с вами...
Слава богу, все это без пошлой, ухаживающей улыбки. Но ведь и несерьезно? Нельзя же так сразу – и серьезно?
– И, простите, за то, что почти обнимаю, – сказал он.
Тут уже явно снахальничал. Снахальничал – и улыбнулся. Хорошая, открытая у него улыбка, даже обижаться не хочется.
– Ну, за это вам больше не придется благодарить. – Мария Викторовна отстранилась от него на вполне бесспорное расстояние, улыбнувшись спокойно, без всякого кокетства: должен наконец понять, что не тот случай... А все же, выходит, дала какой-то повод, что-то, значит, позволила ему, раз он считает, что можно так откровенно?
– Я сказал что-нибудь обидное? – совсем не виновато спросил Володин.
Пустой вопрос... Не верит он, что она обиделась, что она вообще может обидеться на такую дерзость. Вот это как раз и обидело.
– А по-вашему – нет? – спросила Мария Викторовна.
– Мне кажется, обиднее, когда не хотят обнимать.
Искренне сказал, убежденно. Типично мужская логика... А вообще-то довольно логично сказал.
– Любопытная философия, – сказала она. Поощрять не хотелось, но дослушать было бы действительно любопытно.
– Машенька, вас можно где-нибудь увидеть?
Пошел напролом: сразу и «Машенька», и «увидеть». Нет, с ним нельзя так. Это не Петенька.
– Сергей Владимирович, вы что-то уж слишком лихо...
Себе же сказала укоризненно: «А ты, милая, что-то уж слишком мягко. А Букреев вон каким волком смотрит. Конечно же не из-за штурмана. Просто так. Невзлюбил, и все...»
– Слишком лихо? – Володин пожал плечами. – Может, специфика службы? – поделился он возможным объяснением. – Море, так сказать, не ждет, море торопит... Может, так?
Улыбается... Он с ней – как с дурочкой несмышленой: тебе обязательно требуются какие-то оправдания? На вот, возьми первое попавшееся, если тебе это так уж надо.
Избаловали вас, Сергей Владимирович, ох избаловали... А по-настоящему за всех расплачиваться придется какой-то одной женщине – той, которая полюбит. Но ты, наверно, и не отличишь ее от других?..
– Завтра увидимся? – спросил Володин.
– Завтра? – Мария Викторовна помолчала. Нет, не понимал он, искренне не понимал, что все это ей обидно. Не лестно, не приятно, а просто обидно, потому что причину – раз кто-то позволил себе так разговаривать с ней – она всегда искала не в мужской смелости, а в себе, в своей какой-то ошибке, в невольном поводе, который мог быть усмотрен и в приветливой ее улыбке, и, может быть, в каких-то неосмотрительных словах, и даже в том наивном доверчивом выражении ее глаз, которое она знала за собой, ненавидела в себе, когда-то, еще девчонкой, пыталась даже исправить, простаивая перед зеркалом, но ничего, конечно, изменить в себе не могла...
– Увидимся, – кивнула Мария Викторовна. Она взглянула на Володина и уловила в его глазах некоторую растерянность.
Что ж, спасибо, что все-таки не надеялся на быстрое согласие. Просто, значит, блефовал на всякий случай, чтобы не упрекать себя потом в нерешительности, в упущенной им возможности...
От этой мысли, от такого предположения ей как-то легче стало, и она улыбнулась.
– А когда завтра? – решил уточнить Володин.
– Утром, – вздохнула она.
Не находя на ее лице хоть какого-то смущения, Володин даже разочаровался немного: опять все катилось по освоенной дорожке и дальше, с каждой минутой, или часом, или днем, – какая разница? – должно было становиться все менее и менее интересным, хотя пройти, разумеется, следовало всю эту дорожку – может же встретиться и что-то неожиданное?
Да, но утром он уж никак не мог: с утра проворачивание механизмов, доклад старпому, принять от Евдокимова перископ, отправить его в отпуск, откорректировать карты. И вообще, что это за манера – встречаться утром?
– К сожалению, с утра я вынужден отдаться службе, – сказал Володин.
– Об этом и говорю, – улыбнулась Мария Викторовна. – Я тоже с утра, на лодке. Так что непременно увидимся.
Володин не нашелся что ответить. Все-таки неожиданно это все было, почти как-то вероломно, но очень уж наглядно – он даже зауважал ее. А тут и танец закончился.
Мария Викторовна высвободилась и сказала насмешливо:
– Вот когда благодарить надо, Сергей Владимирович. Рассеянный вы очень.
– Виноват... Большое спасибо, – сказал Володин, так и не придумав, как же ей ответить, пока они возвращались к столу.
Матросский духовой оркестр, руководимый пожилым молодцевато-подтянутым мичманом в белых перчатках, играл без устали, словно пытался хоть этим как-то возместить острую нужду зала в женском обществе.
В отличие от штурмана все остальные, кто приглашал Марию Викторовну на танец, вели себя с ней безукоризненно, со старомодной, трогательной и смешной учтивостью, хотя с доктором она все же изрядно натерпелась. Он оказался поразительно глухим к ритму, неуклюжим, все время наступал ей на ноги и, в неимоверной сосредоточенности своей, вовсе не замечал этого. Мария Викторовна сама повела его в танце, а так как он упорно молчал, пришлось еще и разговорами его занимать.
Провожая ее на место, Редько совершенно убежденно вдруг заявил:
– По-моему, мы хорошо потанцевали.
– О да! – только и нашлась она. – Замечательно!..
Склонившись к микрофону, мичман в белых перчатках торжественным, многозначительным голосом сообщил, что на следующий танец приглашают дамы.
– Не хотел бы быть женщиной, – сказал Редько. – За целый вечер всего однажды и дают выбрать.
– Ну, в женской доле это еще не самое большое неудобство, – улыбнулась Мария Викторовна. – А скажите... Командир ваш... он танцует?
Редько издали посмотрел на Букреева, и, видимо, одно лишь представление об их танцующем командире развеселило его.
– Никогда не видел, – тонко хихикнул Редько. – Но было бы интересно взглянуть...
– Попробую вам помочь, Иван Федорович.
Чувствуя, что, промедли она хотя бы миг, ей уже и вовсе не решиться на такое, Мария Викторовна подошла к Букрееву.
– Юрий Дмитриевич, а командиру можно танцевать?
Букреев поднял голову. Мария Викторовна стояла перед ним, улыбаясь. Этого еще не хватало! Во главе с командиром – какие-то танцульки устроили!..
– Уставами как будто не запрещено, – буркнул он. А что он мог ответить? Сказать: не хочу?
Вставая уже, Букреев в нерешительности оглянулся, случайно посмотрел на Филькина, а тот, по-своему истолковав это, поощрительно закивал. Ведь единственным здесь человеком, по мнению Филькина, единственным, кто заслуживал танцевать с ней, был его командир. Все же остальные были, в конце концов, как он, Филькин, такие же, как он. И прав у них было не больше, чем у него, а если учесть, что Мария Викторовна появилась среди них благодаря его настойчивости...
– Филькин, – раздраженно сказал Букреев, – вам уже табанить пора.
Давно, еще с первых курсантских лет, когда они занимались шлюпочными гонками, Филькин усвоил, что слово «табанить» означает грести обратно, от себя, осаживая или разворачивая шлюпку, но какое это сейчас могло иметь к нему отношение – он не понял.
– Есть, – ответил Филькин, подумав с обидой, что в любом случае можно бы сделать ему замечание и не в присутствии Марии Викторовны.
Дома он, наверно, совсем другой, решила Мария Викторовна, удивляясь, что танцует Букреев легко и свободно. Вот уж не ожидала... Ну конечно, дома же он как бы в гостях, и то, от чего нам хочется иногда отдохнуть, – для них ведь все это награда, праздник... И жена у него, должно быть, красивая. Здесь, в городке, вообще много интересных женщин... И сын у него... Нет, пожалуй, двое детей – мальчишка и девочка...
– Юрий Дмитриевич, а биографией уставы не запрещают интересоваться?
– Чьей биографией?
– Офицера...
«Быстро, однако, клюнула...» – подумал Букреев.
– Ладно, в порядке исключения – скажу. Отличный специалист, женщинам нравится, холост...
Она с таким недоумением посмотрела на него, что Букреев остановился. Они так и стояли посреди зала, флейта нежно вела какую-то задумчивую, грустную мелодию, рука держала Марию Викторовну за талию, но раньше, еще секунду назад, это совсем не занимало Букреева, он просто танцевал, а сейчас, остановившись, чтобы понять, из-за чего Мария Викторовна так удивилась, Букреев почувствовал под рукой ее тело, его теплоту и мягкость, чуть ли даже не податливость...
Букреев снова повел ее в танце и спросил озадаченно:
– Погодите... Вы, собственно, о ком?
– А вы о ком?
Что она – смеется над ним, что ли?!
– О ком же?! О штурмане. Что ж, раз он так понял...
– Ах, вы о нем!.. Да, совершенно блестящий морской офицер. Только... Море его торопит.
– Какое море? – Букреев уже понемногу выходил из себя.
Она не ответила, а он не привык, чтобы ему не отвечали, раз уж он о чем-то спросил. И когда танго окончилось, он, сдержанно поблагодарив, с каким-то облегчением повел ее к столу, а Володин уже заранее приготовил ей место возле себя...
«Нечего, нечего, – решил Букреев, – ты лучше за своим Филькиным присматривай». И усадил Марию Викторовну рядом с Обозиным.
Она все это заметила, как-то неясно улыбнулась, кивнула Букрееву – все, мол, в порядке, спасибо, – и он отошел, поглядывая на часы. Пора было закругляться. Еще и дома-то как следует не побыл.
– Горячее подавать? – спросила его сухопарая неразговорчивая официантка. Как и все официантки в военных городках, она знала толк в субординации. Ну и что ж, что все заказывал этот симпатичный капитан третьего ранга? Командир-то их – вот он! К нему и полагается обращаться.
– Горячее? Давно пора, – мрачно кивнул Букреев.
Сидя рядом с механиком, Мария Викторовна была ему благодарна, что он не принялся тут же ухаживать за ней. И вообще, хорошо бы уже очутиться в гостинице, в своем номере, и лечь спать.
– А я тут недавно, до вашего прихода, одну истину преподносил, – сказал Обозин, посасывая пустой мундштук.
Истины сейчас не особенно интересовали ее, но, чтобы не обидеть невниманием, Мария Викторовна все-таки спросила, какую же истину.
– Увы, она оказалась не универсальной, – развел руками Обозин. И в жесте, и в тоне, с каким он сказал об этом, чувствовалась как бы личная его вина за то, что такой вот она почему-то оказалась не универсальной, эта его истина.
– Видимо, как всякая истина?
– Видимо, так, – согласился Обозин. – Оказывается, иногда в присутствии женщины все-таки глупеют.
Так-так... Это когда она со штурманом танцевала? С Букреевым?
– А вы этого не знали? – спросила Мария Викторовна.
– Я считал, что наоборот.
– И... кто же?
Улыбается виновато, тяготится своим открытием, почти поделился с ней, но уточнять не хочет, не считает, наверное, себя вправе.
– Я вот думаю, – сказал он негромко, как бы удивляясь тому, что сам для себя и открыл сейчас: – Что же это такое – настоящая власть? Чины, звезды?.. Конечно, и это. Но... Но вот появляется женщина – и оказывается, что на нее все это не распространяется. У нее власть естественная, неназначаемая. То есть власть – в ней самой. И – от нее... Непонятно я говорю, да?
– Почему? По-моему, понятно...
Вот тебе и механик. Вечно в своих насосах копается, в клапанах, с корабля, говорят, позже всех уходит – и все это незаметно, вроде даже стесняясь... А сейчас такую речь сказал – позавидуешь... Но... кто же поглупел все-таки?
– Хозяева уже устали, – услышала она. – Пора и нам честь знать.
Мария Викторовна с недоумением обернулась. За ее спиной стоял Букреев, и слова его явно ей одной предназначались.
«Проводить, что ли, решил? Или просто... – Мария Викторовна залилась краской. – Но тогда... Досиделась, нечего сказать!»
Взглянув на часики и не различая стрелок, она как можно непринужденнее и будто даже комично ужаснулась вслух столь позднему времени.
– Да что вы?! – удивился Обозин. – Мы же все скоро... – Он встретился взглядом с Букреевым и умолк.
– Мы все проводим, – решил Сартания и засобирался.
– А доктор один веселиться будет? – мрачно спросил Букреев.
– Действительно, ребята... – подошел Редько. – Чего это вдруг? Оставайтесь...
– Не переживайте, Иван Федорович, – успокоил Букреев. – Ваши «ребята» с удовольствием останутся.
Не дожидаясь какого-то их общего решения, Мария Викторовна заставила себя безмятежно улыбнуться – всем, всем большое спасибо за этот вечер, – попрощалась и быстро пошла из зала, а Букреев поочередно осмотрел своих офицеров, процедил сквозь зубы: «Мальчишки!» и сказал напоследок старпому: «Чтоб через полчаса никого здесь не было».
Спускаясь в гардероб, он подумал, что надо бы, наверно, все же подать ей пальто. Молча она приняла это, сухо поблагодарила и, не оглядываясь, вышла.
Сначала Букреев не особенно торопился – все равно она остановится, не пойдет одна ночью по безлюдной дороге; но Мария Викторовна, не замедляя шага, все шла и шла впереди, быстро шла: было ветрено и морозно, – и с досадой Букреев подумал, что не догнать ее уже неудобно, раз он вроде бы сам же и вызвался проводить ее до гостиницы.
Он поравнялся с ней, и они шли некоторое время молча. Обиделась, решил Букреев. Хотела, наверно, еще потанцевать, мало ей одного Володина...
– А некрасиво так уводить, Юрий Дмитриевич, – сказала она. – Даже командиру. – Подняв воротник, она прятала лицо от ветра.
Слова ее Букреев услышал, но интонация ускользнула от него, не понял, как она это сказала: с усмешкой? с назиданием? А если кокетливо? Кто их разберет... Вот только этого не хватало. Со стороны ведь так и выглядит: увел отец-командир эту женщину, умыкнул... Весело!
– А я не для себя уводил, – с вызовом сказал Букреев.
– А я бы, знаете, и не позволила...
– Ну и хорошо!
Они снова замолчали, и Букреев подумал, что лучше было выйти всем вместе: по крайней мере можно бы тогда ни о чем не разговаривать с ней.
– Мужа, конечно, нет? – спросил он, то есть даже не спросил, а уверенно проговорил, вспомнив к тому же, что не заметил на ней обручального кольца.
– Почему вы так решили?
– Я не решил. Просто... поинтересовался. Такие, как вы...
– Какие?
– Да вот такие! – решительно сказал Букреев. – В брюках!
– Постойте, постойте... – Ничего она не понимала. – При чем тут... Вы же сами говорили, чтоб я в этих брюках расхаживала!
– Говорил!.. Мало ли что... И детей тоже нет?
– Да все есть, – разозлилась Мария Викторовна. – Все как положено: и муж, и сын... – Она помолчала. – Юрий Дмитриевич, по-вашему, я... Я не так вела себя?
– А мне-то что? Я не свекровь.
Гостиница была уже рядом, за вечер порядочно намело, и, чтобы довести Марию Викторовну до самых дверей, нужно было сойти с дороги и, видимо, набрать полные туфли снега.
– Дальше не нужно, – остановилась Мария Викторовна.
«Ну, как хочешь», – подумал Букреев.
– Спасибо, что проводили... – Она насмешливо улыбнулась: – Что проводили и уберегли... Мы очень интересно поговорили. До свидания.
Отворачиваясь от ветра, она быстро пошла к дому, особенно не разбирая дороги, и при свете уличного фонаря, который раскачивался и громыхал железным колпаком, Букреев вдруг разглядел, что Мария Викторовна тоже ведь в туфлях...
– Осторожно там, у дверей, – сказал вдогонку Букреев. – Там лед...
Не оборачиваясь, она кивнула, долго что-то возилась с дверью. Помочь, что ли? Но его не звали, сама наконец справилась, дверь хлопнула, и Букреев остался один.
Он еще постоял немного – свет нигде не зажегся: значит, окно выходит на другую сторону. Постоял, вспомнил ее усмешку: «Спасибо, что уберегли...» (а он, может, не ее, а своих офицеров берег!), подумал, что очень уж она самонадеянная особа, и зашагал к своему дому.
На кухне все еще горел свет. Ольга, конечно, и не думала ложиться, хотя он предупредил, что вернется поздно.
«Мы очень интересно поговорили...» О чем же это она с ним разговаривала?
Ничего путного из их разговора Букреев припомнить не мог и, поднимаясь по лестнице, пожал плечами: «Разговаривали!.. Муть зеленая!»
14
В гостинице Марию Викторовну ждало письмо от мужа. Не снимая пальто, она торопливо пробежала первые строчки, заглянула в конец письма и убедилась, что дома все в порядке. Вот только с сыном, сообщал муж, что-то непонятное творится: занялся вдруг боксом, приходит после тренировок в синяках, в школу надевает все только нарядное, а вчера взял и побрился. Это в четырнадцать лет!
Мария Викторовна улыбнулась растерянности мужа: «Что-то творится...» А в другой квартире – она, кажется, догадывалась, у кого, – со сверстницей ее Игоря тоже происходило, наверное, что-то непонятное. Чья-то дочь, такая до этого неаккуратная, вдруг стала придирчива к своим нарядам, а перед тем как вынести мусорное ведро, долго смотрится в зеркало и выбирает, какую кофточку и какие туфли ей надеть.
Все это и с ней когда-то тоже было...
Мария Викторовна впервые подумала, что достигла теперь того возраста, в котором – совсем ведь, кажется, еще недавно – так отчетливо помнила свою маму. Конечно, в те годы мать не казалась ей молодой: какая же это молодость – тридцать семь лет? Видно, родители вообще никогда не могут казаться своим детям молодыми, как, наверно, и она – Игорьку. И раз пришло к ней это понимание – значит, действительно не так уже молода, и, как состарилась ее мама, даже не заметив этого, – так же, наверно, и она не заметит...
Мария Викторовна отогнала от себя эти невеселые мысли, сняла пальто и, уже не перескакивая, прочитала все письмо. То, как муж старался скрыть свою досаду, что она не рядом, что без нее он совершенно выбит из привычной для себя колеи, ее особенно тронуло сейчас, потому что, читая письмо, она все время чувствовала какую-то непонятную вину перед ним за сегодняшний вечер. И, остро помня только что пережитое невнимание к ней другого человека, Мария Викторовна была благодарна мужу за теплые слова.
Когда-то, лет пятнадцать назад, он читал им лекции по акустике, студентки все были влюблены в него, и Мария Викторовна втайне недоумевала: почему же именно она? что он мог найти в ней? Она робела перед ним, как на экзаменах, и все, что говорила она, казалось ей неуклюжим и мелким, а все, что произносил он, было значительным и серьезным.
Муж вскоре перешел в НИИ, возглавил самый большой отдел, считался волевым, энергичным руководителем, и сейчас уже поговаривали, что он вот-вот станет директором института, но только она одна знала, как ему трудно принимать любое решение, как он мучается уже от одной необходимости принять какое-нибудь решение, как он даже неосознанно рад, когда из какого-то положения нет выхода, а значит – нет необходимости из чего-то выбирать и на что-то решаться.
Как же другие ни разу не заметили этого в нем?! Как могло быть, что до сих пор никто не понимал, какой ценой дается ему их представление о нем, которое он молча принял когда-то из-за своего тщеславия или из-за неудобства разубеждать их? Теперь он уже вынужден был тщательно оберегать от чужих глаз свою неуверенность, прятать ее, не смея признаться ни единой живой душе в том, как ему трудно, и приходить каждый день на работу энергичным, волевым руководителем, поддерживая перед всеми навязанную ему модель самого себя.
Не слишком ли часто – а может быть, и всю жизнь? – мы так и воспринимаем других людей: не такими, каковы они на самом деле, а лишь исходя из нашего представления о них, из представления, созданного нашим собственным воображением?..
И, значит, не точно ли так воспринимают другие люди нас самих, считая нашей сущностью не то, что действительно является ею, а то, что им просто хочется в нас видеть?
Своего мужа она поняла через какой-нибудь год после замужества, как только перестала быть его студенткой; и когда поняла – испугалась за него. Ведь своя собственная репутация как бы сама и обрушивается на таких людей, все время давит, не дает ни на минуту забыть о ней, и они несут и несут ее на своих плечах. Они это долго могут нести, может быть – даже всю жизнь или, скажем, до самой пенсии, то есть до тех пор, пока это кому-то нужно, пока от них этого ждут их подчиненные и начальники.
Для такого долголетия необходим только хорошо обеспеченный тыл, где можно передохнуть, расслабиться, вернуться хоть на время к себе самому от чужого представления о себе, и Мария Викторовна делала все, чтобы обеспечить мужу такой тыл.
На собственную работу времени уже было совсем немного, но она все-таки ухитрялась работать в лаборатории, а позже – и руководить лабораторией, и неплохо руководила, считалась толковым работником, а по вечерам еще просматривала и редактировала статьи мужа перед отправкой в журнал, помогала ему в составлении какого-нибудь важного делового письма – как-то легко умела схватывать основную мысль, безжалостно выбрасывая все второстепенное, на что муж без нее никак не мог решиться. Все ему казалось главным, и только потом, прочитывая то, что она оставила от длинного его письма, он удивлялся, как теперь стало все доказательно и понятно, а потом уже и удивляться перестал. И даже кого и куда ему переставить в отделе, кому поручить ту или иную тему – тоже требовало ее участия, если и не совсем по существу, то хотя бы как одобрение, в котором он постоянно нуждался.
Щадя его самолюбие, она так незаметно подсказывала и помогала ему, а он настолько привык к ее советам, что уже почти и не замечал их, и так выходило, что это все – он сам: его опыт, его мысли, его слова. В значительной мере так оно часто и бывало на самом деле, но только без нее могло все-таки быть по-другому... И когда она поняла, что без нее он теперь просто не сможет, он стал для нее роднее и ближе: это ведь как с ребенком – чем беспомощнее, тем дороже...
Ну, а она?
Что – она?
А она-то сама? Ведь она так глубоко и точно ощущала порой состояние другого человека – не его мысли, а именно состояние, – что ей даже становилось временами как-то не по себе: если так могла она по отношению к кому-то, то, наверное, и кто-то другой мог так же по отношению к ней самой? И тогда кто-то, значит, сумел бы вдруг понять, что она сама-то нуждается в человеке, на которого иногда можно опереться или хотя бы только знать, что можно; ей тоже нужна была чья-то забота о ней, чье-то мужество, и так иногда хотелось позволить себе быть несильной, нуждаться в чьей-то помощи, в совете... Но – что же делать? – так уж сложилось, что позволить себе это она не могла: не с кем было это позволить себе, не с кем... Так уж сложилось.
Вообще, сколько она помнила себя, она всегда была чьей-то опорой: в школе – потому что умела хранить чужие тайны; в своей семье, когда умер отец, – потому что была самой старшей, а мама часто болела, и пенсия за отца была маленькой; в институте к ней шли со своими бедами, а если случалась радость – тоже шли, потому что она никому не завидовала, считала, что человек заслужил эту радость. Другое дело, если что-то хорошее случалось с ней: просто, значит, повезло...
И люди, которые окружали ее, всегда считали, что уж кто-кто, а Мария Викторовна, при всей ее женственности, меньше других нуждается в чьей-то заботе.
А как же они иначе могли считать?.. Разве они виноваты в этом? Не она сама?
И все же грех ей было обижаться на свою судьбу: муж, которому она нужна, сын, интересная работа... Мало? У всех это есть? Далеко ведь не у всех... Что же еще надо?
Мария Викторовна подошла к зеркалу и стала разглядывать себя – серьезно и с некоторой тревогой. Сын вот уже бриться начал. Это ведь не только его возраст, это – и ее...
Досада, которую Мария Викторовна сейчас чувствовала в себе и причину которой до сих пор не могла объяснить, – почему именно сегодня, не вчера, не месяц назад? – неприятно вдруг удивила ее своей, в общем, ничтожностью, когда она, кажется, поняла, отчего именно сегодня. Неужели вот так просто, «по-дамски»: кто-то не посмотрел (да, но ни разу не посмотрел!) в твою сторону, спокойно закусывал, когда другие ухаживали за тобой, – и это задело тебя? так могло задеть? и такой мелочи уже достаточно, чтобы анализировать, думать об этом? Ведь все остальные были рады тебе, это же не показалось?
Но, снова и снова перебирая в памяти весь сегодняшний вечер, она вспоминала не столько о том, как отнеслись к ней все, а о том, что один из них не сказал даже приветливого слова, ни разу не взглянул на нее так, как остальные смотрели (то есть как она все-таки хотела, чтобы он посмотрел?), и это его невнимание запомнилось ей больше, чем внимание к ней других.
Конечно, Марию Викторовну задела бесцеремонность, с которой Букреев потом, когда они вышли, разговаривал с ней, но злилась-то она не на него, а на необъяснимое, непонятное свое терпение, на то, что она почему-то позволила Букрееву так разговаривать с ней и еще сама же как будто чуть ли не оправдывалась перед ним.
Во всем этом хотелось разобраться, но уже то, что она чувствовала такую потребность – вместо того чтобы просто наплевать и забыть, – тоже злило ее.
Но... за что же все-таки? За что впервые в ее жизни так невзлюбили ее? А может быть, он... Нет! Столько вытерпеть за один только вечер – и еще искать сейчас для него какие-то оправдания? И ради кого, спрашивается? Было бы ради кого!
Но может быть...
Это же так просто, как она сразу-то не поняла: пригласили без него, даже не спрашивая, вели себя так, будто его и не было за столом, совсем забыли о нем... А он-то был!
Ну да, он ведь мог просто обидеться. Конечно же он обиделся, и, кажется, не столько даже на нее. Нет, и на нее – тоже: она все-таки была причиной... Его царство, его гордость – столько сил потрачено на них всех, а она так неосторожно, не приложив никакого труда, на его трон уселась... комплименты принимать...
Уже засыпая, она вдруг с улыбкой подумала:
«А он... он и не умеет, наверно, говорить комплименты...»







