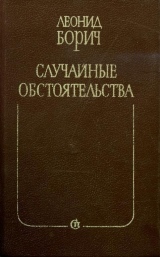
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
8
Филькин вернулся в рубку задолго до своей вахты и уселся изучать штурманские документы.
Такая любознательность подчиненного была, конечно, приятна Володину, но через полтора часа Филькин должен сменить его за прокладочным столом, значит, обязан был сейчас выспаться, чтобы и он, Володин, положенные ему часы мог спать, не тревожась за штурманскую вахту. Ну хотя бы не очень тревожась.
– Уже выспались, что ли? – спросил Володин. Хотелось насмешливо спросить, но вышло как-то почти с участием: уж очень Филькин выглядел виноватым, а вина как вина была – с каждым может случиться.
– Не спалось, – вздохнул Филькин. – Кофе сварить?
– Если хотите... – Володин измерил расстояние до края полигона, взглянул на лаг и прикинул, что полигон они освободят вовремя.
– Сергей Владимирович, а у вас есть... знакомая? – спросил Филькин, включая кофейник.
Володин обернулся, некоторое время смотрел на Филькина: что-то уж слишком быстро он в себя пришел после командирского разноса, если мог сейчас такое спросить, – и вдруг подумал, что на этот в общем-то смешной, невзрослый вопрос ответить утвердительно ему трудно – трудно в том смысле, в каком об этом спросил Филькин. Ведь потому Петя и спросил, что, видимо, не укладывалось в его сознании: как это можно получать столько писем и всем отвечать? Как может быть не одна «знакомая», а несколько, когда все равно должна же в конце концов быть все-таки одна, ну хотя бы из этих нескольких?
Сказать, что нет у него такой?
В глазах Филькина это выглядело бы какой-то обойденностью, какой-то несправедливостью судьбы по отношению к нему, Володину, а еще хуже – и вообще невезением. И тогда не хватало только, чтобы Филькин в душе посочувствовал ему, пожалел...
Сказать, что есть?...
Никогда заранее Володин не думал о том, где он проведет очередной отпуск, он просто мечтал об отпуске в длинные полярные вечера, ему было все равно, куда ехать, он был холост, не обременен никакими личными обязанностями, и денег всегда было достаточно.
Обязательно побывав две недели у родителей в Ленинграде, походив по театрам и ресторанам, Володин начинал тяготиться чинными знакомствами с «мамиными девушками». По словам мамы, все они были бы «прекрасными женами», «преданными женами», и это, видимо, включало в себя сразу все: и красоту, и ум, и верность, и мягкий, уступчивый характер, и умение прощать – а Сереженька был такой, что ему, видит бог, приходилось бы иногда что-нибудь прощать, – и умение вкусно готовить, и рожать здоровых детей, таких же красивых и талантливых, как ее Сережа.
Все невесты ему нравились, почти все, мама тогда терялась, потому что и сама не знала, какую теперь из них предпочесть, начинала нервничать, волноваться, что сын ее остановит свой выбор как раз на самой, может быть, недостойной из них, хотя, по совести, кто же вообще по-настоящему мог быть достоин единственного ее сына?.. Таких девушек, она чувствовала, с каждым годом оставалось все меньше и меньше.
А сын, когда все уже, вот-вот завершится наконец законным браком, – сын вдруг укладывал чемоданчик и, пообещав заехать на обратном пути, улетал куда-нибудь к морю, если был еще купальный сезон. Но это редко случалось, чаще отпуск все-таки на зиму выпадал, и тогда он отправлялся в Карпаты, или в какой-то Домбай, или еще там куда, катался на лыжах с гор, мать этого не понимала, ей виделись пропасти, темные ущелья, она боялась за сына, считала его отчаянно-легкомысленным человеком, мальчишкой еще, и горный его отпуск давался ей даже труднее, чем его служба на подводной атомной лодке. Потому что там, на этой лодке, были над ним серьезные умные начальники, а Сережиным командиром, который как-то останавливался у них со своей семьей на несколько дней, она вообще была очарована, такой это был рассудительный, уверенный в себе человек, и неторопливая основательность и строгость его – она сразу поняла, что он строгий командир и любит ее Сережу, – вся крепкая и приземистая его фигура внушили ей успокоенность за своего сына, потому что, если Сережа и затеет вдруг что-нибудь опасное и необдуманное, Юрий Дмитриевич всегда сумеет одернуть его, остановить, запретить, наконец, чего они, родители, сейчас сделать уже были не в силах.
Вообще же мать очень огорчало его холостячество. Ей повсюду мерещились коварные официантки гарнизонных офицерских кафе – сама была когда-то женой военного, насмотрелась. Окрутят в конце концов ее сына, приживут с ним ребенка (да и с ним ли – еще вопрос!) и когда-нибудь пожалуют к ней в Ленинград: «Здравствуйте, дорогая мамочка».
В этом смысле она могла бы чувствовать себя спокойнее, когда сын подолгу бывал в море: на лодке ведь нет этих женщин... Но там над ним было море, и это переживалось еще тяжелее.
Когда Володин приезжал в очередной отпуск, она вначале осторожно присматривалась к нему, убеждалась, что приехал он все таким же, как в прошлом году, что никто вслед не едет, никакая женщина, что он, значит, по-прежнему холост, и тогда приходила уже настоящая, никакими опасениями не омраченная радость, а чтобы и в дальнейшем уберечь своего сына от всяких неожиданностей, она начинала искать ему невест среди проверенного круга их знакомых.
Глядя на все это, Володин только посмеивался, но, впрочем, и сам был не против женитьбы, понимал, знал уже, что на Севере, в отдаленном гарнизоне, вообще без жены трудно, и не только в обычном, чисто мужском понимании, а просто нужно же человеку спешить к своему дому, по-старому – очагу, как только лодка коснулась пирса. Товарищи его и спешили, а они с Редько просто переходили с лодки в холостяцкую свою каюту на береговой базе. И мало что менялось от этого в их жизни.
Случались, конечно, и на Севере знакомства, бывали и встречи, и тайные свидания... Городок в гарнизоне небольшой, несколько десятков пятиэтажных домов, и надо было все же заботиться о репутации своих знакомых.
По-разному бывало: и хорошо, и неинтересно, и просто уже привычно – ни хорошо, ни плохо, никак. Но всегда это было тайком, в чужой для них обоих квартире, украдкой, второпях... И все отравляла мысль, что ведь надо потом еще выйти из этой чужой квартиры, из подъезда чужого дома и идти перед окнами всего городка, когда кажется, что все на тебя посматривают, все о чем-то обязательно догадываются или даже знают.
Ему-то, положим, не так и важно все это было, в конце концов, – его бы никто за это не осудил особенно, но была ведь еще и женщина, которая тоже помнила, наверно, об этих предстоящих минутах, никогда не забывала, что ей скоро надо выходить из чужой квартиры. И он заранее жалел ее и не мог не думать об этом.
В последние годы – то ли устав от длинных полярных зим, то ли просто потому, что давно уже не отдыхал летом, – все свои лучшие надежды Володин стал связывать именно с летним отпуском. И понырять с аквалангом, погреться на горячем камне в какой-нибудь тихой южной бухте, и чтобы рядом была необыкновенная женщина, от которой ничего тебе не надо, только бы рядом была, – это стало для него не просто навязчивой мечтой, а почти неким символом полного безмятежного счастья.
Ему казалось, что стоит только пережить зиму, дождаться лета – и все в его жизни как-то изменится, все образуется как надо, как должно, как он хочет.
И тут как раз повезло: вернулись они в июне после долгого плавания, хорошо сплавали, успешно испытали новую аппаратуру, и командование, расщедрившись, отпустило экипаж в отпуск без особенных проволочек.
Но Володин уже заранее знал, по прошлому опыту, что отпуск только поначалу кажется длинным. С тех пор как он стал плавать, у него всегда в запасе было слишком мало времени, чтобы в отпуске знакомиться с теми, кто с самого начала не поощрял бы его, не давал ему понять, что и той, другой стороне нужны такие же легкие, ничем не обременяющие отношения, приятные именно потому, что не накладывают никаких обязательств. То была как бы игра в отношения – игра, имеющая общие, заранее понятные правила, но и всякий раз – какие-то свои, особенные оттенки, и ему нравилось подмечать их, угадывать следующий шаг и чувствовать, когда и что можно переступить в этой игре, не нарушая правил или делая вид, будто ты их не нарушаешь.
Все действительно было так, как он представлял себе: и тихая уединенная бухта, и горячий камень после озноба от чистой воды на глубине, и симпатичная, даже, пожалуй, красивая женщина.
За весь месяц, который они провели вместе и не надоели друг другу, он ни разу не спросил о другой ее жизни, о семье: понял, что это тоже должно входить в правила. Знал только, что она преподает в институте французский язык и бывала в Париже. Как-то она сказала, что благодарна ему за то, что он не задавал ей никаких вопросов. «Имеет же человек право хоть на месяц забыть обо всем?» – спрашивала она. Володин кивал, соглашался, что, конечно, имеет, и понимал, что ей необходимы его поддакивания.
Все-таки она была необыкновенной женщиной, и расстались они очень тепло, она даже осторожно всплакнула. И оба знали, что расставание это, скорее всего, навсегда, только каждый деликатно молчал об этом, иначе нарушились бы правила.
В свой последний день отпуска, уже в Ленинграде, шагая сквозь разноцветный туман на Петроградской стороне, сквозь моросящий летний дождик, который словно бы и не падал с неба, а висел в воздухе и его можно было вдыхать, – Володин, вспоминая прошедший отпуск и ту, тоже прошедшую женщину, думал, что, наверное, каждая женщина в чем-то необыкновенная. Все они необыкновенные, думал он, но оттого, что все, – было немного и грустно.
В кармане уже лежал на завтра билет, дома надо было еще уговорить родителей, чтобы они не провожали его: далеко от них до аэропорта, да и не любил он оставлять их после себя на перроне или в аэропорту, потому что именно в эти последние секунды он, оглянувшись, особенно остро вдруг понимал, как они состарились, его родители, и какие они – вдвоем – одинокие без него.
Володин остановился на мосту. Справа мягко подсвечивался шпиль Петропавловки, внизу, у самого моста, вода была почти черной, маслянисто-тяжелой, а дальше она постепенно начинала чуть золотиться, гореть, как будто освещалась солнцем. В обе стороны от моста далеко уходили вереницы ночных огней, и от каждого фонаря вверх и вниз тянулись, вздрагивая, голубовато-желтые столбы света. Но Володин смотрел сейчас на все это уже чужими глазами, как бы издалека, прощаясь и, может быть, потому и замечая вокруг эту красоту. Мыслями он был уже скорее у себя, в базе подплава, среди своих. Весь отпуск не особенно и вспоминал, а тут вдруг понял, что скучает, что ему, оказывается, поднадоело никуда не спешить, не чувствовать никакой ответственности, не плавать в вечном ожидании берега, и – смешно даже – недоставало ему как будто утренних построений и хорошего командирского нагоняя.
Все, что воспринималось им раньше почти безразлично, или чем он тяготился, или что раздражало иногда, – все вдруг стало удивительно близким, и приятным, и необходимым ему: и лодочные запахи, и вещи, и низкий потолок каюты с переплетениями труб в верхнем углу над дверью, и мерный шум вентиляции, и доклады по корабельной трансляции, и тихое покачивание лодки, когда она идет на перископной глубине...
Рядом, у перил, стояла девушка – что-то около двадцати, чуть побольше, безразлично решил Володин – и тоже смотрела на воду.
Ни с кем знакомиться он не собирался сейчас, да и она как будто ни разу не посмотрела в его сторону.
Что все-таки заставляет людей обернуться иногда, встретиться взглядом, понять в какую-то долю секунды, что из сотни людей, с которыми ты разминулся сегодня, – хотя бы только сегодня! – именно от этого человека нельзя уходить, нельзя с ним разминуться просто так? Что позволяет почувствовать это?
Непонятно, смешно и странно: он вдруг сразу понял тогда, с одного ее взгляда, с первых, ничего как будто и не значащих слов, а может быть, еще и не было вообще никаких слов, что девушка эта – не для прогулок, не для ресторанов... Либо вот женишься на ней и она будет тебе хорошей женой, либо потеряешь.
С первых же минут их знакомства она смотрела на него так преданно и грустно, что он уже почти знал: кто бы потом еще ни встретился в его жизни – так на него никто, наверное, смотреть никогда не будет. Не захочет или не сумеет так, и ни в чьих, пожалуй, глазах он не прочтет столько покорности и обожания.
И когда Алла потом спросила: «Скажите, Сережа... Плавать на подводной лодке – это... опасно?» – ему показалось, что она не ради любопытства спросила, не о том, опасно ли вообще плавать на подводных лодках, а – ему не опасно ли, ему именно...
Очень захотелось сказать что-нибудь скромно-мужественное, чтобы не разочаровывать ее, чтобы она поняла, что бывают, конечно, и опасности, такая уж, мол, у них профессия, но кроме Аллы был еще и Букреев – пусть не рядом, а был. Он всегда криво усмехался, если в его присутствии зачитывались газетные фразы о «морской романтике» и «героических флотских буднях». Это для барышень, говорил Букреев...
Даже, может быть, рискуя и потерять некоторую загадочность в глазах своей знакомой, Володин ответил, стараясь не улыбнуться:
– Ну что вы! Какая там опасность... Иногда, правда, душновато бывает. Тогда форточку открываем. А так – ничего...
А может, еще и потому так сказал, что уже почти уверен был: ничего от этого он не потеряет в ее глазах...
– Форточку? – Алла так доверчиво смотрела на него, что чуть, кажется, и форточку не приняла – всему бы, наверно, поверила, даже пусть и очевидной нелепости, раз это он говорил, – а ему вдруг стало перед ней как-то совестно, что он – хоть и в шутку – как будто злоупотребил ее доверчивостью.
В сравнении с его «француженкой» Алла была сущим ребенком, но ребенок этот уже успел спросить, не опасно ли ему плавать, а та – за целый месяц даже не поинтересовалась этим, неважно ей было, как где-то ему живется, раз он был там без нее.
Володин решительно и умело взял Аллу за плечи, повернул к себе и снисходительно готов был потом выслушать все обычные в таких случаях и не очень искренние слова (как это он посмел, как он мог, и зачем это все), и он заранее готов был – тоже не слишком искренне, а просто потому, что так уже принято, – ответить что-нибудь привычное, что он и отвечал обычно перед следующим, уже молчаливо разрешенным поцелуем. Но Алла с таким неподдельным удивлением взглянула на него, как будто он разрешил себе бог весть что. Володин даже опешил, так и не успев понять, она ли отстранилась от него или он сам убрал свои руки.
Что-то не так он, видимо, понял в ее покорности.
Он ожидал уже сейчас упреков, обиды – всего, что угодно, а она стояла перед ним опустив голову, как будто чувствовала себя виноватой, что в чем-то вынуждена была отказать ему.
– Я ведь завтра улетаю... – сказал Володин. Как-то уж слишком это походило на извинение, и он замолчал.
– Что я должна сказать? – Она все еще виновато смотрела на него, стараясь улыбнуться, а в глазах – Володин не поверил сначала – в глазах у нее стояли слезы. Ребенок!..
«Да черт с ними, в конце концов, с этими поцелуями», – подумал Володин. Согласен он и без поцелуев – только бы не ушла так сразу.
– Вы просто обязаны сказать, что... что вам очень жаль.
– Мне жаль, Сережа, – как будто бы послушно проговорила она.
– И что вы хотите, – подсказал дальше Володин, – меня проводить.
После некоторого колебания (он уже успел немного обидеться) она с улыбкой повторила за ним:
– Я хочу завтра вас проводить, Сережа.
Значит, все-таки согласилась... Но теперь, когда она согласилась, ему этого уже было недостаточно, ему показалось, что весь их разговор выглядит слишком несерьезным: просто она повторяет за ним слово в слово, раз ему так хочется.
– Да нет, – объяснил ей Володин, – это же я хочу, чтобы вы проводили меня. А я хочу... – Он даже немного запутался. – Ну да, я хочу, чтобы все это вы сами хотели...
– А я действительно сама этого хочу, – сказала она.
– Вы?! – Володин все-таки не поверил.
Но она так хорошо, так ласково сейчас смотрела на него, что он тут же перестал сомневаться. Медленно, с давно уже забытой робостью – еще со школьных, наверно, или с курсантских лет – Володин потянулся к ней, но тут же и остановился, чувствуя, что, кажется, уже опоздал, что та возможная и, может быть, действительно разрешенная ему секунда прошла, что он сам, кажется, только что упустил ее, если она вообще была, эта секунда...
На аэродроме он боялся, что вот-вот сорвется сейчас, скажет Алле что-то непоправимо нежное, окончательное – такое, после чего никуда ему уже не отступить, никуда не деться, и, значит, все, чем он так дорожил эти годы, – свобода, возможные новые и волнующие знакомства, полная безотчетность перед кем бы то ни было, кроме командира, да и то только по службе, – все это сразу же оборвется, бесповоротно уйдет, и такое появилось чувство, что вот имел ты крылья – и своими же руками их обламываешь...
А если уже завтра, или через месяц, или через десять лет он встретит кого-нибудь, встретит и поймет, что вот она-то и есть та, единственная, предназначенная тебе, но будет уже поздно?..
Ничего он так и не сказал ей тогда, ни на что не решился, даже на прощальный поцелуй, договорились только, что они будут писать друг другу, а через год, летом, они вместе поедут куда-нибудь к морю, в тихую южную бухту, к горячим камням...
Почему он решил, что именно летом? А в другое время она просто и не сможет: всю зиму диплом писать – последний курс института, – да и кто едет к морю зимой?.. А летом, даже если и не будет отпуска (скорее всего, что не будет), он постарается вырвать у Букреева хотя бы десять дней.
Как же ему было ответить Филькину? Есть у него Алла, нет?..
Никак не ответив, Володин снова отвернулся к прокладочному столу, а Филькин подумал, что штурман не может пока забыть ему тот случай с маяком.
– Сергей Владимирович, я подвел вас перед командиром, я понимаю, – виновато сказал Филькин. – Но, честное слово, я...
– Кофе не прозевайте, – сказал Володин не оборачиваясь.
И манерой разговаривать, и усмешкой своей, и некоторой сухостью в обращении штурман напоминал Филькину командира. Уловив это, Филькин перестал обижаться на Володина, потому что командир был для Филькина как бы эталоном требовательного и грамотного морского офицера, а раз Володин в чем-то походил на него, то Филькин и ему, Володину, многое готов был простить.
– Только до кипения? – озабоченно спросил Филькин, боясь упустить ту важную, по словам Володина, минуту, нет, даже секунду, когда чуть замешкайся – все загубишь: и вкус, и аромат, и цвет.
– Не до кипения, – проворчал Володин, – а только почти до кипения. Я же вам объяснял... – Он встал из-за стола, взял две чашки и осторожно разлил кофе, ибо это тоже требовало некоторого навыка.
Филькин раньше этот кофе терпеть не мог – слишком горький, даже если и сахару много, – но настойчиво приучал себя к нему, потому что Володин очень любил кофе, а был он отличным штурманом, да и легче было нести штурманскую вахту, когда под рукой у тебя всегда был кофе.
– Мерси, – сказал Филькин, принимая чашку.
– Смотри ты, – усмехнулся» Володин, – простой вроде парнишка, а по-французски понимает. – Он вернулся к столу и отхлебнул кофе. – А недурно, Петр Гаврилович. Если бы вы так же преуспели в изучении морского театра...
Филькин виновато потупился, а Володин подумал, что это, наверно, несправедливо – до сих пор напоминать Филькину о его промахе, когда тебя самого командир не особенно и отчитывал.
– Хотя... – проговорил Володин, – я в ваши годы не лучше разбирался.
Вообще-то, себя в эти годы Володин как-то не помнил отчетливо – вот разве командир напомнил сегодня тот случай с маяком, – но вполне сейчас допускал, что и сам он в двадцать два года был не опытнее Филькина.
– Я постараюсь, – горячо сказал Филькин. – Чтоб к следующему разу все назубок! Честное слово!
Их штурманскому делу такая эмоциональность могла только вредить, и Володин сказал, склоняясь над картой:
– Ладно, пейте, а то остынет.
Все-таки Филькин был старательным парнем, морскую службу и штурманскую свою профессию любил, а это, в конце концов, было главным.
Желтоватая светящаяся точка автопрокладчика чуть заметно вздрагивала на штурманской карте, в рубке и в центральном было тихо: все уже надышались свежим воздухом, накурились и, свободные от вахты, легли спать.
– А когда же штурман отдыхать должен? – спросил за спиной Филькин, с недоумением листая какую-то инструкцию. Так выходило, что штурману на корабле и некогда отдыхать. Он обязан был бодрствовать, когда корабль проходил узкости или малоизученные в навигационном отношении районы, при выполнении боевых упражнений, при тактическом маневрировании и при ухудшении видимости. Теоретически Филькин все это знал еще из училища, но одно дело было заучивать это, сидя в штурманском классе, и потом все же вовремя ложиться спать по отбою (попробуй только опоздать – сразу накажут), – и совсем другое было сейчас, в море, на корабле, когда от того, как ты выспался, как отдохнул, могла зависеть жизнь корабля и людей.
– Отдыхать? – переспросил Володин. – А это командир определяет. Но не более, чем три часа подряд.
– Почему – не более?
– Иначе трудно потом входить в свою вахту, – терпеливо объяснил Володин. – От обстановки отстаешь... Вы этого не почувствовали сами?
Как же не почувствовал?! Но ему, Филькину, и через час трудно было пока...
– А что мне делать, когда командующий на лодку придет? – спросил Филькин.
Ох, Петя, Петя... Что ему делать!..
– На глаза не лезть, – сказал Володин. – Сидеть тихо в своей каюте и заниматься чем-нибудь.
– Мне командир велел прочитать «Капитальный ремонт», – сообщил Филькин.
– Вы что, не читали? – удивился Володин.
– Не пришлось как-то... – потупился Филькин.
– А спрашиваете, что вам делать! – Володин улыбнулся. – Приказание выполнять...
Точка автопрокладчика подошла к самому краю полигона, Володин включил трансляцию и доложил в центральный пост:
– Штурман. Освободили двадцать третий полигон. Курс сто восемьдесят пять градусов.
– Есть штурман... – И пока Володин еще не отключился от центрального, он услышал команду рулевому: – Курс сто восемьдесят пять градусов.
Володин проложил новый курс корабля и внимательно осмотрел по карте предстоящий им путь.
А там, в базе, его ждут письма, и обязательно должно быть от Аллы. По первым же ее строчкам он сразу поймет для себя основное: она еще не потеряна для него... А вдруг нет никакого письма? Что тогда? Тут Володин уже заранее обиделся на нее: не может же она не понимать, как ему нужны ее письма... А почему не может? Он сказал ей об этом на аэродроме? Написал когда-нибудь?..
– Штурман! – донесся до Володина резкий и уже нетерпеливый голос по корабельной трансляции.
– Есть штурман!
«Видно, не первый раз вызывает», – подумал Володин.
– Заснули, что ли?
– Никак нет, товарищ командир... Думал, – честно признался Володин.
– Я всегда подозревал, что вы думающий офицер, – добродушно сказал Букреев. – Но чтобы до такой степени... Доложите наше место.
– Есть доложить место корабля, – сказал Володин, склоняясь над картой.
– И учтите, штурман: нам на лодке гении не нужны. Правда, тупые нам тоже не нужны.
– Понял, товарищ командир. В дальнейшем учту.







