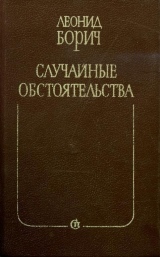
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
– Такой какой-то образ жизни... – усмехнулся он. – Все, на что решаешься тратить свое время, приходится обязательно тратить только со смыслом. Прогуляться пешком позволяешь себе не просто так, для удовольствия, а с мыслью, что это средство от гиподинамии. Если уж по телефону кому-нибудь из приятелей звонишь, то «как живешь?» – это всего-навсего интеллигентная прелюдия, а звонишь-то совсем не за этим: дело есть – потому и выбрался позвонить.
– И твоя баня по пятницам – она тоже для одной лишь пользы? – Вера недоверчиво смотрела на него с каким-то детским ужасом в глазах, который невольно вызывал его улыбку.
– Ну, не так уж буквально. Конечно, и для удовольствия, – уступил Каретников. – Но не только. Если банька престижная, самые важные дела – мигом решаются. Задача – чтобы было их там с кем решать. Так что баньку тоже нельзя на самотек...
– Ты просто не хочешь говорить о себе серьезно, – решила Вера.
Он говорил абсолютно серьезно, но теперь не решался ей признаться в этом, раз она не могла поверить.
– А как о себе вообще можно серьезно? – посмеиваясь, сказал он, чтобы дать ей возможность думать и предполагать так, как ей хочется и как было бы ему приятно самому выглядеть в ее глазах – человеком, который умеет и к собственной персоне относиться достаточно иронически. – С одной стороны, боишься свою нескромность обнаружить, с другой – а вдруг о себе чересчур скромно окажется? Если вслух говорить о себе серьезно – так это ведь... ну, как на площади раздеваться, что ли. Или наоборот – пиджак на пиджак напяливать, что тоже... не слишком удобно...
– Скажи, а наедине с собой люди тоже бывают остроумными? – спросила Вера.
В ее вопросе ему почудилось что-то обидное: она словно бы уличала его в нарочитом остроумии, – но додумать все это Каретников не успел, потому что сразу же она и другое сказала:
– А твой отец... Ты как-то объяснил, что он ничего не достиг в жизни, так как слишком тратил себя на других...
Каретников не понял, в связи с чем она вдруг заговорила об этом, но, будучи вполне снисходительным к женской логике – правда, если это касалось не собственной жены, – терпеливо подтвердил, что именно так и обстояло с его отцом. Увы, как это, может быть, ни черство и даже жестоко звучит со стороны, человеку, если он хочет чего-то добиться в нынешней жизни, приходится многого не позволять себе. К сожалению, тратить время на другого человека больше, чем это необходимо для чего-то – для дела или даже для собственного удовольствия, – это в наш век уже непозволительная роскошь.
Задумавшись на минуту, Каретников нашел короткую, точную фразу, которая ему самому понравилась своей афористичностью: система нравственного самоограничения как система самосохранения.
Отец, при всех несомненных его человеческих достоинствах и уме, всю жизнь как раз и не умел себя ограничивать. То почти весь отпуск тратил на диссертацию своего бывшего школьного ученика, радовался, как славно она получилась, с гордостью показывал потом дарственную надпись на автореферате: «Моему учителю и соавтору». То несколько лет подряд он просиживал в Публичке, в Пушкинском Доме, на свои невеликие деньги и в другие города наезжал, рылся в местных архивах... А все для того, чтобы – спустя полтора столетия! – заступиться за какого-то Хвостова, мелкого, в свое время осмеянного, а теперь давно уж забытого баснописца. И до того докопался, будто сам Крылов иногда почти дословно использовал выражения этого графомана в своих баснях. А у этого Хвостова, между прочим, такие ляпы, что не грех было, конечно, и поиздеваться над ним: у вороны – пасть, у голубя – зубы, а осел у него по деревьям лазил.
– Но, может, он просто... – Вера пожала плечами. – Ну, слишком очеловечивал, больше, чем другие баснописцы?
Каретников удивленно посмотрел на нее, потому что, помнится, и отец именно так объяснял. Но откуда ей, инженеру...
– Вот на что отец тратил себя, – сказал Каретников. – А мог бы...
– Интересно... – задумчиво проговорила Вера.
– Что интересно?
– Интересный человек был твой отец.
– Кто ж говорит? – после паузы согласился Каретников с признательностью. – И так бессмысленно тратил себя. Так бесполезно!..
– А хорошо бы, наверное, выучиться тратить себя и без всякой пользы, – мечтательно сказала Вера. – Хотя бы иногда, верно?
Каретников рассмеялся и кивнул, что, может, в принципе и хорошо бы, в чем-то даже заманчиво, но... Пошел отец с этой своей статьей куда-то, а его там еще и пристыдили: как же это можно на нашу святыню руку поднимать, на Ивана Андреевича Крылова? Ну кто такой этот ваш Хвостов? Кому он сейчас нужен?!
– Как же так! – горячо сказала Вера. – Ведь если по справедливости...
– Take it easy!.. – ласково приобнял ее за плечи Каретников.
Вера, не понимая, вопросительно и смущенно посмотрела на него.
– Дословно: «Бери легче», – объяснил Каретников. – Ну, смотри на все легче, не принимай близко к сердцу...
– Экономная трата самого себя... – Вера невесело улыбнулась. – И в любви – тоже?
Каретников почувствовал досаду: эк она куда!., опять эти сложности...
Он усмехнулся и, как ребенку, снисходительно объяснил:
– А это, между прочим, вообще должно слишком хлопотным быть. И часть души закладывать надо, и опять же – времени столько забирает...
Вера молчала, они вроде бы не сказали и слова неприятного друг другу, но у Каретникова появилось ощущение, словно это их первая размолвка была, чуть ли как будто не ссора.
– Ладно, успокойся, – сказал он примирительно. – Я про любовь точно, как учили, понимаю. Я вообще все правильно понимаю.
– И отца? – серьезно спросила она, не желая этого его легкого, пошучивающего тона.
Ему захотелось одернуть ее, не имела она никакого права на подобные вопросы – кто она ему, в конце концов?! – но Каретников деликатно промолчал. Вера сразу же почувствовала его обиду и виновато сказала:
– Извини, пожалуйста, я не должна была...
– Take it easy. – Он успокаивающе улыбнулся ей.
– Не знаю почему, – задумчиво сказала она, – у меня такое ощущение, что твой отец все равно был счастливым человеком. Нет?
– Возможно... – помолчав, неопределенно сказал Каретников. Сам он не думал так, но какое это имело значение сейчас? Это же твой отец, и все равно он тебе нужен, со всей его не очень удавшейся жизнью. Просто нужен, всегда.
Да, но почему-то вдруг предположить не благополучие хотя бы, не то, что отец мог быть доволен своей судьбой, а сразу – что он был счастливым?! С чего бы это?
– А твоя мать... Она любила его?
Каретников быстро взглянул на Веру, но тут же успокоился. Почему, собственно, он должен был ожидать от нее какого-то сомнения? Он ведь рассказывал ей, что отец с матерью прожили, в общем, дружную жизнь, никогда не ссорились... Он бы, например, хотел, чтобы они с Леной так же спокойно жили, без всяких недоразумений.
– Конечно, любила, – уверенно сказал Каретников. – Хотя они совершенно разные люди, и она не могла к тому же уделять ему достаточно внимания...
Он вдруг подумал, что теперь, когда отца не стало, ему хотелось, чтобы отец в своей жизни все-таки что-то бы испытал такое – что-то яркое, особенное, какую-то необыкновенную встречу, например, – что-то, что хоть когда-нибудь, на какое-то пусть и короткое время, на месяц, на неделю, на день сделало его действительно счастливым. Ведь что он, в самом деле, видел за свою жизнь, кроме тяжкой войны, которую из конца в конец прошел рядовым, кроме послевоенной разрухи и нужды, кроме этих вечных однообразных школьных сочинений и уроков?
– Во всяком случае, твой отец должен бы был хоть когда-нибудь быть счастливым, – сказала Вера. – Иначе это было бы слишком несправедливо.
Каретников удивился, как они рядом крутились вокруг одних и тех же мыслей.
– Ты знаешь, – доверительно поделился он, – я подумал сейчас... Конечно, вроде бы перед матерью и нехорошо... Но я подумал, что был бы рад за него, встреть он кого-нибудь в своей жизни. – Каретников улыбнулся. – Какой-то бы, знаешь, молниеносный, необыкновенный роман...
– По-моему, у тебя довольно странные представления о необыкновенных романах, – сказала она.
– Почему? – искренне удивился он.
– Какой же он необыкновенный, если молниеносный? Он тогда как раз обыкновенный.
– Книжки читать надо, – с шутливой нравоучительностью сказал Каретников. – Вся необыкновенность – именно в молниеносности.
– Ну да, – сказала она, не глядя на него и без всякого выражения, как-то устало и тускло. – Чтоб никаких драм.
До сих пор он все же не переставал удивляться ее интуиции. Тут, в его понимании, были даже не столько ум, не одна лишь душевная их близость, сколько вот это поразительное умение чувствовать, угадывать, проникаться чужими ощущениями.
В рассказах о себе, своей работе, об атмосфере в их доме после смерти отца Каретников говорил далеко не все и поражался, как при этом можно все схватывать, точно понимать, и как то, о чем всего лишь мельком упоминалось им, она тут же прочно запоминала – казалось, уже навсегда.
Он так не умел. Ему, к стыду, и фамилия-то ее толком не запомнилась с первого раза – то ли Васильева, то ли Василенко, – но переспросить было, конечно, неудобно. И уж тем более ей совсем не обязательно было помнить, что Иван Фомич, о котором он случайно однажды упомянул, был его заместителем, и что другого их доцента, Сушенцова, зовут Владимир Сергеевич, но когда через несколько дней Каретников, о чем-то рассказывая, решил пояснить, кто такие Иван Фомич и Сушенцов, то оказалось, что она прекрасно об этом и сама помнит. «Откуда?» – удивился он. «Ты же мне говорил о них!» – в свою очередь удивилась Вера.
Так у них и повелось, как своего рода игра, приятная Каретникову: он, подтрунивая над ней, упорно всякий раз напоминал, что Иван Фомич – это такой-то, что Сушенцова зовут так-то, а она, со своей обычной мягкой улыбкой, но все же немного и обижаясь на него за подобные напоминания, восклицала с притворным удивлением: «Да что ты говоришь?! Я и забыла!..»
Она помнила, кто чем занимается из его родных и знакомых, сколько каждому из них лет, у кого какие привычки и склонности, что разделяет или объединяет их, она даже иной раз подсказывала ему, кто из них как повел себя в какой-то ситуации, о которой он начинал говорить ей, и Каретников поражался, как это точно было угадано, словно она знала их всех лучше, чем он. Он уже допускал порой, что она даже хорошо представляет себе, кто из них как выглядит, и что она бы, пожалуй, легко их узнала, встретив на улице.
Как-то он обмолвился, что сыну нужны бы сапожки на зиму – сказал и забыл пока, откладывая все покупки, как обычно, на последние дни, а когда Вера принесла эти сапожки, он в первые секунды тупо смотрел на них, не понимая, к чему бы это и зачем, собственно, она ему их показывает, а потом, осененный догадкой, что это, верно, она своему сыну их купила, он, обнаружив, что совсем запамятовал его имя, хотя Вера уже несколько раз о нем рассказывала, тут же, однако, нашелся, чтобы, не обнаруживая свою забывчивость, спросить, избегая имени:
– Для сына? Очень хорошие сапожки, – похвалил он, возвращая их Вере.
Она с недоумением посмотрела на него, потом поняла и, не упрекнув даже взглядом, с улыбкой сказала:
– Моему сыну тринадцать лет, ему они маловаты. Это Вите.
Оказалось, она даже Витькин размер обуви запомнила. Смутившись, Каретников стал горячо благодарить, а она, с грустью, ему непонятной, смотрела на него и думала, что с таким жаром благодарят, наверно, только посторонних, совсем не близких тебе людей.
Вне какой-либо связи она внезапно спросила:
– Если бы я когда-нибудь написала тебе до востребования... ты пришел бы за письмом?
«Ну вот...» – вздохнул он украдкой.
– Разумеется! – бодро сказал он. – Обязательно!
Уже в самый последний их день он вдруг понял, что для того, чтобы у них все случилось, недостает теперь только его решительности.
Совершенно невероятная ее стыдливость и очевидная неопытность, удивительные в немолодой, замужней женщине, панический ее страх перед возможными для нее последствиями их близости, его и ее поспешность из-за боязни, что вернется сосед, сделали саму эту близость торопливой и почти безрадостной.
Несколько разочарованный, но все же испытывая к Вере признательность, что она уступила ему, Каретников благодушно спросил, не сумев, впрочем, скрыть своего недоверия:
– Неужели у тебя никогда такого не случалось?
Он скорее угадал, чем услышал:
– Чего?
– Ну... – Каретников невольно повел рукой вокруг, как бы охватывая разом и комнату, и немудреную санаторную мебель, и себя с Верой.
Она как-то странно, коротко взглянула на него, тут же отвела заблестевшие от слез глаза, а он подумал: не хватало еще, чтобы она сейчас расплакалась.
– Так мне и надо, – глухо проговорила Вера.
Все было сейчас унизительным для нее: и вороватая их торопливость, и что оба они оставались почти одетыми, и прислушивание к каждому шагу в коридоре, и этот недоверчивый его вопрос, и то, что он как будто получил теперь право вообще задавать ей подобные вопросы, и ощущение какой-то пошлой обычности того, что случилось и что не должно было быть обычным и пошлым.
Отчего-то так вышло, что в их разговорах и встречах на людях было больше нежности, тепла и взаимного понимания, чем в самой их близости.
Каретников никак не хотел обидеть ее, и теперь, когда Вера торопливо, лихорадочно стала приводить себя в порядок, словно этим можно было немедленно зачеркнуть то, что произошло между ними, будто всего этого никогда и не было, он почувствовал жалость к ней.
– Ну, извини, Вер, ну, перестань, перестань... – говорил он и гладил ее плечо. – Ну что ты, в самом деле!..
Он усадил ее возле себя и принялся убеждать, что не для этого же он был с ней все это время, не ради сегодняшнего дня, что близость их была совершенно в другом, оно и есть то главное, что отличает... Он чуть было снова не обвел рукой комнату, но, спохватившись, поостерегся на этот раз. Ты же подумай, убеждал он ее, если б мне только это и надо было – посмотри, сколько вокруг женщин, с которыми все много проще, все наверняка. А с тобой ничего и предугадать нельзя было, он ни на что и не рассчитывал, просто она ему сразу очень понравилась. И сейчас нравится. Очень нравится. Ты же не давала мне никаких поводов на что-то такое надеяться, так что вообще не в этом же дело.
– Ты действительно совсем не надеялся? Правда? – Вера так доверчиво и просительно взглянула на него, что Каретников понял, что как раз это было ей важно сейчас. Мол, не надеялся, а продолжал быть все-таки только с ней. Каждый вечер, все дни.
Ну конечно же не надеялся! Какие у него были основания? Наоборот, он был уверен, убежден, что так ничего и не случится между ними.
Ей хотелось верить – и она верила ему, но все, что он говорил, успокаивая ее, и во что сам как будто верил в эти минуты, все же не было до конца правдой. Даже и допуская, что так ничего и не будет между ними, и почти вроде бы смирившись с этим, в глубине души он все-таки не мог до конца в это поверить, потому что даже и случись такое, это бы все равно ничего не доказало ему в принципе. Он потом объяснил бы это несостоявшееся чем угодно – недостатком времени, необходимого именно для этой женщины, чтобы она решилась на близость; или своим каким-то просчетом в отношениях с ней, тактической, что ли, ошибкой; пусть даже и тем – вполне самокритично, – что, видимо, он просто недостаточно понравился ей, именно он; или какими-то другими, может быть, уже чисто внешними неудобствами и обстоятельствами – чем угодно, но только не чем-то вообще невозможным, внутренне непреодолимым для нее или для любой другой женщины. И хотя мысленно он специально не оговаривал для собственной жены некой исключительности, а всегда с усмешкой, как бы перед самим собой, демонстрировал, что ему вполне достает и объективности, и иронии, и последовательности здравого смысла, чтобы понимать, что и твоя собственная жена тоже ведь обычный живой человек, и почему же она должна быть не как другие, почему она тоже вот так же не сможет с кем-то, как могут другие женщины с ним, – допущение это было все-таки отвлеченным, не задевающим его по-настоящему. Тут, как чаще всего бывает в подобных рассуждениях, о своей жене как-то так предполагалось, что либо, как водится, именно моя жена самая верная из жен, либо, если и могло бы что-то у нее случиться такое, то ведь не в прошлом и не сейчас, разумеется, а лишь когда-то еще, в некие столь отдаленные времена, что уже и не казалось возможным.
На улице, когда они с Верой, никем не замеченные, вышли из комнаты Каретникова, им снова стало хорошо и интересно друг с другом.
Его путевка заканчивалась на несколько дней раньше, и даже когда он садился уже в санаторный автобус, который увозил к поезду, Вера, провожая его, буквально до последней минуты все-таки надеялась, что он вот-вот передумает, почувствует и без ее просьбы необходимость задержаться здесь пусть хотя бы на лишний день, тем более что курортный сезон давно прошел, гостиницы уже пустовали, а потом бы он смог наверстать этот день самолетом.
Каретников ласково смотрел из окна автобуса на Веру, почему-то хотел, вопреки своим правилам, подольше запомнить ее напоследок, хрупко-беззащитную, потерянную, с ее обычной мягкой, чуть виноватой улыбкой, да и с каким-то новым, тоскливым выражением в глазах. Ему вспомнились сейчас ее слова, сказанные как извинение перед ним за себя вчерашнюю, за то, что ему не было тогда хорошо с ней в его комнате. «Я, наверно, никогда не смогла бы быть любовницей. Я могу быть только женой», – сказала она ему только что.
Странно и немного грустно было: человек стоял еще совсем рядом, всего в нескольких шагах, а оставалась от нее, по сути, уже лишь эта последняя ее фраза, которая могла бы не понравиться и насторожить Андрея Михайловича как своего рода притязание, будь она произнесена в самом начале их знакомства, но которая теперь, при расставании, не только не покоробила Каретникова, но была им воспринята с полным доверием. Да и невозможно было вообще представить, что она способна в чем-то солгать, даже в самом малом.
Безусловно, Андрей Михайлович верил в искреннюю ее привязанность к нему – он и по своему отношению к ней понимал, насколько они близки друг другу, – он, пожалуй, готов был уже допустить, что Вера, сблизившись с ним, что-то все-таки, видимо, переступила в своих прежних взглядах и убеждениях, что-то достаточно для нее важное, – переступила, скорее всего, действительно впервые, и ей, конечно, было нелегко сейчас. Но ответить на это каким-то продолжением их отношений в будущем, то есть отнестись вдруг к ней, Вере, не так, как он положил себе за правило всегда относиться к подобным встречам, значило бы осложнить его и без того занятую, насыщенную и непростую жизнь, потребовало бы от него, как он чувствовал, таких дополнительных душевных трат, что нужно было бы что-то и в себе самом менять, отступиться от своих же налаженных, устоявшихся, привычных и кажущихся ему единственно возможными взглядов на подобные отношения и, значит, лишить эти отношения какого бы то ни было смысла, раз они переставали быть необременительными и приятно-легкими, что прежде всего и привлекало Андрея Михайловича.
Но ради чего все менять? Что, собственно, случилось такого? Случайные, в конце концов, обстоятельства... Даже ведь и победы-то – в житейском, мужском понимании – никакой, в общем, не было, если честно. Скорее, Вера уступила ему в последний день не из-за своего желания уступить, а как бы в благодарность ему – за ненастойчиво-ласковое отношение к ней, за своего рода бескорыстное постоянство... Ему самому понравилось сейчас это допущение, что в их близости не было никакой его заслуги. Ни особой заслуги, но зато и никакой особенной вины, и уж хотя бы это последнее давало ему право не чувствовать себя перед Верой чем-то обязанным.
Каретников озабоченно, с беспокойством прислушался к непонятному ощущению за грудиной, словно образовалась там пустота и ее никак было не заполнить обычным, естественным вдохом, пришлось даже несколько раз поглубже вдохнуть. Видно, вчерашний их ресторан сказывался, куда они пошли с Верой на прощание, или слишком душно было сейчас в автобусе.
Он отодвинул верхнее стекло окошка, Вера, думая, наверно, что он что-то хочет сказать, подошла ближе, и тогда ему и в самом деле пришлось негромко, стесняясь других людей, тоже кого-то провожавших или вместе с ним уезжающих, сказать ей первое, что пришло в голову, чтобы потеплее расстаться:
– Напишешь?
День был ветреный, выхлопной дым от автобуса сносило на провожающих, громко тарахтел двигатель, и Вера, должно быть, не расслышала, потому что все так же молча, запоминающим взглядом смотрела на него, а повторить свой вопрос погромче ему не хотелось. Да она и без того сказала, еще раньше, что напишет ему на Главпочтамт: запомнила, оказывается, что он живет как раз неподалеку.
Каретникову было грустно, как бывает, когда понимаешь, что, скорее всего, уже навсегда разъезжаешься, расходишься с человеком, который стал тебе далеко не безразличным. Но ведь и то Андрей Михайлович за собой знал, что, откуда бы он ни уезжал, покидая даже и не очень приглянувшееся ему место, случайное и проходное в его жизни, и даже ничего и никого при этом не оставляя за своей спиной, он всегда тем не менее, хотя бы на короткое время, испытывал щемящую, необъяснимую грусть какой-то утраты. Так, очевидно, и теперь было. А повезло ли ему все-таки на этот раз – он так и не понял. Как-то не мог он уже уяснить толком, что же здесь вообще везение, а что – нет.







