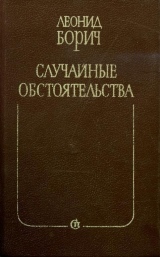
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
11
Покончив с письмами, он стал перебирать бумаги отца. Какие-то пожелтевшие вырезки из журналов и газет ему попадались – о воспитании детей, о преподавании в школе, о писателях, рецензии на книги, отдельные листы с выписками откуда-то, групповые школьные фотографии за много лет, где посредине, в окружении своего очередного класса, сидел отец, то совсем еще молодой, в гимнастерке с темноватыми следами от погон на плечах – это сразу после войны, в первые годы, то в плохоньком пиджачке – это попозже, конец сороковых и начало пятидесятых, а то в его последнем, новом костюме в полоску. В нем и похоронили... И вот все, что осталось: письма, тетрадки, эти фотографии, на которых ни одно лицо не знакомо, кроме отца... Все чужое, никому уже не нужное, не интересное...
Обида и недоумение поднимались в душе Каретникова. Как же так? Жил человек, прожил целую жизнь, что-то же случалось в ней, переплеталось с другими жизнями – а ничего? бесследно кануло? И не только, значит, своя жизнь ушла, но с ней вместе и десятки, сотни других жизней, когда-то с ним связанных? То есть, конечно, они где-то себе продолжались и без него, но ведь уже теперь урезанные, усеченные, сократившись на ту их часть, которая и могла-то существовать лишь совместно с жизнью его отца... И никто из оставшихся этого даже не почувствовал? Но это же... но это... Ну как же так?! Получается, что жил ли ты, не жил – все равно? Но ведь не должно же так быть!.. Или – должно, раз есть?
Он открыл наугад одну из тетрадок...
«Мы говорим: я потерял жену, мужа, отца, – когда они умерли. Но ведь часто и очень часто бывает, что мы теряем людей, которые не умирают. Мы теряем их, когда расходимся с ними; тогда они хуже чем умерли для нас. Часто, напротив, бывает то, что мы тогда и находим потерянных людей, когда они умирают. Мы после их смерти сближаемся с ними. Дороже всего не терять людей при жизни».
Отчего-то вдруг заторопившись, Андрей Михайлович стал назад листать, к самому началу, к первой странице, а перед ней замешкался и не сразу, не полностью открыл ее, а лишь чуть приоткрыл, и взглянул он на эту страницу коротко, словно исподтишка, тут же как бы готовясь поспешно отвести глаза в сторону, будто и не очень видел, не совсем успел разглядеть, что там написано. Так, с нетерпением и опаской одновременно, подсматривают иногда в детстве, чтобы потом, если не захочется об этом подсмотренном знать, еще можно было себе поверить, что ничего не видел.
С каким-то непонятным ему самому, а скорее даже и вовсе не осознанным облегчением он увидел, что это не личное, не свое, а просто тетрадь с выписками: «Из Л. Н. Толстого», – то есть относилось оно не к кому-то одному, а ко всем. Впрочем, подумал Андрей Михайлович, можно было, наверное, и заранее понять, догадаться по кавычкам, по стилю...
Неторопливо он стал просматривать другие тетради, иногда, довольный собой, угадывал, откуда те или иные выписки, и, зная, как много отец читал, все же не переставал удивляться многообразию его интересов. Оказывается, отец и некоторые из его, Андрея Михайловича, книг прочитывал – не специальных, конечно, не сугубо медицинских, но вот, например, из Авиценны, Гиппократа, до которых у самого все никак руки не доходили...
Для коробок с письмами и трех десятков общих тетрадей можно было выделить одну из тумб письменного стола, но тогда нужно было куда-то девать многочисленные свои папки. Какая же, в конце концов, разница, что там будет на антресолях лежать – эти ли коробки и тетради, свои ли собственные бумаги?..
Андрей Михайлович вышел в коридор, заглянул в прихожую, на кухню – нигде никого, как ему и хотелось. Все же возвращать отцовские вещи на их прежнее место было сподручнее не при всех.
Вернувшись в кабинет, он сложил тетради общей стопкой – как-нибудь, когда будет побольше свободного времени, он их обязательно прочтет, – перевязал аккуратно веревкой и только после этого с досадой обнаружил, что одна из них, в коленкоровой черной обложке, та, что он подал матери отдельно, сняв с высокой банки с вареньем, так и здесь лежала – отдельно, в стороне, и теперь пришлось снова развязывать веревку, чтобы поместить эту тетрадь в общую стопку. Напоследок, перед тем, как положить ее на все другие тетради, он раскрыл ее где-то на середине – просто для того, чтоб уже ничего не осталось без его внимания, – и прочитал:
Что-то никак не припомнить случая, когда бы удалось до конца рассказать кому-нибудь о своем самочувствии – врачам ли, знакомым, близким... Но ведь и мне бывает с ними некогда, со знакомыми и родными. Что же касается врачей... Почему это принято думать, что врачам вообще должно быть страшно интересно разговаривать о болезнях?
Андрей Михайлович усмехнулся: как это, однако, верно кем-то подмечено – и о том, что сочувствие даже самых тебе близких людей не бывает, увы, достаточно полным, всегда свою болезнь приходится превозмогать все-таки в одиночку, да и насчет врачей... Он перевел взгляд пониже и удивленно наткнулся на свое имя. С маху, еще до того, как понять, что речь именно о нем, а не об отвлеченном каком-то Андрее, он пробежал несколько строк, потом, торопясь, метнулся к самой первой странице, где отец обычно помечал, о чем тетрадь, откуда сделаны выписки, но страница была не надписана... А что ж тогда в конце, в самом конце – что?
Там была запись:
Когда мы умираем, всегда почему-то оказывается, что мы к этому так и не успели подготовиться за всю свою жизнь – не хватило года, недели, одного дня. Мы не уверены, что привили своим детям устойчивую порядочность в предстоящей им жизни без нас, мы не закончили свои собственные дела, так и не ответили на чужую нечестность или на важные обиды, не выбрались забыть неважные, все на потом это откладывая... Да что там – даже приличной своей фотографии не предусмотрели для панихиды.
Везде, во всей тетради, – без кавычек...
Он уже понимал, что за тетрадь перед ним, но сейчас поразила его прежде всего эта деталь с фотографией. Словно отец предвидел, как на самом деле случится...
Каретников вернулся к началу и стал читать отцовский дневник.
Десятки страниц с именами, случаями из школьной жизни, рассуждениями о литературных героях как о каких-то живых людях, с наивным заступничеством за многих из них, с попытками понять «их правду», с категоричностью, что в настоящей литературе живой жизни больше, чем в той, которой мы живем, с анализом своих школьных удач, поражений, с маленькими учительскими радостями и бедами, со странной мечтой написать книгу о своих педагогических ошибках за полвека, но сейчас некогда, усмешка в свой адрес, что пока еще ему интереснее все эти ошибки проделывать, потом исправлять их, снова ошибаться и исправлять, а вот уж на пенсии... но об этом и думать не хочется, страшно даже представить себе, как это можно не переступать каждое утро порог класса... может, это и есть счастье, что если вдруг узнаешь, сколько тебе осталось, то не начинаешь судорожно метаться, пытаясь хоть напоследок как-то исправить, переиначить свою жизнь, а хочешь жить так же, как жил до этого?..
Заболело вдруг отчего-то сердце. Андрей Михайлович, прервав чтение, пошел на кухню поискать в аптечке валидол, рад был, что никому не надо ничего объяснять – все давно уже спали, – сунул таблетку под язык, подумав, что это, наверно, всего лишь второй или третий раз в жизни, и какая, оказывается, гадость этот ментоловый холодящий вкус, он уж и забыл его.
Боль, хотя и несильная, все же не проходила, и он, вернувшись в кабинет, решил прилечь на диван.
Он подумал о том, что за эти считанные часы узнал об отце больше, чем за сорок с лишним лет, которые они прожили бок о бок в одной квартире, разговаривая друг с другом каждый день.
Разговаривая!.. Ведь нелепость же какая: за целую жизнь они-то как раз и не выбрались поговорить толком!
Все, решительно все, если б он захотел, еще можно было как-то поправить, изменить, что-то начать даже заново, и только одно-единственное, что ему было нужно теперь – поговорить бы с отцом, не прерывая его и никуда не торопясь, – именно это одно было абсолютно недостижимым, и ничем уже нельзя было это исправить.
Да, отец был рядом всю жизнь, всегда, но лишь как отец вообще; мой – как и чьи-то, как все другие отцы, и как-то никогда не думалось, что можно не успеть поговорить, что не вечно же он будет рядом с тобой.
Нелепость была и в том, что понадобилась какая-то тетрадка – в сущности, неживое, графическое изображение слов, лишь бледная копия с живой жизни, – чтобы ощутить отца более живым, чем когда он был жив, по-иному почувствовать утрату, настоящую ее меру, и обрести наконец понимание, как-то незаметно и давно утерянное, что это же не только он как просто ко мне относящийся, но он – сам, с его собственным миром, с его мыслями, которые оказались и мне, сыну, неожиданно интересными...
Уже не только сердце, но все внутри ныло, вздрагивало в нем, и такое отчаяние, такая горькая обида на несправедливость этой жизни поднималась в душе Андрея Михайловича, что в пору было, кажется, бросить любой вызов судьбе, устоявшемуся своему благополучию, всему, что он достиг, еще может достигнуть, не боясь за это никакого возмездия, да и не думая о нем в эти минуты. Он мог бы сейчас понять какого-нибудь верующего фанатика, вдруг замахнувшегося на самого господа бога.
Впрочем, на что же и на кого ему было замахиваться, когда так все неконкретно? Казнить себя теперь за то, что всю свою сознательную жизнь, любя отца, тем не менее всегда относился к нему как-то снисходительно, даже жалел за его не слишком удавшуюся жизнь и только тем и сочувствовал – вот этой самоуверенной жалостью?
А мать?... Пусть она при них, детях, не то чтобы никогда и слова плохого не сказала об отце, а нередко даже ставила его им в пример – его знания, честное отношение к делу, его порядочность, трудолюбие, отзывчивость, деликатность, – но всегда, всегда за всем этим присутствовало не высказанное вслух сожаление: дескать, с такими качествами, как у отца, можно бы и гораздо большего достигнуть – можно бы, а... И тут же, теперь уже не просто как пример положительных человеческих качеств, но как достижения истинные, как успех в жизни несомненный, приводились совсем иные образцы, и сам их выбор был нагляднее всяких слов. То есть отец, учила она их (опять не рассуждениями, не вслух, а своим личным отношением, взглядом, мимикой, жестом, терпеливым молчанием в ответ на какие-то высказывания отца), отец, безусловно, достоин всяческого уважения – в конце концов, вообще как отец! – но стремиться-то им, детям, нужно совсем к иным образцам для подражания, если они серьезно хотят чего-то добиться, достичь.
Вот как она, например: начинала простым участковым врачом, потом в поликлинике стала вскоре отделением заведовать, потом возглавила эту поликлинику, вывела ее на первое место, затем – главврач крупнейшей больницы, кандидатскую защитила по вопросам организации здравоохранения, выбрали депутатом райсовета, возглавила здравотдел своего района, стала депутатом горсовета... А как же иначе расти?!
Или вот однокашники их отца по университету: и в подметки, казалось бы, ему не годились, а двое уже давно доктора наук, крупнейшие литературоведы, да и остальные тоже – кто в институтах преподает, кандидаты наук, кто отделами наробраза заведует. В крайнем случае, стали директорами школ... И снова все это говорилось матерью достаточно осмотрительно, чтобы не подрывать отцовского авторитета: ни слова о том, как не успел в жизни отец, – просто как успели в ней другие...
Но если отцу вовсе и не нужно было всех этих успехов?! Никого ему не хотелось возглавлять, никого контролировать. Он был счастлив, что может возиться со своими учениками, проверять сочинения, радоваться проблеску какой-то их самостоятельной мысли, читать то, что ему интересно, поступать так, как хочется поступить...
Но, выходит, он всю жизнь совсем не за то жалел отца, а что надо было его жалеть?
А... а за что надо было?
Он пробовал доказательно перечислить за что, но каждое из понятий, которое для кого-то, да и для самого Андрея Михайловича, было безусловно важным, как-то сразу же, стоило лишь применить его к отцу, утрачивало свою несомненность, ибо ничто из того, что приносило и кому-то, и Андрею Михайловичу удовольствие, радость, чувство собственного достоинства, понимание своей осуществленности и успеха в жизни – ничто из этого не принесло бы его отцу такого же удовлетворения, как та жизнь, которой он ежедневно жил. Тут была какая-то абсолютно другая шкала ценностей, другая мера отсчета... Ну вот как, скажем, и я, и все вокруг с увлечением, гордясь собой, перепрыгиваем планку, установленную на определенной и достаточно почетной высоте, а где-то в сторонке, хоть и рядом, прыгает себе, не оглядываясь на вас, человек, для которого ваша высота – это вообще не предмет для попыток: его планка просто на порядок выше. И тут уж не важно, что не всегда удается ее перепрыгнуть. Класс-то совершенно иной!..
За что же его жалеть? Тут не то что жалеть, а...
Боль в сердце совсем отпустила, но вставать с дивана не хотелось, он протянул руку за отцовской тетрадью и стал дальше читать.
Все, чего он достиг...
Не понимая, о ком это, Андрей Михайлович вернулся к уже прочитанному, но никакой связи с предыдущим он не нашел. Видимо, отдельная какая-то запись.
Все, чего он достиг, все им заслужено, и все как будто благополучно... Отчего же в душе такое постоянно ощущение, такая за него обида, что с его жизнью какая-то несправедливость происходит?..
Да, за всех он душой болел, на всех его хватало... Андрей Михайлович перевернул страницу.
Мечта о возможности жить жизнью другого человека или других людей была в классической литературе столь очевидным, непременным условием любви и счастья, что воспринималась не только с доверием, но и как само собой разумеющееся, почти как банальность. В конце двадцатого века мы нередко смотрим на это как на некую сентиментальность, в лучшем случае – постигаем как откровение. Нынче вроде бы и времени нет, чтобы себя еще и на кого-то тратить. Но, не потратившись, как же сполна ощутить то, что может тебе другой дать? А вернее – что мог бы дать, да тоже не дал, потому что и ему ведь тоже некогда. Какое-то взаимное невольное обкрадывание...
Андрей Михайлович попытался как-нибудь на себе примерить это рассуждение, и так почему-то вышло, что сразу о женщинах: вот когда, допустим, ты к ней меньше проявляешь чувства, чем она к тебе, то... то и она, значит, дает тебе меньше, чем могла бы, то есть ты сам же себя и обкрадываешь, а не только ее... Так, что ли? Может, так, пожал он плечами.
Читая дальше, Андрей Михайлович улыбнулся наивному, прямо-таки юношескому максимализму отца, натолкнувшись на утверждение, что для того, чтобы понять проблемы всего общества в целом, достаточно, мол, внимательно изучить проблемы общеобразовательной школы.
Но и об этом все равно было интересно читать, как трогала и не менее наивная его вера во всесилие литературы, хотя тут же, страницей спустя, видна была и растерянность, что ученики его совсем не так, как он ожидал, восприняли какое-то стихотворение. Он потом снова возвращается к этому случаю: как же так? Стихотворение ведь о том, как хладнокровно избивают девушку, а ребята смотрят на меня спокойно, вежливо, и на лицах – скука! Ну, дескать, да, бывает; нехорошо, конечно... Выходит, понимания у них не отнимешь. Что ж – чувства нет?! И смешная радость по поводу своего открытия – пусть и с опозданием, но зато через них, его учеников, благодаря им: стихотворение-то, если как следует присмотреться, вслушаться в него, – слишком все оно в заботе о самом себе, увлеченное собственным ритмом, поигрывающее своей профессиональной умелостью, но какое-то головное, холодноватое, без острой боли.
Андрей Михайлович словно бы почувствовал сейчас это отцовское облегчение за своих учеников: не они бесчувственны, а само это стихотворение.
Дальше снова шли общие рассуждения, и Андрей Михайлович, читая дневник, не думал о том, насколько он согласен или не согласен с ними, – просто было приятно и грустно одновременно, что он словно бы слышит глуховатый негромкий голос отца.
Интеллигентный человек – это не только способность сострадать. Это еще и совиновность. Это – когда видишь калеку и вдруг испытываешь свою как бы личную вину за него, за таких, как он.
Цена каждого дня, каждого поступка – всего, что кажется текущим... Из ста мышей не создать, конечно, и одного слона. Но из ста мелких повседневных поступков, может быть, как раз и складывается наша одна жизнь?
Иной раз по судьбе отдельного какого-нибудь слова можно целое явление в жизни проследить... Любопытно, что в самых классических наших словарях – у Даля и Ушакова – нет, например, слова «конформизм». «Конфорка» – та есть...
Андрюшины проблемы – где взять санитарок, сестер – это гораздо шире, чем соображение демографических сдвигов, престижности, материальной заинтересованности и т. п. Это в значительной степени проблема нравственная. Как вообще так воспитывать ребят, чтоб они готовы были не только к поступкам перед всем человечеством, не только ради всего человечества, но и к поступку перед самим собой, к поступку ради одного конкретного страждущего человека?
Предложил как-то своим ребятам такое условие: науке необходимо проверить, как воздействует реальный космический полет на нетренированный организм. Дело, конечно, рискованное... Кто бы из вас согласился лететь?.. И подсчитывать не надо – все руки тянут. Ну, хорошо... А вот рядом, в больнице, за полквартала от нашей школы, лежат тяжелые, обреченные больные. Нет-нет, кожу не пересаживаем, кровь не переливаем, доноры не нужны, опустите руки. А вот скрасить бы последние их недели, поухаживать – выносить от них, простыни менять... Кто готов идти?.. Молчание. Явное затруднение на лицах. Разочарование. Нерешительные две-три руки, да и те, застеснявшись, опустили... Почему? А потому, что подвигом вроде бы не назовешь – другой сорт... Как-то стесняемся мы на милосердии воспитывать...
Андрюша спросил вчера, почему мне Сушенцов не по душе. Неужели только из-за того давнего случая с его аспирантурой?
– С чего ты взял? – не очень искренно удивился я. – Но могу сказать, что мне по душе...
– Да?
– Ваше расхождение с ним. Мне кажется, что, когда ты говоришь, что на больных времени не хватает, ты все-таки с сожалением об этом говоришь, а твой Сушенцов, насколько я понял из нескольких разговоров с ним, – по-моему, даже с удовольствием и гордостью. Нравится ему своя занятость. Уважение к себе от этого побольше... А чем, кстати, Иван Фомич тебе не очень по душе?
– Ну что ты, папа! Он вполне. Милый, старательный, честный... Ему бы, правда, Володину хватку и талант ученого...
– Мне кажется, у него более редкий талант: он добрый. Его должны больные любить. Когда он спрашивает: «Как ваше здоровье?» – хочется отвечать, потому что видишь, что его это действительно интересует. Он – добрый.
– Иной раз – так даже чересчур, – усмехнулся Андрей. – А что, по-твоему, доброта всегда уместна?
– Думаю, всегда.
– А не приходило в голову, что из-за нее, бывает, и в дураках остаются?
Надо бы, наверно, было сказать Андрюше по поводу доброты, что, может, это как раз тот единственный случай, когда не должно быть стыдно даже и в дураках иногда оставаться. И потом, что за нежности при нашей бедности?! Что за опасения такие?! Вроде бы рано еще нам беспокоиться, что мы перебарщиваем со своей добротой. Надо бы, наверно, все это сказать – да не сказал... А ведь бывает, бывает же, что мы с ним очень близки друг другу!..
Андрей Михайлович оторвался от дневника и подумал с недоумением: «Разумеется, близки. Но почему такое восклицание? Почему это как открытие какое-то? Будто он сам себе доказывает то, в чем сомневается...»
Следующая страница была о том, как однажды отец зашел к нему в клинику. Андрей Михайлович припомнил, что это действительно лишь однажды было. Сам никогда не звал его, хотя видел, понимал ведь, что отцу хочется посмотреть на него именно там – среди врачей, больных...
Иду по коридору – и смотреть никому из больных не могу в глаза. Как Андрею-то хватает сил все это наблюдать – результаты своих операций, то, что потом остается... И понимаю умом, что это ведь те, которые без него обречены были, кто уже и не жил бы сейчас, и что пройдет сколько-то времени – Андрей мне как-то рассказывал, – он поправит их лица, сделает пластику, а все равно тяжело на душе, побыстрее хочется мимо них проскользнуть. И подумал тогда: как мы, здоровые люди, даже и не подозреваем, насколько же мы все благополучны!
Постучался к нему, вошел в кабинет, а он... спокойно чай пьет. И понимаю, что ни в чем тут никакой вины, но как хотелось в тот момент на лице его застать не умиротворенность, не улыбку, а скорбь, и чтоб он не чай пил, а какой-нибудь рентгеновский снимок рассматривал, еще бы что-то такое благородное... Впервые обратил там, в кабинете, внимание на его руки: не просто, как всегда до этого знал, ухоженные и красивые, а какие-то чуткие, умные руки. Люблю его таким... Да что это я? Все равно люблю, всяким.
Так, как сейчас, Андрей Михайлович лишь когда-то давно в детстве плакал: и горестно, и сладко – взахлеб, не стыдясь, самозабвенно. И тепло было щекам от этих слез, а когда выплакался, облегчение и спокойную опустошенность почувствовал.
Он взглянул на портрет отца в рамке из красного дерева. Так ничего и не смогли поделать с желтизной... Фотография появилась на столе всего два дня назад, но Андрей Михайлович заботливо обтер ладонью невидимую пыль со стекла. Он вдруг подумал, как это несправедливо, как глупо и грустно, что для того, чтобы на его письменном столе появился этот портрет, отец должен был сначала умереть.
А как бы ему, наверно, было приятно увидеть свою фотографию на столе у сына! И как это просто было, как просто!...
Даже и на фотографии глаза были очень лучистыми, очень добрыми. Все их знакомые это сразу же замечали в нем... Из-за своей деликатности, неизменного такта отец всю жизнь казался слишком, чересчур мягким человеком, почти чуть ли не благостным, а между тем бывал он, когда надо, и достаточно твердым, неуступчивым, даже упрямым... Все это понималось теперь Андреем Михайловичем необычайно отчетливо и тонко, но и для этого – для такого понимания – отец должен был сначала умереть.
Жизнь, что ли, такая? Мы ли такие в ней?..
Он снова увидел свое имя в дневнике и прочитал об их самой последней прогулке вдвоем. Как сейчас вспомнилось: дождь, они идут с зонтиками... Хорошо тогда было!.. Да-да, и этот вопрос вспомнил:
Андрюша, а тебе никогда не хотелось написать такую какую-нибудь книгу... ну, например... «Медицина как искусство сострадания»?
Что ж, бывало иной раз, что и странные мысли приходили отцу в голову. Ну и что?.. Он даже улыбнулся словам, которые дальше прочел о себе:
Эх, научиться бы ему хоть иногда делать «бесполезные» вещи!..
Конечно, была, была в отце некоторая наджизненность, и поэтому Андрей Михайлович спокойно, вполне по отношению к отцу терпимо воспринял и следующую запись, которая сестры касалась:
Хорошо, долго говорили с Ириной, когда провожал ее, как обычно, до метро. При всем внешнем как будто неблагополучии, при всей горечи ее любви – почти спокоен за нее: все-таки она счастлива.
Может, даже хорошо, что отец так заблуждался? Насколько ему действительно было спокойнее от этого на душе... Надо, разумеется, Ирине показать эту тетрадь.
Чем ближе к концу, тем чаще стали попадаться места, где недоставало целых страниц. Они были так аккуратно срезаны у корешка – видимо, бритвой, – что Андрей Михайлович не сразу и заметил это, а там – кто знает? – могло быть что-то особенно интересное, что-нибудь и о самом отце... Но если он не хотел, чтоб знали о какой-то части его жизни – может, никто и не должен о ней знать? Наверное, так...
А о себе Андрей Михайлович встречал все чаще. Даже получалось, что последние страницы в основном только о нем и были, и это бесконечно трогало его.
Посмотрел сегодня на Андрюшу: лицо озабоченное, серое, усталое. Сердце защемило... Все у него гонка какая-то, будто он на соревнованиях и поминутно оглядывается через плечо, достаточно ли далеко оторвался вперед, не нагонят ли соперники. Успеть, успеть...
Защита диссертаций... Даже термин такой бытует: «диссертабельная тема». У Андрея все непременно будут «остепененными», а вот у Юрия Тынянова, наверно, и половина не защитилась бы...
Иногда кажется, что Андрюша разбирается в людях, не чувствуя их, а как бы логически высчитывая. Однако дело-то в том, что и самая «железная» логика все же всегда стереотипна. За ней теряется ощущение конкретного человека.
Странный сон сегодня: будто Андрея обокрали. И как-то не так, что кто-то обокрал... Просто обкраден – и все.
В самом деле, странный сон, подумал Андрей Михайлович. А дальше и совсем уже непонятно было:
У Андрея есть все данные для любого хорошего поступка, есть мужество для самостоятельного мышления... Отчего же такое ощущение, что все это остается втуне? И способен совершить, а свершения нет.
Или вот это:
Вдруг подумалось, что Андрюша – одинокий человек. То есть находится он все время среди людей, общается интенсивно, связан с ними общими делами, интересами... но не связан чувствами. И чем помочь – ума не приложу. Насколько легче воспитывать чужих детей...
Значит... значит, и одна из первых попавшихся ему на глаза фраз, воспринятая им поначалу как неизвестно к кому относящаяся, была тоже о нем?
Где это?.. Андрей Михайлович стал назад перелистывать и вскоре нашел:
Все, чего он достиг, все им заслужено, и все как будто благополучно...
«Как будто»!.. Не «благополучно», а «как будто»!.. И дальше:
Отчего же... такая за него обида... с его жизнью какая-то несправедливость...
Но тогда, выходит, и многие другие записи отца, прочитанные им, Андреем Михайловичем, как рассуждения общие – во многом тоже к нему относились? Даже и эта, нейтральная:
...так хочется, чтоб наши дети были не только умнее, но и лучше нас, и чтобы они добились того-то и того-то не «в жизни», а в себе бы самом... —
тоже относилась к нему?
Еще совсем недавно, начиная читать о себе, Андрей Михайлович все ожидал увидеть, как отец гордится им. Ну, хорошо, пусть и не какая-то там особенная гордость, ладно, но хотя бы понимание, что если что и свершилось в их семье, то ведь свершилось оно прежде всего именно в нем, их сыне... Нет, все, кроме этого понимания. Все, что угодно – и беспокойство за него, и сочувствие, и... да-да, и жалость! Ирину вот отец не жалел, был даже спокоен за нее, а его – жалел. Как же так вообще можно заблуждаться?!
Растерянный, задетый, обиженный, дочитывал Андрей Михайлович последние страницы, где снова, выходит, было о нем:
Жизнь души мы обычно все на завтра откладываем. Это-то, мол, еще успеется. А что из иного не успеется?
Как это все Ирине дать читать – он и не представлял себе.
Он вдруг вспомнил, что завтра у них комиссия ожидается. Посмотрел на часы: нет, уже сегодня. Нельзя опаздывать... Будильник поставить... Комиссия, а забыл операции отменить. И никто не напомнил. Как все не вовремя...







