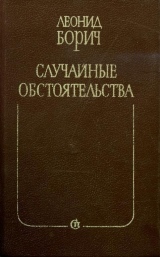
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
Это было настолько неожиданным, нелепым, просто невозможным, что, потрясенный, он тихо и незаметно прикрыл дверь.
Теперь ему легко было уезжать.
5
В санаториях Андрей Михайлович испытывал обычно то особенное состояние, которое свойственно людям, вдруг обнаружившим свою полную свободу от всяких жизненных забот, от каких бы то ни было обязанностей перед кем-то, и лишь все время остро чувствующих, как неумолимо бегут эти немногие дни, а после них, за ними уж ничего подобного не будет, они единственные, они раз в году, в пять, в десять лет – кто заранее знает? – а может, они уже и вовсе никогда не повторятся в твоей жизни.
Многое кажется в такие дни простительным, чем-то таким, что не требует никаких оправданий ни перед собой, ни перед кем-то, и никто здесь не может быть грешен.
А по вечерам еще этот грустно-тревожащий матовый свет фонарей на набережной, и синеватая зелень деревьев, и напряженный, на всем разлитый свет луны, и совсем рядом – как пример, как вкрадчивая подсказка возможного – человеческие неодинокие тени, шуршания, вздохи, ласковый женский смех, – и как же всего этого не замечать, не слышать, а главное, где же взять само желание не замечать и не слышать, если томит, волнует ожидание чего-то хоть чуть-чуть необыкновенного, такого, что уже давно не случалось?..
Можно было с уверенностью считать в душе, что человек он, безусловно, везучий, что все в его жизни сложилось удачно, и все-таки с женщинами, в понимании Андрея Михайловича, ему как-то не очень везло, хотя он как будто и не был обойден их вниманием.
То ли уж он сам так выбирал, не совсем, может быть, осознанно, в чем-то даже против видимой своей воли, а может, к нему больше тянулся все же какой-то определенный тип женщин – и значит, тогда не он их выбирал, как ему казалось, а его выбирали, – но почти всегда так случалось, что вели они себя с ним без той легкости, какой бы ему хотелось, и то, что для него было лишь эпизодом, более или менее приятным и в любом случае никогда не занимающим в его жизни много места, для них почему-то вырастало чуть ли не в событие – с какой-то немедленной привязанностью к нему, привязанностью досадной, мешающей, ненужной Андрею Михайловичу, а то еще и с угрызениями совести, с разговорами о своей вине перед мужем, с лишними в эти минуты оправданиями не только, видимо, перед собой, но и перед ним, Каретниковым, будто в опасении, что он же когда-нибудь и попрекнет их в легкой уступке ему, да и теперь, наверно, думает о них с пренебрежением, осуждающе и вообще бог весть что.
Но он-то как раз обо всем этом совершенно не думал, не хотелось ему никаких уточнений и драм – все бы должно было выглядеть как-то проще, без умствований, веселее, что ли. Как, например, в тех заграничных фильмах, где любовные истории часто завязывались легко и непринужденно, длились потом без всяких терзаний совести, не превращаясь с первых же дней в какое-то бремя, и даже заканчивались они обычно тоже легко и непринужденно, без обид и взаимных упреков, а просто как что-то такое, чему пришла, значит, пора. Эти любовные истории потому, видно, и не усложняли жизнь – напротив, скрашивали ее, – что случались-то они почти мимоходом и не слишком всерьез.
Андрею Михайловичу все и хотелось этой несерьезности – на западный, что ли, лад, – но когда однажды такая женщина ему встретилась, он вдруг поймал себя на том, что если ее непринужденность и простота во взглядах на подобные отношения ему вообще-то и нравятся и вроде бы очень удобны, то, перенесенные на него, они же и задевают, вызывая в нем невольный протест: уж слишком как-то легко, чересчур легко и до обидного просто, она смотрела на случившееся между ними – так, как будто ничего, собственно, и не произошло. То есть, что был он, что его не было... Нет, Андрею Михайловичу это, оказывается, все-таки не подходило. Видимо, его отнюдь не заграничное воспитание все же давало о себе знать, как, наверно, и воспитание тех, с кем сталкивала его на короткое время судьба и кто не мог почему-то без сложностей, без угрызений совести, без старомодной привязанности к себе подобному и без какой-то даже преданности, пусть хоть и на это короткое время.
В этом смысле и нынешнее его знакомство в санатории было тоже вполне как будто обычным – из тех, что, скорее всего, не оставляют потом никаких особенных воспоминаний. Более того, Андрей Михайлович ни тогда, ни после вообще не мог себе толком объяснить, почему он, собственно, обратил внимание именно на эту женщину – слишком, на его вкус, худощавую, с узенькими бедрами, с выступающими ключицами, с маленькой, еле заметной грудью, – то есть на женщину, которая меньше всего соответствовала его представлениям о женской привлекательности. И ведь рядом тогда были женщины куда симпатичнее, а главное – понятнее, много понятнее ему, так они поощрительно смотрели... Правда, все они как бы требовали по отношению к себе каких-то немедленных завоевательных действий, даже и некоторой, может быть, дерзости, которую женщина вполне охотно прощает при первом знакомстве, если только эта дерзость выглядит как очевидное желание познакомиться с ней, как знак того, что она просто очень уж понравилась, и именно поэтому мужчине могли на минуту изменить и воспитанность и даже его ум. Но Андрея Михайловича как раз всегда, уже заранее, удручала какая-то совершенно обязательная банальность первых же предстоящих слов, без которых никак нельзя было бы обойтись при подобном знакомстве, – банальность добровольная и оттого особенно обидная, потому что она сразу же оглупляла и того, кто ее произносил, и того, кто выслушивал. Ему всегда было странно, что, по его наблюдениям, это вроде бы никого особенно не мучает, даже не смущает, а то и попросту не замечается. Во всяком случае, то, что для многих других не было проблемой, вырастало для Каретникова в довольно ощутимое препятствие, и, пока он решался на что-то, то есть пока говорил себе, что, мол, черт с ним, как-то, мол, перенесем эту пошловатую минуту первых слов, к этому времени уже оказывалось, что симпатии высказаны кем-то другим, более, чем он, предприимчивым, и этот другой не отвергнут, и вообще пары уже определились. Каретникову это было досадно, потому что ведь еще совсем недавно он твердо знал, что именно он, Каретников, был отмечен благосклонным взглядом, именно к нему относилась поощрительная улыбка, именно на него рассчитывали и на его, пусть, в конце концов, и банальные, первые слова, но он так и не решился, не успел их сказать, и вот теперь эта женщина, которая вроде бы и ему понравилась, дарит его напоследок укоризненным, насмешливым, а то и чуть даже мстительным взглядом – это тебе за то, что не решился! – и подчеркнуто весело дает себя увести кому-то. На танцы ли, в ресторан или просто так – это теперь неважно, этого поправить уже нельзя.
Досадуя на свою нерасторопность, Андрей Михайлович еще и оттого чувствовал раздражение, что, давно привыкнув к ежедневному умственному труду, к удовлетворенности и спокойствию на душе именно лишь когда уставал к концу дня от такой работы, он здесь, в санатории, быстро исчерпав свое оживление от представившейся ему полной свободы, проводил время в каком-то отупляющем чередовании еды, бессмысленного лежания на пляже до обеда, послеобеденного неосвежающего сна и сентиментальных, пустых кинофильмов по вечерам – о добрых и злых раджах, честных мошенниках, милых ковбоях, одинаково хорошо стреляющих и с правой и с левой руки, – или, если уж совсем лень одолевала, садился к телевизору в холле – благо никуда для этого и идти не надо, сидишь на своем этаже, в домашних шлепанцах, в удобном отдельном кресле, а перед сном еще и на кефир успеваешь, если проголодался – на свежий кефир с подсушенными ломтиками хлеба.
Не вносили никакого разнообразия в его жизнь и те исследования, которым он подвергался, потому что не были они ему ни внове, ни особенно трудны, ни боязны, как другим, и он заранее хорошо представлял не только как и что ему будут делать, но и все свои ощущения при этом.
Люди, окружавшие его, все-таки находили себе хоть какое-нибудь дополнительное занятие – домино, карты, шахматы, – а у него никогда не было времени, чтобы всерьез выучиться преферансу или шахматам. Впрочем, даже «козел», при внешней его несложности, тоже, оказывается, требовал в компании умельцев чуть ли не профессиональной сноровки, если ты не хотел испортить общей игры и выглядеть в глазах партнеров убогой посредственностью.
Маясь от скуки, Андрей Михайлович дождался своей очереди в санаторной библиотеке, взял там роман, о котором еще отец очень похвально отзывался, но то ли вообще трудно читать на пляже серьезные книги, то ли все время он чувствовал угрызения совести из-за своего безделья – никак ему было не вчитаться. Предусмотрительно он захватил из дому кое-какие наметки для новой статьи, каждый вечер давал себе зарок, что завтра же с утра сядет за работу, у него уже и несколько тетрадок было куплено, и шариковая ручка припасена на тот случай, если в своей авторучке чернила кончатся, но с самого начала, как назло, такие солнечные, безветренные и теплые дни выдались, и каждый из них столь очевидно был последним, что грех было упустить его, не позагорать хоть немного. Однако назавтра, несмотря на пасмурный и прохладный вечер накануне, к утру снова распогоживалось – теперь-то уж точно в самый последний раз! – и вовсе глупым казалось отказываться от солнца перед долгим ненастьем.
Спохватившись в конце концов, что так, в ожидании плохой погоды, уже целая неделя прошла, Каретников, спровадив соседа по палате, заставил себя сесть к столу, освободил от скрепок ученические тетрадки, разъединил на отдельные листы, сложил их стопкой – дома он имел обыкновение на отдельных форматных листах писать – и с увлечением проработал до самого обеда.
В столовую он явился в прекрасном настроении, ощущая необыкновенную умиротворенность на душе и радуясь, что сегодняшний день им прожит безусловно с толком.
Однако на следующее утро, честно сев за работу, Андрей Михайлович вскоре обнаружил, что кончились чернила. Он не поленился тут же отправиться на поиски, но ни у дежурных сестер на отделениях, ни в газетных киосках, ни в единственном канцелярском магазине чернил не оказалось. Пожалуй, продавцы смотрели на него даже несколько озадаченно: видно, отвыкли в курортном городке от подобных запросов.
Андрей Михайлович попробовал шариковой ручкой писать, но быстро уставала рука с непривычки, да и мысли были какие-то тусклые, самому себе неинтересные, а кроме того, все чаще стало появляться чувство, что, пока он безуспешно мучается над статьей, у других в это время что-то такое происходит вокруг – что-то заманчивое, увлекательное, даже значительное, может быть, а у него между тем просто дни утекают. Хотя бы уж отдохнуть-то как следует! Имеет же он на это право?!
Повод был веский, статья и дома никуда не уйдет от него, и теперь, когда все спешили в санаторный клуб на танцы, Каретников шел следом, но оставался чаще всего на скамейке напротив. Он сидел, одиноко покуривал и чуть снисходительно наблюдал – как это почти всегда бывает, когда смотришь со стороны, – за модными нынешними танцами, понимая, что это все не для него: он уже так не умел, в его молодости танцевали иначе – как-то нежнее, осмысленнее, что ли? – и смешно бы, наверно, он выглядел... А все-таки он им всем немного завидовал, особенно своим сверстникам: их непосредственности, их умению забывать о себе вчерашнем, о том положении, которое каждый из них где-то там, у себя дома, занимал и к которому все они вот-вот вернутся, снова уже рассудительные, серьезные люди – отцы, матери... Да и самой этой атмосфере легкости и вседозволенности Каретников сейчас тоже завидовал, поглядывая издали на танцующих – той атмосфере, которая позволяет сразу же подойти к понравившейся тебе незнакомой женщине, и уже в следующую секунду иметь право полуобнимать ее, чего бы и в голову не могло прийти, если б не эти танцы, и договориться тут же, пока танцуешь, о сегодняшнем вечере или о завтрашнем дне – всё просто, не стыдно, легко, – и тогда вдруг понять, что не так уж, оказывается, скучно в этом санатории, не так однообразно и муторно... На соседнюю скамейку как-то нерешительно, словно не зная, куда себя деть, присела женщина его лет примерно. Может, чуть помоложе. Хотя... Каретников считал, что каждая женщина должна выглядеть моложе по крайней мере на пять-шесть лет, если только она не больна или не замотана работой и домом. Так что вполне могло быть, что женщина на соседней скамейке все-таки несколько даже старше, чем он, – лет сорока пяти, например.
По тому, как она ни разу, хотя бы случайно, мельком, не взглянула в его сторону – скамейки их были совсем рядом, и она не могла не заметить, что там кто-то сидит, – по ее чуть напряженной позе, по тому еле заметному беспокойству и озабоченности, с которыми она невольно проверила, все ли на ней ладно – и воротник кофточки, и так ли платье на колени легло, и в порядке ли прическа, – Каретников понял, что она чувствует на себе чужой взгляд, но пока, видимо, еще не определила для себя, как ей быть: оглянуться или вот так и сидеть, не замечая. И оттого, что, как ему показалось, он так здорово сумел это понять в ней, Андрей Михайлович проникся к незнакомке даже симпатией, как к человеку, который чем-то помог тебе увидеть себя же еще более прозорливым и тонким, чем ты о себе думал.
Заметил ее в санатории он впервые и подумал – отчего-то с одобрением в ее адрес, – что никакими знакомствами она еще, видимо, не обзавелась, а женщина, скорее всего, не из тех, кто может не стесняясь, одна пойти на танцы, без подруги.
Ее одинокость вызвала в Каретникове сочувствие, чуть ли не жалость, но от этого он сейчас же и свое положение ощутил как-то острее, потому что оно, по сути, ничем не отличалось от ее положения и, значит, тоже могло со стороны вызывать сочувствие.
Андрею Михайловичу очень захотелось, чтоб его одиночество на этой скамейке выглядело сейчас совершенно добровольным, намеренным, то есть как бы заранее спланированным и ни от кого не зависящим, кроме него самого, – мол, так он на сегодня выбрал себе, так сам решил и не чувствует сейчас не то что какой-то там обделенности, но именно вот так ему и хорошо, так и хочется ему в эти минуты.
С видом независимым и ленивым он поудобнее откинулся на скамейку, посидел, чуть раскачивая ногой в такт близкой отсюда музыке, но все же не выдержал долго, обернулся, не предполагая, что и женщина вдруг посмотрит на него. Он оказался словно бы застигнут понимающим ее взглядом – застигнут так для себя внезапно, что не успел достаточно притвориться, скрыть от постороннего взгляда свое одиночество, и он вынужденно, смущенно улыбнулся ей.
Несмело, но очень доброжелательно, без какого-либо кокетства она откликнулась на его улыбку, будто действительно сразу и его поняла, да еще и некую общность их состояний, и тогда он почувствовал в себе ту спокойную, веселую уверенность, которая была для него всегда верным знаком предстоящей удачи. Он и познакомился с ней так непринужденно, легко избежав или просто не заметив столь ненавистной ему банальности первых обязательных фраз, что потом даже не помнил точно, как вообще это вышло.
Были они в том возрасте – и немолодые уже, но еще и недостаточно пожилые, – когда затрудняются, как надо представляться друг другу, по имени или по имени-отчеству, и оба с самого начала испытали облегчение оттого, что это сразу определилось между ними: он тут же стал называть ее только по имени – Верой, и, значит, она тоже могла говорить ему – Андрей.
Спустя минуту Каретников вдруг признался ей, что очень не хотелось перед ней выглядеть, ну, что ли... Он стал подыскивать слова, чтобы передать ими недавние ощущения – и свое одиночество на той вон скамейке, и опасение, что она это со стороны может понять в нем, – но она, мягко улыбнувшись, сама договорила за него:
– Не хотели сочувствия?
Каретников поразился, как она сумела это угадать, и забеспокоился: ее улыбка что-то немедленно напомнила ему. Ну конечно! Отец тоже всегда так улыбался – застенчиво и вроде бы чуть виновато.
При этом воспоминании что-то, видимо, появилось в его лице, потому что она, чутко уловив это, спросила участливо:
– У вас... что-то случилось?
Каретников помедлил и удивленно сказал:
– А вы... ведьмочка какая-то, честное слово.
Так он, ласково посмеиваясь, и называл ее потом, все время не переставая удивляться какой-то необыкновенной ее способности угадывать все, что он чувствовал, о чем по тем или иным причинам не всегда договаривал, а порой даже и то, о чем лишь успевал подумать.
Как будто и не глядя на него, не замечая его короткого оценивающего взгляда, брошенного иногда украдкой на проходящую мимо них женщину, Вера тем не менее тут же спрашивала с мягкой неосуждающей улыбкой:
– Понравилась?
– Ну что вы!.. – Невольно он выдавал себя этим торопливым восклицанием, из-за этого чуть смущался и, посмеиваясь, сокрушенно вздыхал: – Просто невозможно!..
Искоса поглядывая на нее, он подозревал, что и тут она уже все заранее поняла, то есть все, что он собирался дальше сказать: и то, что иметь такую жену, как она, это же форменное бедствие, и то, почему, мол, бедствие – ведь все замечает, ведьмочка, все чувствует, ничего и скрыть невозможно!
А она словно бы и в самом деле все понимала в нем и радостно удивлялась себе, потому что никогда не думала, что кого-то вообще можно так предугадывать – жест, мимику, взгляд, даже движение губ, которые еще только собирались произнести слово. Уж, казалось бы, кого ей и понимать, как не своего мужа, если они в согласии прожили двадцать с лишним лет и она действительно понимала его, знала все мельчайшие его привычки, но понимание это было все же объяснимым, оно складывалось постепенно, годами и десятилетиями, было чем-то выученным, затверженным, усвоенным путем длительных повторений, было с ее стороны лишь, в конце концов, суммой ответных действий и слов, совпадающих с действиями и словами другого человека как необходимое условие согласной жизни. Все, что угадывалось ею в муже, ей просто надо было угадывать, а теперь она вдруг увидела, что угадывать что-то в другом человеке – это уже само по себе такая радость, что, кажется, ничего другого ей и не надо, только бы длилась и длилась такая возможность. Впрочем, она понимала, что Андрею Михайловичу, как, наверно, и любому мужчине, этого мало, тем более что курортные отношения, как она, впервые в своей жизни приехав в санаторий, скоро увидела, были особенными, со своими облегченными правилами и несложной моралью.
Соседки по палате заинтересованно расспрашивали о ее отношениях с Андреем Михайловичем, сначала обижались, считая, что она притворяется перед ними, осторожничает, скрывая свою близость с ним, а потом – то ли поверив ей, то ли проницательно высчитав по времени, что ей, кажется, и впрямь некогда быть с ним наедине, раз их постоянно видят то на пляже, то в парке, то в кино или на улицах городка, – стали посмеиваться и увещевать ее. Одна из них, веселая курносая толстушка, говорила, что зря она, Вера, так глупо ведет себя, все равно никто ей за это памятник не поставит, а другая, высокая, худая, с тонкими бледными губами, даже осуждающе сказала Вере однажды, что это же уметь надо: такого видного мужика подцепила, под метр девяносто, а никакой от этого пользы, только другим дорогу перебежала, да и об Андрее Михайловиче она тоже потом неодобрительно высказалась в том смысле, что вообще какой-то не тот мужик нынче пошел, какой-то совсем не предприимчивый, ленивый, все теперь надо за него решать, прямо хоть сама... Тут она произнесла слово, которое очень развеселило толстушку и несколько смутило Веру, ибо во всей ее предыдущей жизни услышать такое от женщины ей не доводилось еще.
Как бывает не в придуманной и кем-то описанной, а именно только в настоящей жизни, когда по необъяснимой случайности происходят самые невероятные совпадения во времени, как совпадение только что подуманного слова и тут же вдруг, в ту же секунду, произнесенного по радио или кем-то рядом, – так в это же самое время в другом санаторном корпусе некто Константин Прокофьевич, живший в одной комнате с Каретниковым, пожилой прихрамывающий человек в просторно-мешковатом старомодном костюме, деликатно отводя глаза и с преувеличенной озабоченностью пристегивая ли протез, старательно ли подравнивая ножничками усы перед зеркалом, уже не впервые громко сообщал, что завтра с утра он на очередную экскурсию едет. Говорилось это исключительно с одной целью: чтобы Андрей Михайлович знал уже заранее, что их комната завтра будет в полном его распоряжении до самого ужина. Или, собираясь вечером на прогулку, Константин Прокофьевич, опять-таки движимый мужской солидарностью, как бы докладывал: иду в кино на такой-то сеанс, буду тогда-то.
Андрей Михайлович лишь неопределенно улыбался в ответ, ни в чем не разубеждая своего соседа. Стыдно было бы признаться, что до сих пор у них с Верой ничего не было, да и теплилась все же надежда: а вдруг ему и в самом деле понадобится эта комната?
Но проходили дни, а все, что она позволяла ему, – это взять ее под руку, если они уходили достаточно далеко от их санатория, или коснуться губами щеки, когда они вечером прощались. Днем же их разлучали, по сути, только лечебные процедуры. Не сговариваясь, они быстро поняли, когда каждому из них нужно выходить из своего корпуса, чтобы встретить друг друга задолго до столовой и чтобы и эти лишние минуты тоже побыть вместе.
Иногда Андрей Михайлович испытывал к Вере такую нежность, что даже озадачивался, не понимая себя. Он уж и не мог вспомнить, бывал ли с кем так терпеливо-ненастойчив, как с Верой. Чуть ли не смиренно он принимал ту мягко и деликатно установленную, но неуклонно поддерживаемую Верой дистанцию, которая не позволяла ему никакой предприимчивости. Странным было и то, что быстрое их сближение проходило как бы стороной от всего, что сближает физически. С удивлением Андрей Михайлович ловил себя на том, что так увлекается самим разговором, одной лишь возможностью общения с ней, что почти забывает о том остальном, что, по курортному отсчету времени, давно бы уже должно было случиться между ними. Так как-то получалось, что и вспоминал-то об этом Андрей Михайлович всякий раз слишком поздно, когда они уже прощались до следующего дня.
Вере в первое время даже приятна была такая его нерешительность – в этом она видела уважение к ней, его понимание, что она не такая, как другие, с кем все можно, но теперь, когда оставалось дней меньше, чем прошло... Она, правда, не знала, как поведет себя с ним в таком случае, но ведь он и не пытался-то по-настоящему быть настойчивым, и это вызывало уже недоумение, а потом стало все больше обижать ее: выходит, он не очень-то и стремится к их близости? Неужели она вообще не вызывает в нем того самого чувства?
А Андрей Михайлович обеспокоенно думал в эти же дни, что, черт знает, может, это уже что-то возрастное в нем?
Он решил присмотреться, как-нибудь проверить себя. Скорее, то было неким холодноватым, аналитическим опытом, а не потребностью, когда он, все же настояв однажды, поцеловал ее так, как считается нужным поцеловать женщину, которая тебе симпатична, и ты знаешь при этом, что и ты ей нравишься.
Было это настолько приятно, как уже и не ожидалось им, и Андрей Михайлович успокоился, что все, значит, с ним в порядке.
– Ну вот... – потерянно сказала она. – Зачем ты?.. Тебе это очень нужно было?
Она вдруг почувствовала, насколько все зыбко в той, предыдущей ее жизни, которую она всегда искренне считала удавшейся и прочной.
– При чем тут – «нужно», «не нужно»?! – с досадой сказал Каретников, не понимая, отчего она, не отстранившись от него, выглядела тем не менее какой-то подавленной, почти что испуганной, будто невесть что случилось. – Мы же с тобой не дети, в конце концов!
Что-то, однако, все же не так было в их отношениях, раздраженно думал Каретников. Не как обычно должно бы быть. Наверное, слишком затянулись их разговоры, и теперь неизвестно, возможно ли это поправить, преодолеть, вернуться в русло нормальных человеческих отношений.
На следующий день Вера решила намеренно опоздать к завтраку, чтобы разминуться с Андреем Михайловичем, но, решив так, тут же заторопилась, почувствовала, как ей срочно необходимо увидеть его улыбку, уже привычный ей жест, с каким он, затрудняясь что-то выразить словами, трет переносицу.
«Но так же нельзя! – укоряла себя Вера и тут же себе возражала: – А так можно, что до отъезда всего десять дней осталось?! И ведь ничего, совершенно ничего больше!»
Как в детстве, чтоб задобрить кого-то неизвестного, кто может помешать и все, если захочет, расстроить, она дала зарок, что даже и поцелуев никаких больше не позволит, только бы вместе быть эти последние дни.
В тот же вечер, потянувшись к Вере уже с ощущением завоеванного им права, Андрей Михайлович возмутился ее неуступчивостью. Это уж смешно и неумно было: что ж, так ему всякий раз и начинать все сначала?! Что это за ханжество, в самом деле?!
Он хотел было продемонстрировать перед ней обиду, но она так просительно, одновременно и ласково и грустно, смотрела на него и выглядела такой виноватой, что он лишь улыбнулся, ни на чем не стал настаивать и снова почувствовал какую-то непонятную нежность к ней.
Их встречи и ежедневные прогулки по вечерам продолжались, Андрей Михайлович, успокаивая себя и пряча от себя же свое разочарование таким времяпровождением, с усмешкой философствовал перед собой, что все-таки лучше даже просто ходить с хорошей женщиной, чем проводить часы как-то иначе – с плохой.
В один из вечеров им встретился Константин Прокофьевич. они вынужденно позвали его пройтись с ними, он, согласившись, пошел рядом, тяжело опираясь на палку, больше слушал, чем говорил сам, а потом, когда, проводив Веру к женскому корпусу, они возвращались к себе, Константин Прокофьевич вдруг сказал:
– Вы вдвоем хоть сами-то замечаете?
– Мы? А что, собственно, замечать? – не понял Каретников.
– Да вы же обрывками фраз разговариваете, какими-то междометиями! – улыбнулся Константин Прокофьевич, с интересом глядя на Каретникова. – Или вы уже много лет знакомы?
– Ну что вы! Недели две. Как с вами. А что?
– И так понимаете друг друга?! – не поверил Константин Прокофьевич. – Вы уж не разыгрывайте старика.
– Да честное слово даю! – рассмеялся Каретников.
– Ну-ну... А как же... а жена? – осторожно спросил Константин Прокофьевич. – У вас же, кажется, двое детей?
Андрей Михайлович снисходительно улыбнулся и, успокаивая разволновавшегося соседа, объяснил ему, что зря тот так серьезно все воспринял. Вера действительно симпатичная, скромная, умная женщина, с ней интересно... Тут ему показалось, что на лице его соседа что-то промелькнуло, какое-то не совсем понравившееся Каретникову выражение мужской понятливости, и Андрей Михайлович повторил с нажимом, чуть даже обижаясь за Веру: да-да, она именно интересный собеседник, и так слушает, как редко кто умеет. Но нельзя же сравнивать: семья есть семья, одно другого не должно касаться, абсолютно ведь разные вещи...
Говоря это своему соседу, Каретников внезапно обнаружил, что, отправив еще в самом начале открытку о том, как здесь устроился, он, оказывается, давно уже не писал домой. Это и впрямь было нехорошо – раньше никакая другая женщина не мешала ему помнить о доме, о семье, и он всегда исправно писал, когда был в отъезде. Завтра же с утра надо написать домой.
– Выходит, ничего серьезного не случилось? – усмехнулся Константин Прокофьевич.
Каретников подумал, что сосед-то его не такой уж простачок, каким ему казался. Пойди вот разбери, как он это сказал: успокоившись за незыблемость чужой семьи или, наоборот, с осуждением каким-то.
– А если б и случилось серьезное, так сразу жену и детей бросать? – спросил с иронией Каретников.
– Ну, зачем так уж... Но как же вот так: взять потом и вычеркнуть? Как вовсе и не было?
– А вы никогда не вычеркивали?
– А у меня... у меня, может, никогда и не было такого! – в сердцах сказал Константин Прокофьевич. – А кому вот подфартит... Э-э, ладно, давайте-ка лучше спать, у меня до завтрака процедуры...
– Да чего «такого» не было? Чего? – добивался Каретников.
– А чтоб понимали так – вот чего! – Константин Прокофьевич отвернулся к стенке, умолк, а когда Андрей Михайлович, устраиваясь на кровати, чтобы вытянуться в полный рост, уже решил, что сосед уснул, тот вдруг сказал не то с горечью, не то даже сердито: – «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».
Каретников улыбнулся в темноте. Все-таки забавный ему сосед попался.
Бывали и совсем уж невероятные, смешные и для них трогательные совпадения. Как-то вечером, прогуливаясь чинно, как муж с женой, на взморье по затвердевшему песку у самой воды, они с Верой увидели кривобокий, полуспущенный цветной детский мяч. Каретников захотел было поддеть его ногой, но в последний миг что-то удержало его, он передумал и, осторожно коснувшись, откатил мяч чуть в сторону, туда, где песок был глубоким, рыхлым, рассыпчатым и где поэтому никто вечерами не ходил, чтобы он не набрался в туфли. Каретников даже задержался на секунду, подумав, что не хочется оставлять этот мяч, такой он был какой-то одинокий здесь.
– Жалко его, – проговорила вдруг Вера и стеснительно улыбнулась. – Давай до завтра заберем его?
Она боялась, что Каретников расхохочется, но он с таким удивлением и такой благодарностью посмотрел на нее, что у Веры слезы выступили: значит, и он тоже об этом подумал?!
Она прижалась щекой к его плечу – рядом с ним она была совсем маленькой, – но тут же, спохватившись, отодвинулась.
– Послушай!.. – притворно ужаснулся он. – Что это ты позволила себе?! Какая вольность!..
Сейчас ей и в самом деле хотелось заплакать – уже от обиды на него: неужели он совсем ничего не понимает?! Неужели не видит, как она хотела бы не отстраняться от него?! Но что же ей делать? Если все это допустить, как она потом сможет без него остаться? Он-то ведь вполне без нее сможет?
– Что с тобой? – ласково и чуть обеспокоенно спросил Каретников, заметив на себе ее грустный, изучающий взгляд.
– Нет, ничего, – улыбнулась она ему и попросила: – Расскажи еще о себе.
Он, кажется, уже давно все рассказал, что можно, и тем не менее всякий раз она просила: «Расскажи о себе». Никто им так не интересовался до сих пор, как она.
Каретников мог бы рассказать ей, что все последние годы – и когда докторскую писал, и особенно когда стал заведовать кафедрой, – почти постоянно жило в нем ощущение, что он еле поспевает. Не так конкретно, что, дескать, то-то и то-то не успел, а что вообще все время на этой грани: что-то словно бы уходит, ускользает от него, а сам он все опаздывает, опаздывает... Нет, пока он вроде успевал все-таки. Пусть иногда как бы в самую последнюю минуту, как на поезд, – а успел, успел, слава богу! Но рассказать ей об этом значило лишь умалить себя в ее глазах, как, впрочем, и в любых других – тоже. Ни одной живой душе он никогда бы не признался в этом своем ощущении, да, может быть, и самому себе толком в этом не признавался. Ну как было объяснить, что дело не в его способностях, совсем не в том, что, мол, не по Сеньке шапка?! Просто дело было в цене, которую приходилось платить, чтобы не опаздывать. Ему ли, таким ли, как он, то есть людям его положения, – всегда надо было от чего-то непременно отказываться. От общения с симпатичным тебе человеком – потому что некогда; от театра или интересной книжки – потому что некогда; даже от приятного иногда ничегонеделания – тоже, потому что некогда.







