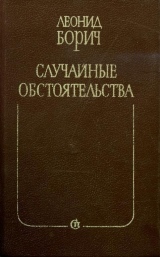
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
«В счастье живут цикады – у всех у них жены безгласны».
А на кухне, домывая посуду после завтрака и уже твердо решив не рассказывать мужу о том, что касалось дочери, Елена Васильевна пожаловалась свекрови:
– Как все-таки с ним трудно! Всегда надо следить: то не так скажешь что-нибудь, то не так поймешь, как ему бы хотелось...
– Андрюша очень тяжело переживает смерть папочки, – заступилась за сына Надежда Викентьевна. – Я-то уж ладно, я свое отжила... – у нее задрожал голос. – Но ему надо себя беречь.
Елена Васильевна понимала, что тут следовало бы возразить, сказать свекрови, что ничего она не отжила и еще что-то в таком же роде, но она промолчала, думая о том, что, хотя Надежда Викентьевна нередко и принимала ее сторону в их ссорах с Андреем, она по-настоящему никогда все же не осуждала своего сына. И вообще, для всех находятся какие-то оправдания своей нервозности, у каждого в их доме всегда есть веские причины быть чем-то недовольным, капризничать, срываться – но только не у нее. Она должна быть в любое время спокойной, уравновешенной, внимательной к остальным, у нее постоянно должно быть хорошее настроение, обо всем она одна должна заботиться, о каждой мелочи...
– Мама, – вспомнила Елена Васильевна, – вы не купили мыла?
– Мыла?.. – Надежда Викентьевна сокрушенно всплеснула руками. – Как же я могла забыть?!
Вот, пожалуйста! Придется еще и успокаивать: ничего, мол, страшного, мне все равно в магазин идти, я и куплю по дороге.
– Где это ты достала такую сумочку? – заинтересовалась Надежда Викентьевна. – Какая прелесть! Я была бы счастлива...
– А я и была... – Елене Васильевне как-то теплее сделалось на сердце оттого, что хоть кто-нибудь заметил и оценил ее удачную покупку. Андрей, например, – тот даже новой ее прически не заметил, которую она специально к его приезду сделала. А все считают, что короткая стрижка ей очень идет и молодит ее. Но что говорить?! Он ведь ничего не видит. Она уже несколько месяцев употребляет французские духи – сумасшедшие же деньги, только для него и позволила себе! – а он лишь вчера обратил внимание, да и то – оказалось, что он не духи эти имеет в виду, а запах ее дезодоранта.
Правда, вчера он был так нетерпелив после санатория и так нежно потом благодарен, что она почти успокоилась: несмотря на то, что он за все время написал ей оттуда только одно письмо, она уверилась, что он не просто по ней, его жене, соскучился, но и вообще по женщине.
Подметая кухню, отмывая поддон газовой плиты, расставляя стулья, как они всегда стояли, Елена Васильевна вполуха слушала, о чем говорила свекровь, и иногда, чтобы показать, что слушает внимательно, она поддакивала Надежде Викентьевне с тем необременяющим сочувствием, когда, и не особенно вникая, о чем тебе говорят, можно поддерживать разговор, думая о своем.
7
Дела, которые свалились на Андрея Михайловича после санатория, тут же привычно были разделены им на важные и неважные, срочные и несрочные, но при этом – совершенно невольно, даже и для себя не вслух, – еще и по другому признаку: на интересные ему, к которым у него лежала душа, и на те, для которых интерес, душа вовсе не имели никакого значения – их просто нужно было делать, и Каретников так и называл их – «нужниками», имея, впрочем, в виду лишь необходимость, нужность какого-либо деяния, а отнюдь не связывая это слово с его прямым, но уже давно устаревшим обозначением отхожего места.
Иван Фомич, его заместитель, и перечислял сейчас именно то, что нужно было сделать, но что все же так и не сделалось в отсутствие Андрея Михайловича, ибо связано это было либо с хозяйственной предприимчивостью, либо с необходимостью идти на прием к ректору.
– Вот и надо было к нему сходить, – сказал с досадой Каретников.
– Мне? – удивился Иван Фомич. Он даже и в мыслях не мог представить себя в кабинете ректора один на один. Кто он? Всего-навсего доцент, а там профессора в очереди дожидаются!
«Ну, ладно, – думал Андрей Михайлович, – со штатами и аспирантским местом – это, допустим, мне легче решить, но линолеум, рабочих!..»
– Вы у проректора по хозчасти были?
– Неоднократно, Андрей Михайлович. По мелочи, с десяток метров, он мог бы еще дать. А так, сколько нам надо – это, говорит, только с разрешения ректора. Если бы... того... из ожогового центра забрать... Там еще год им строиться, а линолеум уже завезли...
Глядя на робкого, маленького Ивана Фомича, Каретников не впервые подумал о том, насколько бы ему было легче в подобного рода делах с энергичным, пробивным Володей Сушенцовым. У них за месяц такое количество больных проходит – и стационарно, и амбулаторно, в порядке консультаций, – что кто-нибудь из них наверняка имел какое-то отношение к стройматериалам. И людьми могли бы помочь, чтоб настелить линолеум... Но Фомич, увы, не из тех, кто способен увязывать лечение больных с их возможностями что-то и для кафедры сделать. Теперь, откладывая более важное, придется самому этим заняться. Как назло, вот-вот комиссия к ним нагрянет, а полы в коридорах черт знает в каком состоянии. И времени совсем не осталось, чтоб какие-то подходы через больных искать. Надо сегодня же к ректору идти. Да, Володя Сушенцов освободил бы от многих забот...
К тридцати годам вполне сложившийся ученый, он недавно, уже при Каретникове, стал доцентом и был пока единственным по-настоящему серьезным, а потому, конечно, и любимым учеником Андрея Михайловича. Именно с ним, а не с Иваном Фомичом предпочитал Каретников делать самые сложные операции, и не с Фомичом, а с Володей он ставил эксперименты на животных, когда требовались особенно тонкая техника, фантазия и некоторая, может быть, дерзость.
Безусловно, Иван Фомич был опытным врачом, старательным и честным исполнителем, его все уважали, недаром много лет он избирался на кафедре парторгом, но человек он все же не пробивной, излишне мягкий и деликатный, чтобы распоряжаться сотрудниками, к тому же и как ученый он неперспективен, возраст почти пенсионный. Вот и заменить бы его Володей Сушенцовым, оставив за Фомичом одно из клинических отделений... Однако всякий раз, коснувшись этой мысли, Каретников так и не додумывал ее до конца. Он и теперь, выслушивая от Ивана Фомича кафедральные новости, легко, как-то даже охотно отвлекся, лишь вскользь посетовав в душе на хозяйственную нерасторопность своего заместителя.
Иван Фомич, смущенно зардевшись, сказал, что Ольга Николаевна, их санитарка, уже неделю как уволилась. Сообщать об этом было неприятно – у них и без того с нянечками плохо, а он не сумел отговорить ее, – но смутился Иван Фомич еще и по той причине, что вынужден был доложить: на нее Сушенцов тут накричал, вот она и уволилась.
Отношения между Иваном Фомичом и Сушенцовым были довольно сложными, Каретников об этом знал, и, чтоб не казаться сейчас в его глазах недостаточно объективным, Иван Фомич, возмущенный тоном, каким Сушенцов разговаривал с нянечкой, все же посчитал нужным добавить, что Владимир Сергеевич замечание ей сделал, конечно, того... правильное. Верное по существу.
– У нее, кажется, есть дома телефон? – хмуро спросил Каретников.
Иван Фомич на память продиктовал номер, а Каретников, записывая его в красивый настольный календарь – подарок одного из больных, – удовлетворенно кивнул: все-таки этого не отнимешь у Ивана Фомича – Володя, к примеру, не снизошел бы до того, чтобы наизусть помнить телефон нянечки.
– Ладно, уладим, – сказал уверенно Каретников. Он собирался как-нибудь потом позвонить, позже, но одерживать даже маленькие победы приятнее на людях, при свидетелях, и, подумав секунду, он решил сделать это, не откладывая.
Ольга Николаевна сразу же узнала его, он понял, что звонку она обрадовалась, и тогда, без всяких околичностей, он спросил тем доброжелательным, но вместе и начальственным баском, который, по его наблюдениям, всегда безотказно действовал на старушек, не утративших еще прежнюю охоту и навык с удовольствием подчиняться:
– Ольга Николаевна, дорогая, а вы подумали, как я без вас обойдусь? Это же безобразие!.. Мы тут как без рук!..
Не перебивая, он с минуту слушал ее обиду, сказал, что она права, а Сушенцов не прав, молодой он еще и глупый. Но я-то на вас никогда голоса не повысил? И Иван Фомич – тоже. Ну, вот видите?! Так когда на работу выйдем? А то и больные уже интересуются. Где, спрашивают, наша Ольга Николаевна?
– Нет-нет, и думать тут нечего! – уже распоряжался он, чувствуя, что Ольга Николаевна теперь лишь для видимости сопротивляется. – Ну, договорились, – чуть уступил он, понимая, что выходить на работу вот так сразу, только-только уволившись перед этим, ей гордость не позволяет. – Значит, через неделю – прямо ко мне. Спасибо вам. Будьте здоровы.
Он увидел, что Иван Фомич молча отдал должное его умению, и весело спросил:
– Что у нас еще на сегодня?
– Через полчаса – собрание, – доложил Иван Фомич.
– Институтское?
– Нет, велено по кафедрам провести. Вот бумага из министерства, по поводу которой собрание. Надо расписаться, что ознакомились. А это... – Иван Фомич положил перед Каретниковым несколько газетных вырезок. – Так сказать, иллюстрации из прессы. Письма, жалобы трудящихся насчет э-э-э... – Он замешкался, подбирая слово поделикатнее, – ...поборов с больных. Я не стал объявление вывешивать. Персонал устно оповещен. Неудобно... того... перед больными.
Каретников бегло просмотрел газетные статьи, из министерского циркуляра понял, что на собраниях медперсонала нужно осудить неизжитые еще кое-где недостатки, расписался на обороте и, вздохнув, посмотрел на своего заместителя.
– Что же я им скажу? Что, дескать, на пол, товарищи, плевать нельзя, некрасиво? Поняли?.. А они что в ответ? Должны заверить меня, что да, мол, поняли? И тоже при этом соблюдать серьезное, значительное лицо, как и ваш покорный слуга?
– Но, Андрей Михайлович... Я это... Ведь если не говорить вслух, то... как будто, значит, ничего такого и нет?
– То есть вы в подобных собраниях видите смысл? Вы допускаете, что тот, кто берет взятки с больных, не понимает без моего разъяснения, что брать нельзя?
– Но... что же делать тогда? – Иван Фомич беспомощно смотрел на Каретникова.
– А то, что велено, – сказал Каретников.
Перед собранием он успел еще и с Володей Сушенцовым поговорить с глазу на глаз. Довольно мягко, почти по-дружески, он сказал ему, что пора бы уже научиться ладить с нянечками и сестрами. Сушенцов, усмехнувшись, ответил, что, во-первых, он не ладить с ними не умеет, а не считает нужным подлаживаться, и потом – он не понимает, отчего так вообще повелось, что надо чуть ли не заискивать перед нянечками и сестрами, и не они должны со мной ладить, а я с ними, – что за крайность такая? почему?
– А потому, – рассердился Каретников, – что и доцента, и профессора сейчас найти легче, чем нянечку. Вот хотя бы почему!
– Но в принципе! В принципе же это неверно? – настаивал Сушенцов.
Глядя на него, Каретников подумал, что никак Сушенцов не вырастет из своих нелепых «хипповых» замашек, ходит вечно патлатый, в допотопном пуловере до колен и с какой-то цепочкой на шее – хорошо хоть без крестика, как отчего-то водится сейчас даже среди мужчин, независимо от веры и безверия. И ко всему, его, видите ли, принципы волнуют. Принципы по отношению к нянечкам!
– Вам именно принцип важен или чтоб было кому в коридорах и туалетах убирать? – вежливо спросил Каретников. – Заметьте, Владимир Сергеевич, про палаты не говорю: там, если вы обратили внимание, уже давно самообслуживание. Как в универсамах.
Спокойно и деловито он объяснил Сушенцову, что чуткость и внимательность к подчиненным, может, и не обязательно должны быть чертой характера, но тем не менее они должны быть. Тут уж как хотите. Даже хоть и на горло собственной песне наступайте.
Спустя полчаса, окидывая взглядом своих сотрудников, Андрей Михайлович озабоченно осведомился у Ивана Фомича, все ли тут, хорошо понимая, впрочем, что хотя и всем полагалось быть – так строго и обязали заведующих кафедрами, – но могли, разумеется, не все: кто-то на постах дежурил в отделениях, кто-нибудь, сменившись с ночного дежурства, попросту не пришел, кто-то наверняка в перевязочной с больным задержался, а сестра-хозяйка как раз в это время получала белье в прачечной.
– Все, – коротко доложил Иван Фомич. Он видел, что не все, конечно (это и сам Андрей Михайлович прекрасно знает), но раз велено быть абсолютно всем, то все, значит, и присутствуют, а обменялись они с Каретниковым вопросом и ответом не для себя и не для тех, кто здесь и тоже видит, кого не хватает, а как бы для кого-то третьего, кого тут вовсе не было да и быть не могло, но именно его, отсутствующего, вроде бы полагалось все же заверить в полном соблюдении некоего порядка.
Когда Андрей Михайлович изложил суть дела, всем поначалу как-то неловко сделалось. Ну, флакончик духов, ну там мужчинам бутылка коньяка. Что ж тут такого? А если ты сама и маникюрше, и за прическу, и когда с таксистом расплачиваешься?..
Выходит, уже и букета цветов нельзя принять от больного?!
А это... букет зимой тоже, знаете... Если весь подсчитать...
Да бросьте, Иван Фомич, что ж благодарность-то на деньги переводить! Человек со всей душой, а мы – подсчитывать?!
А я так скажу: ни мне, ни я – никому. Никому – и все! Иначе порядка не будет.
– Получается, только врач и должен быть бескорыстным! – воскликнула громче остальных Антонина Николаевна, ординатор мужского отделения, высокая, тощая, тех уже лет, когда, как понимал Каретников, и приливы к лицу, и повышенная неуравновешенность – словом, обычный в этом возрасте период, так что и одергивать особенно не хочется, пусть немного выговорится. – А другим как же? – возмущалась она. – Им иначе можно?!
– А остальные должны требовать этого бескорыстия от врачей, – сказал Сушенцов. Он никогда не принимал никаких денег с больных, но смешно же, сделав кому-то из них доброе дело, отказаться от услуги ответной, если тебя могут устроить на станцию техобслуживания без всякой очереди да еще гарантируют любые запчасти. Интересно, какой это чудак откажется от такого?! А что немного подзадорил Антонину Николаевну – так это просто чтоб не скучно было.
Тут же, однако, он поймал на себе короткий, ничего не выражающий взгляд Каретникова, даже сонный какой-то взгляд, но отреагировал-то Андрей Михайлович на его слова столь мгновенно, что еще следовало подумать: может, у шефа совсем и нет этого в планах – излишнего накала страстей?
Андрей Михайлович воспринял, в свой черед, этот молчаливый, одними глазами, вопрос и, не меняя благодушного выражения, ни одной черточкой не дрогнув, сумел непонятно как и вопрос понять, и так же молча Сушенцову ответить: разумеется, страсти нам сейчас ни к чему.
– А разве медицинский работник не такой же человек, как все? – не унималась Антонина Николаевна, подстегнутая словами Сушенцова и задетая тем, что все остальные, кроме нее, теперь отмалчивались. – Мы из другого, что ли, теста?!
– Ну, зачем так?.. – примирительно сказал Иван Фомич. – Это повинность такая наша... того... больных, значит, лечить...
– Что значит – «повинность»? – вскинулась на него Антонина Николаевна, в обиде позабыв о субординации. – Чем это я провинилась, что я врач? Ин-те-рес-но!..
– А это... не надо было тогда идти... – Иван Фомич покраснел и умолк.
– Что «не надо было»? – наступала на него Антонина Николаевна.
– А врачом, извините. Если... того... если непонятно.
– Как?! Как вы можете, Иван Фомич?! Как можно?! – со слезами в голосе обратилась уже ко всем Антонина Николаевна.
– Вы не так поняли, – стараясь успокоить ее, вмешался Каретников. – «Повинность» – не значит «виновный». Она – от слова «обязанность», «долг». Только и всего... Вы ведь именно это хотели сказать?
Иван Фомич лишь растерянно пожал плечами. Наверно, он и это тоже имел в виду, но он и о другом собирался: что вот у нас в клинике стали все чаще занимать койки... Нет, они тоже больные, ничего не скажешь, но когда без всякой очереди, лишь потому, что один то может, другой это... Хотя, конечно, для кафедры многое нужно: линолеум, к примеру, или рабочую силу, или инструменты заказать на заводе, и тот же санузел отремонтировать... Ведь тоже получается, что как бы взятка какая-то? Пусть и не для себя лично, но все равно... Или как?
Он чувствовал, что ему не смелости не хватает, а слов. Если бы жив был Александр Иванович, он... Ну, он!.. Тут уж никому не позавидовали бы. Он и слова бы нашел, и это... орал бы на них на всех, об стол кулаком бы стукнул... Но кто же так может? Ему одному они все разрешали...
Иван Фомич встал со своего места подле Каретникова.
– Разрешите, Андрей Михайлович? Я еще и... того... несколько о другом хотел...
– Ну конечно, конечно! – с облегчением кивнул Каретников, надеясь, что хоть с Антониной Николаевной как будто уладилось и его заместитель обратится теперь к чему-нибудь достаточно отвлеченному, чтобы никого из присутствующих больше не задевать.
– Как же так получается, товарищи? – сказал Иван Фомич. – Нам же всем стыдно должно быть...
Искоса взглянув на него, Каретников внутренне поморщился, но перебивать не стал: неловко было, раз сам же только что дал ему слово.
– Должно быть стыдно, – повторил Иван Фомич, – а мы? Не стыдимся, а еще, наоборот, возмущаемся! И чем?! Что врачу не следует уподобляться... того... Как же так оно получилось, уважаемые коллеги?!
– Я не понимаю! – оскорбилась Антонина Николаевна. – За что нас стыдить? Выходит, только врач и должен! Почему-то только он один всем и должен!
– Вообще надо опровержение! – воскликнула старшая медсестра Рита, женщина тучная и решительная.
– Какое опровержение? – не понял Каретников.
– Ну как же! По поводу этих статей в газетах, – объяснили ему.
Андрей Михайлович опешил. Только этого ему и не хватало: вместо осуждения, вместо некоторой даже самокритики – вся кафедра опровержение напишет!..
– Правильно! – поддержали старшую медсестру несколько голосов. – Что же это получается? Если где-то нашли отдельные случаи, когда взятки берут, так уже и на всех пятно?!
– Опровержение! – дружно потребовали и врачи, и сестры, и нянечки. – Все подпишем!
– Да это... вы что, товарищи? – оторопел Иван Фомич. – Получается, у нас у самих все с этим в порядке?!
– А с чем – «с этим»? – подозрительно спросила Антонина Николаевна.
Убежденные, что уж весь-то коллектив ошибаться не может, сотрудники заволновались, немедленно приняли сторону Антонины Николаевны – ведь предполагаться-то мог каждый из них, – и с молчаливым укором, а то и возмущенно посмотрели на Ивана Фомича, который почему-то вдруг решился посягнуть на их исконное право чувствовать свое общее духовное здоровье.
– Зачем же напраслину на весь коллектив возводить?! Это знаете как называется?!
– Охайное огуливание, – подсказал Сушенцов.
Здесь наступила пауза в страстях: поколебал-таки Владимир Сергеевич ненужное напряжение.
– Как-как? – поощрительно улыбнулся ему Каретников.
Они иногда разыгрывали на людях небольшие спектакли, понятные лишь им одним. Была в этом своя привлекательность – убеждаться, как хорошо угадываешь другого, ощущать определенную близость ваших натур и некое возвышение над остальными, которые не улавливали этой игры и сами не умели так.
– Виноват. Я хотел сказать: огульное охаивание, – поправился Сушенцов под общий смех. Он вопросительно взглянул на Каретникова: можно ли дальше продолжать – уловил тут же, что не только можно, но что его даже просят об этом, заранее уверены, что он сейчас дело скажет или по крайней мере поубавит пафос, обуявший всех остальных с этим опровержением.
– Благодарю, Иван Фомич... – Каретников с подчеркнутой холодноватой учтивостью наклонил голову в знак признательности, давая ему понять, что пора уступить место другому оратору. – Благодарю вас...
Спохватившись, Иван Фомич смущенно сел, а Сушенцов, пробираясь к столу и не зная еще толком, что же, собственно, говорить, чтобы и сказать все-таки что-то, а вместе с тем и никого не задеть при этом, об одном знал совершенно твердо: предпочитал Андрей Михайлович обходить стороной всякие хлопоты, избегал лишних обострений, не хотел без особой, уж самой крайней нужды прибегать к употреблению своей власти, к давлению на сотрудников, не нравилось ему в чьих бы то ни было глазах хотя бы на минуту плохим показаться, а нравилось ему, когда все вокруг его любили и восхищались им, как Александром Ивановичем, покойным их шефом.
– Товарищи! То, что мы обсуждаем сегодня не чисто лечебные вопросы, а наши взаимоотношения с больными – разумеется, не только нашей клиники, а гораздо шире, в масштабах, если хотите, страны... – Он понял по их лицам, что вот так, именно так лучше, когда обо всех сразу. – То, что мы сейчас можем спокойно обсуждать вопросы, так сказать, врачебной этики, в этом, мне думается, есть своя отрадная закономерность. Значит, мы достигли уже такого уровня, когда можем себе позволить не только о хлебе насущном думать, а и...
– А и о пирожных... – сказал Иван Фомич с явной иронией.
Перед этим Каретников, даже не замечая, слегка кивал, удовлетворенно внимая Сушенцову – верный тон был взят Владимиром Сергеевичем, – а тут, после реплики Ивана Фомича, немного нахмурился. Он и сам обычно не особенно жаловал разные парадные слова, но теперь-то именно так и нужно было, чтобы переломить настроение, направить собрание в правильное русло. И совершенно зря Иван Фомич пытается снизить этот пафос. Его строптивость вообще была Каретникову внове. Что это нашло вдруг на него?!
– Я понимаю, что хочет сказать Иван Фомич, – подхватил Сушенцов не только, к удивлению Каретникова, спокойно, но и с нотками согласия в голосе. – Никто не станет спорить: и у нас тоже есть еще неизжитые недостатки. Взять хотя бы этот инцидент с медсестрой Комаровой. Случай, прямо скажем, постыдный и возмутительный. И хорошо, что мы решительно пресекли...
Андрей Михайлович успокоился. Да, вот теперь все соблюдалось в разумных пропорциях: и оптимизм при взгляде на общее состояние дел, и критическая оценка их собственных упущений, и то, что критика эта никого не ссорила, не озлобляла в частности, потому что – что ж Комарова? Нет ее уже. Как только выяснилось, что она за каждую инъекцию, предписанную лечащим врачом, с больных по рублю брала да еще лекарствами подторговывала, он тут же и уволил ее. Можно было, разумеется, и не «по собственному желанию», а по статье трудового законодательства, но это же возни сколько! И сам же еще виноватым окажешься: плохо, скажут, воспитывал. И на всех это отразится. Соревнуйся потом с другими клиниками за первые места!
Всем постепенно делалось спокойнее на душе от слов Сушенцова. По справедливости выходило, что хотя и у них тоже не все еще хорошо, но по сравнению с другими, о ком в газетах писалось, у них было совсем неплохо. И думалось уже о себе и своей клинике как-то теплее, благороднее, даже растроганнее, чем прежде. И тут уже искренне хотелось осудить тех иных, кто принимал от больных подарки, причем не после всего, а как условие, что именно за это им, больным, и соглашались помочь. Как тут сравнивать можно? Огромная же разница морального плана!..
– У меня есть конкретное предложение, – сказал Сушенцов. – Составить перспективный план по искоренению фактов неэтичного отношения к больным.
– Перспективный?! – спросил Иван Фомич. – И это... на сколько же лет?
Каретников рассмеялся вместе со всеми. Действительно, переборщил Владимир Сергеевич. Хотя... План сам по себе, да еще в преддверии комиссии...
– Обдумаем в рабочем порядке, – сказал он. Какой-нибудь план в таком роде, возможно, и не мешало бы сейчас иметь. А пока... – У нас есть художники среди больных?
Ему подсказали несколько фамилий, и Каретников, дав указание повесить на видном месте лозунг: «У нас подарки не принимают», – остался вполне удовлетворен результатами собрания и подумал, как все у него сегодня удачно получалось. Кажется, полоса пошла. Теперь и с ректором, пожалуй, должно было все получиться.
В приемной дожидалось много народу, были здесь и заведующие кафедрами, но Каретников, здороваясь с ними за руку, отвечая о своем здоровье и делах и в свою очередь с той же рассеянной любезностью интересуясь их здоровьем и делами, сесть с ними рядом себе не позволил – тогда бы он немедленно подпадал под общее правило очередности, – а успел за это время подмигнуть молоденькой кокетливой секретарше с длинными ресницами, выразил на своем лице молчаливое мужское восхищение ее симпатичным скуластым личиком, стройностью фигурки, даже кофточкой, и с видом заговорщика – дескать, тайна только нам двоим понятна – неприметно кивнул в сторону ректорского кабинета: сообрази как-нибудь, милая, чтоб я туда раньше других попал.
Андрей Михайлович ей нравился: высокий,спортивного типа, с чуть заметной сединой, которая лишь молодила его, с волевыми, прямо киношными морщинами в углах крепкого рта, он, в отличие от других посетителей, даже профессоров, которые немного заискивали перед ней – к этому она уже попривыкла, – вел себя с ней не только как бы на равных, но и с той необидной долей уверенности, будто не он просит ее об услуге, а, наоборот, ей разрешает оказать ему эту услугу. Он и перед ректором всегда с достоинством держался, не то что некоторые, а главное, по отношению к ней он вел себя так естественно, что она воспринимала это не как что-то вынужденное в его положении посетителя, а как проявление его симпатии к ней – как просто уже к взрослой женщине.
Понятливо улыбнувшись ему, она в ответ чуть кивнула, ушла к ректору, тут же вернулась и с мягким упреком, словно от имени ректора выговаривая за опоздание, сказала:
– Андрей Михайлович, вас давно ждут!..
Как все-таки от секретарш много зависит, с усмешкой подумал Каретников, переступая порог кабинета. В чем-то, может быть, даже судьбы самой науки.
Худой, белесый и тонкогубый, как будто почти безвозрастный – ему и лет тридцать пять можно было дать, и все пятьдесят, – ректор поднялся навстречу. Казалось, что он, здороваясь, всегда поначалу цепко и испытующе вглядывается в собеседника – а не затеял ли тот что-нибудь такое в медицине или, по крайней мере, у себя на кафедре, за что отвечать потом ему, ректору, придется? – и поэтому Андрей Михайлович улыбнулся еще с порога добродушно и успокаивающе. Мол, сам посуди: это я-то – сибарит, гурман ленивый – крамолу затею?! Да и какая может быть крамола в челюстно-лицевой хирургии, какое вольномыслие? Мы только режем помаленьку, и все. И с обязательствами у нас в порядке, и с планами – комиссия останется довольна, не подведем.
Что-то всегда подкупало ректора в Андрее Михайловиче. Конечно, и открытая улыбка, и то спокойствие, с каким он держался... Но, может быть, прежде всего – надежность? Уверенность, что он никогда не выкинет никакого коленца, не то что его покойный шеф? Приятно все же работать с таким человеком, потому что, если оба вы логичны в своих поступках и трезво смотрите на жизнь, насколько тогда легко все предусмотреть в таком же, как ты.
Они поздоровались, ректор за письменный стол не вернулся, сел напротив Каретникова – жест явного благорасположения, – и, как подобает воспитанному человеку, не забыл поинтересоваться, как Андрей Михайлович подлечился, как чувствует себя после санатория.
Каретников воспринял этот вопрос не менее интеллигентно: не только поблагодарил, показывая ректору, что ценит его внимание, но и ограничился коротким «нормально», то есть по существу отвечать не стал, ибо подобного рода вопросы не следовало, упаси бог, принимать слишком буквально, чтобы ответить на них хоть как-то поподробнее.
Иногда, замечая вдруг, как вообще многие вопросы, которые мы задаем или которые от кого-то выслушиваем, вовсе не нуждаются в каком-либо ответе и заведомо не предполагают его, Каретников с усмешкой думал, что – черт его знает! – в том и своеобразная, видимо, интеллигентность нашего века, чтобы не обижаться на чужое к тебе невнимание, а понимать, что иному уже и не быть, наверно, и не из-за какой-то особенной нашей черствости, а просто потому, что нет времени. Не только на других его нет, но и на самого себя не хватает.
Правда, теперь вот, еще неделю назад, была Вера – с ее искренним интересом, с постоянным «расскажи о себе», с удивительной памятью на других людей, на чужую жизнь, – но что ж Вера? Такое никогда ничего не доказывает, потому что оно, к сожалению, вне общего – незначимая, как говорится, статистика...
Когда все внешние знаки взаимного интереса были соблюдены, они, довольные друг другом, перешли к тому, что каждого из них уже на самом деле интересовало: Андрея Михайловича – как бы так сделать, чтоб выпросить чужой линолеум и рабочую силу, а ректора – готова ли кафедра к проверке высокопоставленной комиссией. Тут, однако, счастливо для Каретникова переплелись оба эти вопроса, так как нельзя же было водить гостей по истершемуся линолеуму с задранными краями, и Андрей Михайлович надеялся «под комиссию» не только получить все, что требовалось, но сразу и рабочих взять с ожогового центра.
– Да вы что?! – воскликнул на это ректор и показал телеграмму, в которой требовали максимально ускорить строительство. – Как раз сегодня пришла. А я после этого – рабочих снимать оттуда?!
– А вы пока просто не получили ее, – подсказал Каретников. – Не получили телеграммы.
Ректор, обдумывая это предложение и возможность последствий, вдруг рассмеялся и поведал, к случаю, свежий, по его мнению, анекдот насчет телеграммы.
Анекдот-то, положим, был с бородой, Каретникову захотелось на эту же тему другой рассказать, уж действительно, как он полагал, самый свежий, но он мудро поостерегся: а что, если его анекдот посмешнее окажется ? зачем человеку настроение портить?
В интересах дела лучше было не выказывать своего остроумия, и, памятуя о том, что людей в гораздо большей степени удовлетворяет и радует не чужой, а их собственный юмор, Андрей Михайлович охотно рассмеялся анекдоту ректора, и смеялся он чуть дольше и чуть заразительнее, чем хотелось.
В конце концов они решили все вопросы, и, торопясь на хирургическое общество, Андрей Михайлович обдумывал по дороге свое выступление. В отличие от обычных лекций перед студентами, здесь неуместны были какие-нибудь завлекательные приемы. Только строгая убедительность фактов, сдержанность в их оценке, даже некоторая сухость изложения. Однако при всем этом следовало и как-то так изловчиться, чтобы сразу увлечь: лишь заинтересовав, можно было потом убедить.
В аудитории, где проводило свои заседания научное общество хирургов города, скамьи шли кругом, все возвышаясь и возвышаясь по мере удаления от стола президиума. По ритуалу, нигде как будто не оговоренному, но испокон веков – или веку? – строго соблюдаемому, профессора располагались в первом ряду. За ними места занимали доценты, кандидаты наук, чуть повыше рассаживались хотя и не остепененные, но тоже достаточно опытные специалисты, заведующие отделениями больниц и поликлиник, а уж в последних рядах, почти под потолком, теснились совсем юные их коллеги, пока безвестные. Когда-то, постепенно спускаясь к первым рядом – так шла жизнь, – Андрей Михайлович с усмешкой думал о том, что, соблюдая этот ритуал, люди, вполне возможно, стихийно руководствуются даже и определенными воспитательными соображениями: сверху, из последних рядов, лучше видна цель, к которой нужно стремиться, – самый первый ряд. И пусть нередко шутят с присущей медикам легкостью в разговорах по поводу смерти – правда, лишь чужой смерти, – что после первого ряда продвигаться уже некуда, разве только ногами вперед, все же стремление занять этот ряд прослеживается с убедительной достоверностью, как, впрочем, и то, что ближе к первым рядам шутят по этому поводу все реже. Да и предмет ли это, чтоб вообще замечать?







