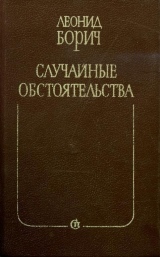
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц)
10
Чтобы Вера вообще не написала ему – этого не могло быть, и Каретников стал заходить на почту чуть ли не каждый день.
Между ним и пожилой женщиной, что сидела в окошке «До востребования», очень скоро установились своего рода отношения молчаливой взаимной симпатии. Она не только сразу же узнавала его, но уже и фамилию помнила, и имя-отчество. Они приветливо здоровались – в большом городе это уж само по себе приятно, когда можешь поздороваться с чужим тебе человеком, – и очень старательно, медленнее, чем раньше, она перебирала письма в ящичке с его буквой, показывая теперь всем своим заинтересованным видом, как ей хочется помочь ему. С сочувствием глядя на него, она отрицательно качала головой, а Каретников с подчеркнутой признательностью благодарил, как будто само желание этой женщины помочь было для него не менее приятно и важно, чем то письмо, за которым он уже столько дней заходил.
Но ему и в самом деле ничего для себя не нужно было в этом письме, ничего важного оно вообще не могло содержать. Просто задевало, что ему, похоже, и не думают написать. Какой же тогда был смысл в том, что Вера сама просила зайти за ее письмом? Зачем-то, выходит, ей это нужно было?!
Окунувшись по приезде из санатория в многочисленные свои дела и обязанности, Каретников и раньше вспоминал Веру, но лишь в тех случаях, когда мать, а особенно жена не понимали его или он их не понимал. При этом Андрею Михайловичу не столько сама Вера вспоминалась, сколько тогдашнее свое ощущение, что ведь бывает же, когда и тебя с полуслова понимают, и ты понимаешь другого. Теперь же, заходя на почту почти ежедневно – это было ему по дороге, – он стал думать о Вере не в связи с кем-то или чем-то другим, а просто о Вере, обнаружив, что его все-таки до сих пор что-то трогало в ней.
Чаще всего вспоминалось ее лицо, когда они прощались, ее тоска в глазах, потерянная, вздрагивающая улыбка, – искреннее, как ему и сейчас казалось, неподдельное чувство. Да и ради чего ей было притворяться?
Вспоминал, как ему хотелось, чтобы побыстрее тронулся автобус, потому что, глядя на нее, он чувствовал, как поднимается в нем ощущение какой-то вины, хотя ни в чем как будто он не был виноват перед ней, да она ни в чем и не упрекала его. Если тут вообще была чья-то вина, то разве самой этой жизни, той ее несообразности, что людям, которым так хорошо было ежедневно встречаться и разговаривать, просто разговаривать, и которые с одного лишь взгляда понимали друг друга, – отчего-то именно этим людям неизбежно приходится расставаться, чтобы каждому из них вернуться к другому человеку – мужу или жене, – который и вполовину, и в десятую долю не понимает тебя так и которого ты тоже не понимаешь.
Теперь, на расстоянии, его уже озадачивало, что он обычно, если отношения с женщиной подходили к концу, расставался с ней просто, испытывал даже облегчение, а тогда, в автобусе, не было этого облегчения, – сейчас он это точно знал.
Самым же странным было то, что особенно часто он вспоминал о ней не в обезличенные, проходные свои дни, а когда ему бывало плохо или, наоборот, очень хорошо, будто только она одна и могла по-настоящему понять и его плохое, и радостное.
Однако, когда в очередной раз оказывалось, что письма ему по-прежнему нет, он думал, что вот как он прав был тогда, в санатории, не изменив своему правилу в отношениях с Верой. Как это все же разумно – не допускать близко к сердцу, чтобы не в чем было потом разочаровываться.
Тут, правда, он хитрил перед собой. Что все-таки задевало его, с чем не мирилась душа Андрея Михайловича и из-за чего он продолжал заходить на почту, уже мало надеясь, – это то, что, поверив глубине и искренности чужого чувства, не мог он допустить, не хотел допускать, что подобное можно так легко и скоро вычеркнуть, просто-напросто забыть в две-три недели. В конце концов, дело было не в чувстве именно к нему, Каретникову, а в ТАКОМ чувстве вообще, которое признавалось им вполне охотно, тем более это ведь не требовало с его-то стороны никаких душевных трат и усилий, кроме понимания, что – что ж? – видимо, и такое иногда случается с кем-то на какое-то время. И хорошо, очень хорошо, что случается.
Но чтобы настолько быстро оно проходило, ТАКОЕ чувство, – это было слишком неприемлемо для него. Он, Каретников, мог сам ни разу не испытать подобного – как он полагал, К СЧАСТЬЮ не испытать, ибо это не только радостно должно быть, а и чересчур хлопотно и, увы, почти всегда по-своему драматично, – но ему, пусть с некоторой снисходительной усмешкой современного прагматичного человека, все же нужно было верить, что ТАКОЕ чувство существует в принципе и, значит, может случаться. Так ему было уютнее на этом свете.
Женщина на почте, свидетельница его неудачливости, уже чуть не с соболезнованием успокаивала его:
– Ничего, вам пишут, пишут. Заходите..
– Да, конечно... – одаривал ее Каретников той обаятельной улыбкой, с какою он всегда, сам этого не замечая, разговаривал с женщинами любого возраста, если они были ему симпатичны, а вернее – если чувствовал, что он им симпатичен.
Самолюбие его страдало, и назавтра он зашел на почту, уже твердо зная, что это в последний раз. Из окошка на Андрея Михайловича смотрела незнакомая длинноносая девушка с низкой, до самых бровей челкой над злыми маленькими глазками. Он вспомнил, что надо предъявить свой паспорт, раз той женщины почему-то не было сегодня.
Он так доброжелательно и спокойно улыбнулся ей, что в ее некрасивом насупленном лице что-то вдруг совершенно непроизвольно смягчилось, будто чуть оттаяло, а еще спустя мгновение, когда девушка возвращала ему паспорт, Каретников, снова встретившись с ней взглядом, точно уловил некий отклик.
Он знал за собой это почти безошибочное чутье угадывать чью-то к нему приязнь, ему это часто помогало в общении и с коллегами, и с начальством, и с женщинами, и даже в устройстве в столичных гостиницах, несмотря на табличку «Мест нет». Но и тогда, когда ощущение, что он кому-то нравится, ни в чем не сулило ему выгод, оно все равно было не только приятно, но и необходимо ему, потому что придавало уверенность и вообще в своей удачливости, и, главное, в каком-то немедленном сиюминутном везении, которое вот-вот последует. Если же удача и не приходила тут же, сейчас, то он все равно был уже на нее настроен, и тогда даже неудача, если почему-либо она вдруг случалась вопреки всем его ожиданиям, воспринималась Каретниковым не так болезненно.
Конечно, от того, что девушка в окошке была теперь к нему расположена, никак не зависело, получит ли он сегодня письмо, но уже то, что он так легко преодолел ее неприязнь, было само по себе добрым знаком и придало ему уверенность именно в сегодняшнем везении.
– Нету Каретникову, – огорошила его девица с челкой.
– Нет? – машинально переспросил он. – Спасибо...
Он все же улыбнулся ей напоследок, но, видимо, улыбке его уже не хватало той конкретной предназначенности и теплоты, которые были раньше, и, сразу же чутко уловив это изменение и свою теперь ненужность ему, девушка посмотрела на Каретникова не только с разочарованием, но и с прежней неприязнью.
«Как будто я в чем-то обманул ее», – обиделся Каретников, отходя от окошка.
Пережив досаду, что предчувствия, выходит,, подвели его, можно было теперь зато и порадоваться, что он наконец свободен, что заглядывать сюда больше не надо, что он сделал все от него зависящее, чтобы получить письмо, и что он избавился от этого унижающего чувства, когда получалось, что он нуждается в ком-то, больше, чем нуждаются в нем... Вот только ни радости, ни хотя бы облегчения все равно не было.
Не зная, куда деть себя, он прошел к скверику напротив собора, там полно было незанятых скамеек с налипшими на них желтыми и оранжевыми листочками от кустарника и одиноких деревцев, как и подобает осеннему городскому пейзажу в центре города. От вчерашнего дождя скамейки уже просохли, можно было сесть на одну из них, покурить спокойно.
Снова вспомнив неприязненный взгляд, брошенный ему напоследок, Каретников со слабой надеждой подумал, что, кажется, эта девица в окошке слишком быстро и невнимательно просматривала письма. Может, будь вместо нее та пожилая женщина, он сейчас бы уже читал письмо...
А почерк был бы совершенно незнакомым, и в этом Андреем Михайловичем ощутилась некая смешная странность: уж как будто знал Веру так близко, что ближе-то и некуда, а вот ведь даже почерка ее он не знает.
То, что могло быть в письме, он, в общем, представлял себе: как помнят о нем, как к нему относятся (а могли только хорошо относиться)... «Но вот штука-то какая... – Андрей Михайлович усмехнулся. – Письма ведь нет... И значит, неважно, как там к тебе относятся, раз нет письма».
Непонятное беспокойство томило его, словно бы он потерял что-то. «Паспорт! – толкнулась мысль. – Я там, у окошка, свой паспорт... Или где-то по дороге обронил...»
Он торопливо полез по карманам, и движения его рук, пока он рылся, отыскивая паспорт, стали вдруг суетливыми и беспорядочными, как бывает, когда спохватываешься внезапно, начинаешь что-то искать, боясь, не потерял ли, и, пугаясь еще больше оттого, что не с первой же секунды обнаружил пропажу, бестолково и лихорадочно ощупываешь подряд все карманы, не доводя ни одно из своих движений до какого-нибудь завершения.
Паспорт нашелся там, где и должен был лежать, во внутреннем левом кармане пиджака, – непонятно, как он сразу не нашелся, и Вера была повинна и в этом его переполохе. Он рад был вновь проснувшейся обиде на нее: так ему было легче.
«А что, собственно, произошло такого?!» – на самого себя прикрикнул Андрей Михайлович, но тут же, однако, подумал,что если б он знал ее адрес... Почему он не спросил адреса?
Ну, так это понятно почему: она же должна была первой написать, и там, на ее конверте или внутри... Пожалуй, он бы и сам, не дождавшись, написал ей сейчас. Такое какое-нибудь вежливое, очень вежливое и холодное письмо. А лучше – спокойно-насмешливое. Вообще какое-то никакое, легкое, интеллигентное... «Здравствуйте, Вера...»
Это «вы» после той близости – хорошо, очень хорошо. Когда-то в старину, может, и норма, теперь оно бы прозвучало как усмешка, как что-то обидное... Нет, все же не так, не Вера, а... «Здравствуйте, Верочка. Обещанного Вами письма, конечно, не получил. Говорю: «конечно», ибо понимаю... ибо всегда понимал, что дружба и любовь все-таки требуют, увы, постоянного присутствия. Разумеется, я поэтому нисколько не обижен на Вас, просто так устроено, что не жизнь сгибается по человеку, а человек...»
Каретников поморщился, обнаружив, что обе последние фразы – и о постоянном присутствии, и о человеке, который сгибается по жизни, – были совсем не его, и что, оказывается, он не умеет сочинять подобные письма. Деловые – да, а эти, такие... Он никогда вроде бы и не писал их, разве что в первые студенческие годы, но с тех пор столько лет прошло...
Как-то само собой так допустилось, и он не сопротивлялся возникшей вдруг в нем фантазии, что вот, мол, прошло уже много лет, как они с Верой. Нет-нет, он вовсе не оставил свою семью, детей – этого и в мыслях не возникало, – а так у них сложилось с Верой, что они постоянно, пусть и редко, а все же видятся. Он ли к ней в Москву приезжает на несколько дней, она ли к нему, или – совсем уж спокойно и хорошо – они, заранее сговорившись в письмах, в одно время съезжаются в тот же, например, санаторий, где когда-то познакомились лет десять, даже двадцать назад.
Однако... Двадцать лет?... Он не подумал, сколько же тогда будет ему, но ей... Нет, так не годилось. А просто нужно было, не считая года́, так себе представить – в безвременье, вообще, – что она по-прежнему необходима ему, так же как... ну да, как сейчас, в эти минуты. Да и вовсе не в том дело, где им встречаться раз в году, чтоб непременно наедине, а в том, чтобы просто была возможность видеться с ней, разговаривать, пусть хоть на людях, при всех, в этом вот сквере. Ведь все равно – как было бы приятно, радостно... Тут, однако, он заходил в тупик от невозможности сказать об этом какими-то иными словами, потому что и «приятно», и «радостно» хотя и было правильным, но слова эти оказывались явно недостаточными, они не только не исчерпывали, но даже не передавали в какой-нибудь сносной мере ни остроты, ни полноты его ощущений, стоило лишь представить себе такую встречу. И еще озадачило и даже встревожило Андрея Михайловича, что ему как бы именно ежедневность была необходима: не от случая к случаю, а как-то так, чтоб всегда. Нет, это было уже чересчур, слишком, это просто невозможно было, и Андрей Михайлович, взглянув на часы, торопливо вернулся к себе сегодняшнему, где ему и так хватало забот, без всяких фантазий.
«А все же... все же приятно иногда вот так...» – усмехнулся Каретников, поднимаясь со скамейки, и теперь ему вполне хватило одного этого слова – «приятно».
Домой он вернулся раньше обычного. В прихожей было темно, в квартире тихо. Андрей Михайлович удовлетворенно подумал, что случилась та самая редкость, когда никого, кажется, нет дома: Лена, видимо, ушла за Витькой в детсад, дочь еще не вернулась из института, и мать тоже куда-то ушла.
Он наткнулся в темноте на ведро, оно загремело и заплескалось, сразу послышался из второй, дальней прихожей встревоженный голос матери: «Кто там? Кто там?» – и раздались грузные поспешные ее шаги. Сколько он помнил мать, она всегда так тяжело ступала, даже когда была молодой и худощавой.
– Я там, – неохотно откликнулся Каретников и покосился в сторону кухни: что-то подгорело у них, что ли?
– Кто-кто? – не узнавая, переспросила Надежда Викентьевна. – Почему у нас темно в прихожей?
Поразительно, но мама почти никогда не узнавала по телефону их голоса – ни его, ни отца. Правда, голоса их действительно были до того схожи, что и Лена их часто путала, но она-то хоть между ними путала, а мама просто не узнавала их.
– Да я это, я! Твой сын, – сказал Каретников с некоторым раздражением. – А темно, вероятно, потому, что выключен свет. – Он щелкнул выключателем. – Что это за ведро здесь?
– Ах, это ты, Андрюша! Что-то ты сегодня совсем рано. Ты неважно себя чувствуешь? Нет? – Она отставила ведро в сторону. – А у нас тут самый разгар...
Про то, как он себя чувствует, Каретников и не подумал ответить – не вопрос это был, а так, возглас среди всех прочих восклицаний, он давно привык к этому и редко когда замечал, – а вот что у них самый разгар уборки, он уже понял: из комнат послышалось завывание пылесоса – это Лена там убирала. А мама перед его приходом отмывала, должно быть, газовую плиту. Сколько он заставал ее за домашними делами, она почему-то всегда возилась на кухне с этой плитой. Она, наверно, и о ведре в прихожей забыла, занявшись плитой, а потом вспомнила о чем-то, что надо было еще где-то сделать, и о плите тоже забыла.
Обходя совок с метелкой и неубранный мусор, Каретников пробормотал:
– Как мы все сразу-то убираем... Даже не пройти.
Надежда Викентьевна засуетилась, начала подметать, ему стало вдруг совестно от выговаривающего своего тона и он, чтобы как-то сгладить это и показать матери, что винит совсем не ее, а жену, позвал недовольно:
– Лена!.. Лена!.. Ты бы уж здесь сначала убрала!
– Я что, сама не подмету? – обиделась Надежда Викентьевна. – Я целый день здесь убираюсь, с утра еще не присела...
Глядя сверху на согнутую спину Надежды Викентьевны, Каретников уловил впервые что-то старческое в ней, некоторую осторожность и неточность в движениях, подрагивание головы, которого он раньше не замечал, и ему остро стало жаль маму. Он наклонился и молча поцеловал ее в затылок, чувствуя неуместность своего недовольства, а она распрямилась, держась за поясницу, с благодарностью посмотрела на него и, словно оправдываясь, сказала:
– Мы же не думали, что ты так рано придешь.
Повязанная косынкой, вышла в прихожую Елена Васильевна в голубом халатике и с голубой маской на лице, так что выделялись только глаза и рот. Как ни странно, жена ему понравилась такой – лицо ее казалось не совсем знакомым, немного холодным и загадочным.
Вполне миролюбиво он заметил:
– Что-то у вас подгорело на кухне. Форточку бы открыли.
Он, пожалуй, не обратил бы внимания на ответ, но когда Елена Васильевна, опаздывая в детсад за сыном и поспешно собираясь, возразила, что ему это просто кажется, он с недоумением посмотрел на нее: значит, никакого запаха и в помине нет?
– Тебе вечно что-нибудь не так! – нервно проговорила Елена Васильевна. Наскоро отмыв крем с лица, она никак не могла найти пудреницу. – Уж, казалось бы, все ему приготовлено, все вовремя...
– Что вовремя? – насупившись, спросил Каретников. – Вот это? Или это? – Он указал на ведро, совок, мусор, о которых Надежда Викентьевна, занявшись чем-то в своей комнате, снова забыла.
– Хотелось бы знать! – Елена Васильевна неосторожно просыпала пудру на столике перед зеркалом. – Почему ты сегодня в плохом настроении?!
– Я в аб-со-лют-но нормальном настроении.
– Но я же прекрасно вижу!
– Что ты прекрасно видишь? – повысил голос Андрей Михайлович.
– Что ты пришел в плохом настроении. Так не надо его на мне срывать!
Каретников вдруг забыл, из-за чего, собственно, все началось, и потому молчал.
– Подумаешь, мясо немного подгорело! Если б не это, ты бы все равно к чему-нибудь другому придрался!
Ага, вспомнил он, вот же в чем дело! Сказала бы сразу, что действительно что-то подгорело – и все-то дела!
– А я, дура, стараюсь, стараюсь...
В ее тоне было теперь столько горечи, а не злости, что на какое-то мгновение Каретникову стало немного не по себе. Он посмотрел на жену, отыскивая и в ней желание помириться, но она, так ни разу больше и не взглянув на него, ушла за Витькой, а напоследок, как ему показалось, еще и дверью как будто хлопнула. Тогда он почувствовал, что ни в чем не виноват перед ней и, успокоенный этим, пошел к себе в кабинет, включил отцовскую настольную лампу, придвинул неоконченную статью, перечитал дважды абзац, на котором остановился накануне, решительно перечеркнул его, сосредоточенно стал подыскивать иную формулировку, но тут к нему мать заглянула:
– Извини, Андрюшенька, я мешаю тебе... Ты бы не мог оторваться на минуту? Нужно с антресолей банку варенья достать...
Пожалуй, в другой раз Андрей Михайлович проявил бы вслух свое недовольство, но он уже и так выговорил ей перед тем насчет ведра, а потом еще и эта ссора с Леной... Молча он вышел на кухню, подставил табуретку, открыл дверцы антресолей. Он уже так давно не заглядывал сюда, что как бы внове увидел сейчас сотни писем, которые аккуратными стопками, как в библиотечных каталожных ящичках, стояли в длинных картонных узких коробках. Где-то за ними, верно, и были банки с вареньем.
– Тут же все вытаскивать придется! – с досадой сказал Каретников.
– Я хочу как-нибудь вообще пересмотреть все, – согласилась Надежда Викентьевна. – Все папочкины бумаги. – Голос ее дрогнул. – И что не нужно...
Под его взглядом она умолкла, но, когда он снова повернулся к антресолям, все же закончила свою мысль:
– Надо это куда-то переставить. Чтоб варенье впереди стояло. А то каждый раз доставать...
– Но не ты же достаешь? – сухо напомнил ей Каретников, передавая коробки с письмами. – Поставь пока где-нибудь рядом...
– Какая разница? Не я, так Лена. И все время приходится мучиться... Кошмар, сколько на них пыли! Папочка никогда не разрешал к ним даже притронуться. Я их хотя бы оботру сейчас...
– Не надо, я сам, – остановил ее Каретников. – Я перенесу их в кабинет... Эта банка?
– А зачем к тебе? Дышать пылью... Нет, это вишня. А там должна быть смородина. В такой высокой банке...
В дальнем углу он, кажется, уже заприметил эту банку, но, чтобы добраться до нее, надо было сначала передать матери еще и стопку толстых тетрадей. Принимая их, она объясняла, что это конспекты, отец всегда любил разные выписки делать, у него даже были заведены отдельные тетради: «Из Толстого», «Из Достоевского», «Из Чехова»...
Каретников и сам об этом знал, но он не перебивал Надежду Викентьевну. Ему было приятно, что мама была в курсе отцовских дел.
На той дальней высокой банке со смородиновым вареньем лежала еще какая-то тетрадь в коленкоровом переплете, Андрей Михайлович передал ее матери вместе с банкой варенья, потом, сойдя с табуретки, обтер пыль с коробок с письмами, с тетрадей и, несмотря на увещевания матери, с непонятным ему же самому упрямством стал переносить все это в свой кабинет.
Он знал, конечно, и раньше, что с отцом многие из его бывших учеников переписываются годами, но, впервые увидев эти письма, собранные вместе, он укоризненно подумал, что одни лишь ответы на них должны были отнимать у отца уйму времени.
Перед тем как решать, куда же теперь поместить эти сотни чужих писем, Андрей Михайлович стал их мельком просматривать, а некоторые даже и до конца дочитывал. Были среди них и умные, и глуповатые, и наивные – «выходить ли за него?», «правильно ли я поступила?», и даже «оставить ли мне ребенка после всего, что случилось?» – были и не в меру восторженные, сентиментальные, как почти всякое воспоминание о прошедшем детстве – строчки милые и трогательные, чаще от бывших учениц.
Сотни писем – значит, и сотни ответов... То была огромная и неблагодарная работа одного человека – именно одного! – потому что те, кто писали ему, пусть и часто, все-таки говорили лишь о себе, а он-то ведь должен был отвечать каждому, отвечать по отдельности, говоря с ними не о себе, а о них, вникая в чьи-то житейские подробности, сомнения, неприятности не формально, а всего себя выкладывая на это.
Андрей Михайлович испытывал, разумеется, и гордость – вон, оказывается, скольким людям его отец был нужен! – но никак он не мог отрешиться от мысли, что время, потраченное на других людей, складывалось в целую жизнь, когда можно было и статьи написать, и диссертацию успеть... Для чего? Да чтоб не получать потом вот это письмо, где, может, и помимо воли автора, прочитывалось, что я уже того-то и того-то достиг, впереди еще то-то и то-то, а судьба, мол, учителя – он-де понимает и сочувствует Михаилу Антоновичу! – все же обидная, несправедливая судьба: сегодня ты школьный учитель, и завтра, и всегда, а вокруг тебя растут, продвигаются...
По существу Андрей Михайлович соглашался с этим, но все равно было неприятно читать такое – за отца неприятно, – и Каретников подумал: неужели он и на эти вот тупые, самодовольные письма тоже отвечал?!
Письма стояли в ящичках по алфавиту и по датам, и легко было, взяв следующий конверт с тем же обратным адресом, тут же убедиться, что, как ни странно, отец, видимо, и на такие письма отвечал. Интересно бы знать что...
Каретников спохватился, что так нельзя, он так и за неделю не управится, если все подряд читать, но спустя какое-то время он снова невольно задерживался на каком-нибудь письме подольше, удивлялся, как все-таки могут столь откровенно делиться с посторонним, в сущности, человеком своими семейными неурядицами, или растроганно читал в другом письме:
«Я не знала никого другого, кто обладал бы большей силой нравственного воздействия на нас и кто сумел бы привить любовь к русской литературе почти всем ученикам...»
Еще в каком-то письме ему попалась на глаза строчка, что немногие учителя могут сказать, что они остались друзьями и советчиками своих бывших воспитанников, а он, Михаил Антонович, остался...
«Каждому из нас, независимо от степени одаренности, вы помогли проявить и найти себя...»
«Ваша доброта и улыбка...»
Кто-то даже с чеховской деликатностью сравнивал...
«Вы владеете даром истинного оратора...»
«Оратора?! – удивился Андрей Михайлович. Но отец... он не то что оратором не был – он и слова подбирал подолгу, а иногда, сильно разволновавшись, даже чуть заикался.
Другая строчка, из следующего письма, насторожила его:
«Вы, наверно, очень счастливый человек! А как же иначе?!»
Где-то он уже слышал подобное предположение. От кого?.. Да-да, конечно, Вера. Она что-то так и сказала, почти, кажется, дословно. Или так: «Иначе это было бы слишком несправедливо».
Как будто оттого, что несправедливо, этого уже и быть не может... А справедливо, что ему-то за всю жизнь, может, одно-единственное письмо и понадобилось – от Веры, – так и его не собрались написать?! Выходит, не нужен...
Ну, хорошо – а что ж теперь делать со всеми этими письмами? Конечно, тоже какая-то память об отце, но если бы это были его собственные письма, а так... Куда их?
Он услышал шаги в коридоре, узнал, что это Лена, и, прислушиваясь, лишь опасался, что она не к нему идет, а в комнату рядом. Ему необходимо было сейчас ощущение, что ничего подобного: кому-то вот и он нужен...
– Андрей, иди ужинать, – сказала Елена Васильевна, остановившись в дверях, но, как отметил Андрей Михайлович, и не уходя после того, как позвала. С ее стороны это был, скорее всего, уже как бы знак примирения.
– Иду-иду, – с несвойственной ему готовностью откликнулся он.
Елена Васильевна укоризненно посмотрела на него, когда он, поравнявшись, пошел рядом, и Каретников добродушно усмехнулся ей:
– Ну и дурочка, ей-богу...
– А ты?! – уступчиво сказала она.
Тогда он ласково приобнял ее за плечи, и так они и вошли на кухню, являя собой образцово-дружную семейную пару.
– Вот это любовь! – сказала дочь с некоторой иронией, но смотрела на родителей поощрительно: ей нравилось видеть их такими – спокойными, в полном согласии.
– Ты уж молчи! – сказала ей Елена Васильевна каким-то непонятным Каретникову тоном, словно попрекала в чем-то их дочь. И странно, что Женька после этого и в самом деле замолчала.
Что там у них? Опять чего-то не поделили?..
– Пап, а я по музыке две пятевки повучив! – радостно сообщил Витька.
– Пятер-р-рки, – привычно поправила Елена Васильевна.
– И не «повучив», – добавила Надежда Викентьевна, – а по-л-лу-чил-л. Л-л-л!.. Повтори, родненький, правильно.
– Да, две пятер-р-рки пол-л-лу-чил-л... – послушно повторил сын.
– Молодец! – одобрил Каретников. – А у тебя как дела? – дружелюбно спросил он у дочери.
– Нормально, – сказала Женя, но, как заметил Андрей Михайлович, взглянула при этом на мать с некоторой настороженностью.
Все же надо бы разобраться, в чем тут дело, подумал Андрей Михайлович, но, удовлетворенный уже одним тем, что обратил внимание, сумел вот не пройти мимо, он сразу же забыл об этом. Побыстрее хотелось доужинать и вернуться к себе в кабинет.







