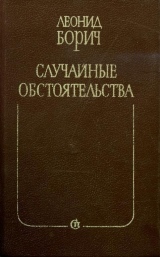
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
Андрей Михайлович стал обстоятельно перечислять, как помогают такие старички и старушки при кожных заболеваниях, нервных, при обменных нарушениях, и выходило, что почти везде применимы их знания, кроме, однако, хирургических случаев, а особенно той области хирургии, которой именно он, Каретников, занимался. Так что получалось, что вообще-то народную медицину надо шире внедрять, но не в том конкретном, чем занимался Андрей Михайлович.
Они еще поговорили о прополисе, мумие, об экстрасенсах, Каретников довольно скептически отозвался и о том, и о другом, и о третьем, однако же и вполне при этом осмотрительно, с терпимостью к возможному иному мнению, не переступая за ту грань, когда упрямое, бескомпромиссное отрицание выглядит ничуть не меньшей косностью, чем и наивная, слепая вера в чудеса.
Как-то удачно, к случаю, поделился Андрей Михайлович и своими давними, студенческими ощущениями, когда они стали изучать микробиологию, эпидемиологию, инфекционные болезни... Это было вначале чувство подавленности, даже страха: как, оказывается, мы беззащитны в этом мире! А потом, на смену этому, удивление пришло. И удивляться-то приходится не тому, как люди много болеют, преждевременно умирают, а как при таком обилии опасностей и болезней, подстерегающих буквально на каждом шагу, люди все-таки живут, и живут долго, а то даже и счастливо.
Тут Сергей Георгиевич сказал, что, видно, человеку вообще нельзя, чтобы совсем уж без страданий. Когда их нет – их попросту придумывают. Такое вот «выдуманное» страдание...
Бывает, кивнул Каретников. А бывает и выдуманное счастье.
Он отметил, что, кажется, Сергей Георгиевич на этих словах вопросительно посмотрел на него, словно бы ожидая какого-то продолжения. Может, и в самом деле сейчас следовало перейти к тому, ради чего он пришел сюда, но как это поинтеллигентнее сделать, чтоб удержаться на уровне их предыдущих всех разговоров, Каретников не знал.
После паузы, без всякого осуждения в голосе, а как бы заранее признавая за людьми такое вполне извинительное свойство, Сергей Георгиевич заметил с мягкой улыбкой, что а вообще-то ведь все, что выше нашего понимания, может быть только глупостью. Не так ли?
Андрей Михайлович на мгновение насторожился, но успокоил себя, что это не намек какой-нибудь, это не о нем, потому что – что же? – разве это выше моего понимания, что удачные браки вовсе не зависят от того, одногодки ли муж и жена, или муж на сколько-то лет старше? Пусть даже и на много лет...
Андрей Михайлович взглянул на часы и присвистнул: засиделись-то как! Скоро же мосты разведут!
Теперь затруднение было лишь в том, чем все-таки закончить их разговор. Но Сергей Георгиевич, тоже вслед за Каретниковым поднявшись и провожая в прихожую, вконец обезоружил его:
– Спасибо, Андрей Михайлович, что нашли возможным... Я очень рад нашему знакомству.
Ну и что же ему после этого? На искреннее чувство хамством, что ли, ответить?
На обратном пути Каретников похвалил себя, что не опустился до какого-нибудь базарного разговора или тона, что мог бы этим не только себя унизить, но, главное, дочери навредить. И хотя в своем представлении о себе Каретников придерживался того общего, свойственного многим, заблуждения, что для него всегда более важным бывает не упасть во мнении о себе самом, а вовсе не то, что могут подумать или что думают о нем другие, он все же вспомнил теперь, как рассчитывал вести разговор с Сергеем Георгиевичем, и хорошо, что вовремя обнаружил оплошность, с ходу сумел перестроиться, ибо и слова, и манера держаться, и тон, которые он планировал, были бы с этим человеком не просто неуместны, но нелепы и смешны, и могли бы вызвать лишь снисходительное и обидное сочувствие к его уровню рассуждений, да и к его уму.
Охотно он признал заслуги и Сергея Георгиевича: ведь с людьми обычно всегда только так разговаривают, как они сами позволяют с собой говорить...
Удовлетворенный этой поездкой, Каретников разрешил себе внеплановую, уже четвертую за сегодняшний день, сигарету, и, улыбнувшись, вспомнил, что ничего ему так и не было предложено из того, что он предусмотрел и обговорил сам с собой, поднимаясь к дверям Сергея Георгиевича, – ни кофе, ни сигареты. Он, верно, и не курит, решил Каретников.
Ни жена, ни дочь спать не ложились. Елена Васильевна после ухода мужа внимательно осмотрела все на телефонном столике – что он мог там искать? – и тоже наткнулась в конце концов на визитную карточку Сергея Георгиевича, вложенную дочерью в свою записную книжку, и, почти уверенная теперь, куда мог пойти муж, не удержалась, чтобы не сказать об этом Женьке, но встретили они Каретникова по-разному.
Елена Васильевна, не остыв еще от обиды, лишь вопросительно и на всякий случай осуждающе смотрела молча на мужа, а дочь была с ним такой предупредительно-ласковой, что поначалу Андрей Михайлович даже растерялся, а потом растроганно подумал о том, как она все-таки любит его. Лена уже, наверно, все рассказала ей, а может, догадавшись, где он, и этим поделилась, а Женька все равно так приветливо... да нет, прямо радостно бросилась к нему на шею! А у самой-то на душе...
– Ладно, ладно... – добродушно проговорил Каретников, успокаивая ее. – Все нормально...
– Что нормально? – не выдержав, подозрительно спросила Елена Васильевна. – Ты был у... Ты где был?
– У него, у него!.. – посмеиваясь, сказал Каретников. – Где ж еще?! Надо же было...
– Я так и знала! – всплеснула руками Елена Васильевна. – Ну кто тебя просил?! Кто?!
В другое время Андрей Михайлович вспылил бы в ответ: я что, не отец Женьке?! как это – «кто просил»?! – но сейчас он лишь усмехнулся, весело подмигнул дочери и, кивнув на нее, сказал жене:
– Между прочим, я в некотором роде отец этой вот девицы... Мог ведь я вмешаться?!
– Папочка! – просияла Женька, снова целуя его. – Какой ты у меня молодец!
– Вот видишь?! – победоносно посмотрел на жену Каретников. – Дочь-то сразу меня поняла!
– Значит, ты все ему сказал? – радостно спросила Женька.
– Так а что, собственно?.. – Каретников снял плащ. – Сама и скажешь. Я-то тут что?
– Ты ничего не объяснил ему? – все еще не верила Женька.
– Позволь, а что я должен был ему объяснять? – Каретников озадаченно смотрел на дочь.
– Да что он намного старше, чем я... и вообще, что это идиотизм! – крикнула Женька.
Каретников с недоумением посмотрел на дочь, обернулся к жене, но Елена Васильевна, переживая случившееся и, однако, торжествуя вместе с тем над мужем, сказала ему, указав на Женьку:
– Вот! Слышал? Любуйся теперь своей дочерью! Ты же ничего не знаешь!.. – Она умолкла.
– А что мне знать? Что?!
Жена не ответила, дочь фыркнула и пошла к себе.
– Подожди! – властно остановил ее Каретников. – Что происходит? В чем дело?
– Да ни в чем, – очень ровным голосом сказала дочь. – Просто он мне не настолько нравится, чтобы выходить за него замуж.
– Ах, не настолько!.. – язвительно протянула Елена Васильевна, но снова сорвалась на крик: – А на сколько же, интересно?! Нет, ты объясни, объясни своему папе!
– Ничего, мамочка, я не буду объяснять. Если тебе так хочется, сама объясни...
– Да постойте вы! – рассердился Каретников. – Я одно хочу знать: зачем ты человеку зря... Я не знаю... Он же тебя, наверно...
– Ну и что? Это его дела. Никто не заставлял. Странно даже: если он влюбился... Не могу же я теперь только с ним считаться!
– А с кем ты вообще считаешься? – вспылила Елена Васильевна. – Со мной? С папой? С бабушкой? С кем?! Как тебе не стыдно?!
– Да при чем тут это?! – прикрикнул на жену Каретников. – При чем тут, если... если вы обе дуры! – выпалил он.
Спать Андрей Михайлович лег у себя в кабинете.
17
Утренняя пятиминутка обычно растягивалась всегда на полчаса, но Каретников был не в духе и провел ее действительно в пять минут. Для этого сразу же пришлось выразить вслух свое неудовольствие дежурному врачу – когда, наконец, мы научимся коротким докладам? – пришлось нетактично прервать обстоятельного Ивана Фомича, поставить всем в пример лаконичную деловитость Сушенцова и заявить, что вообще отныне пора уже навести порядок и покончить с разбазариванием рабочего времени.
Врачи и сестры не привыкли к подобному тону, резкость Андрея Михайловича, ни разу не смягченная шуткой или хотя бы улыбкой, их всех обидела, а он, чувствуя это, был недоволен собой, но ничего переиначить уже не мог. Отпустив всех, он попросил задержаться Киру Петровну и, памятуя о ее успехах, довольно приветливо сказал:
– Диссертацию-то пора заканчивать. А вы за столько дней и листка не принесли.
Кира Петровна потупилась, ответила, что кое-что написала, но, может быть, лучше уже на той неделе?
– Зачем откладывать? – Он взглянул на часы. До операции у него еще было минут двадцать. – Несите прямо сейчас.
Кира Петровна ушла за своей рукописью, а он удивился, как неохотно она согласилась. То каждый день по нескольку страниц ему приносила – и он хвалил, разрешал тут же, чуть поправив, отдавать на машинку, – а тут вдруг почти на неделю замолкла.
Когда она вернулась и села перед ним, как всегда, в чистеньком накрахмаленном халате, подтянутая и благоухающая, он, принимаясь за чтение и привыкнув уже, что исправлений должно быть немного, решил, что, видно, через месяц ее диссертацию пора выносить на обсуждение кафедры, а там...
Он не понял, о чем прочитал, и, сердясь на свою рассеянность, снова вернулся к началу.
Что за ерунда!.. Опять какие-то раздернутые, беспомощные, как когда-то, мысли. Будто и в помине не было, чтобы совсем еще недавно она поражала его неожиданно зрелыми, точными формулировками. Ведь он уже был уверен, что все, наконец, сдвинулось, и, удовлетворенно хмыкая, радуясь, торжествуя, что научил же вот человека – сумел научить! – он еще неделю назад бормотал при этом: «Ну, лед тронулся, тронулся...»
– Не понимаю, – сказал Каретников, удивленно посмотрев на нее. – Что случилось? Вы уже так хорошо, толково...
Кира Петровна вдруг всхлипнула и выбежала из кабинета.
Пожав плечами, не чувствуя никакой вины перед ней, он попытался читать дальше. Но там еще хуже было. Хоть все перечеркивай! Несуразица какая-то, бред и только... Ну не мог, просто не мог один и тот же человек написать вот это, что лежало сейчас перед ним, и то, прежнее, совсем иного уровня, что она стала приносить ему в последнее время.
Разные люди, совершенно ведь разные!.. Почему разные? Что за чушь!
– Андрей Михайлович, – появился в дверях Сушенцов, – звонили, что студентов сегодня не будет. На переборку овощей забрали. Может, перенесем тогда операцию?
– Так больного же на сегодня готовили?
– Ну, скажем ему, что «по техническим причинам»...
– Это я тебе так когда-нибудь скажу... не дай бог. А больному – не надо. Он уже в мыслях с самого утра на операционном столе лежит, как только проснулся. А второй раз собираться... – Не удержавшись, он кивнул на листки Киры Петровны: – Не пойму, что произошло с ней...
«Но вы же недавно ее хвалили при всех!» – должен был тоже озадачиться Сушенцов, однако он промолчал почему-то, не удивился вместе с ним, не высказал никаких предположений, хотя бы взглядом не выразил сочувствия – не ей же, в конце концов, а ему, Каретникову, который испытал сейчас такое разочарование, – он даже глаза отвел от рукописи и, словно не услышав Каретникова, лишь деловито спросил:
– Значит, мыться на операцию?
Почему он даже не удивился? Он... Он знает, что ли? Но откуда ему заранее знать?.. Однако он явно понял... Он сразу все понял. Ему, Каретникову, надо было сначала прочитать все это, чтобы удивиться, а он, Сушенцов, и так знал. Потому и не удивился...
– Да, пошли мыться. – Каретников встал из-за стола, остановил внимательный взгляд на Сушенцове и, усмехнувшись, сказал, будто поправил: – Умывать руки...
Он снова вспомнил эту фразу, когда они вдвоем мылись перед операцией.
– Знаете, откуда пошло – «умывать руки»?
– Смысл-то, конечно, понятен, – сказал Сушенцов. – А вот откуда это...
– Оттуда же, откуда «И пропел петух». Это почти рядом. Сначала «руки умывают», а потом... Хотя нет, в Евангелии наоборот. Лишнее доказательство, как религия оторвана от живой, меняющейся жизни. А смысл «петуха» ясен?
– Не очень, – признался Сушенцов. Ему отчего-то не нравился этот разговор, да и сам тон, и усмешка, которую он не мог видеть из-за маски на лице Каретникова, но которую хорошо чувствовал, и даже как на него время от времени поглядывали при этом – Сушенцова тоже начало беспокоить. – Не силен я в теории, Андрей Михайлович...
– Увы, – согласился Каретников. – Кажется, вы действительно... больше практик...
Сушенцову тут опять почудилось как будто какое-то особенное значение. «Что это он против меня бочку катит?» – с недоумением подумал Владимир Сергеевич.
Операция проходила гладко, без затруднений и неожиданностей. Они стояли друг против друга; и вполголоса, продолжая свое дело, прерываясь лишь затем, чтобы попросить тот или иной инструмент, Каретников рассказал Сушенцову, что как-то, мол, под пасху, когда Христос вечерял со своими апостолами, он, как бы между прочим, сообщил им, что один из них предаст его.
– Иуда, тридцать сребреников, – уверенно подсказал Сушенцов.
– Это слишком грубый и очевидный случай, – возразил Каретников. – Тут предал – просто продал. Хотя, впрочем, и на этот счет есть ряд любопытных версий... А я хочу о «петухе». Случай – как бы сказать? – ну, более элегантный, если можно так выразиться...
– Предательство – оно же все равно предательство, – заметил Сушенцов.
– Что ж... Рад, – проговорил Каретников. – Но для краткости все же опустим про тридцать сребреников. Так вот... Когда Иисус сказал, что ученики предадут его в эту ночь, Петр обиделся: все, дескать, как хотят, за всех не ручаюсь, но я – никогда! Христос на это грустно так улыбнулся и говорит: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня...» А ведь и в самом деле отрекся. И раз, и другой, и третий... «И вдруг запел петух...» Вот такая, значит, история получилась некрасивая...
– Нехорошо Петр поступил, – улыбнулся Сушенцов. – Я правильно понял, Андрей Михайлович?
– Про Петра? Исключительно правильно.
Операцию они заканчивали в полном молчании, а когда уже размывались, каждый над своей раковиной, Каретников, наклонившись к Сушенцову и чуть не касаясь маской его маски, совсем тихо проговорил, чтобы уж точно никто не услышал – ни сестра, ни нянечка:
– А негоже так, Владимир Сергеевич... Если взялся за гуж, как говорится...
– Не понял, Андрей Михайлович, – насторожился Сушенцов. – О чем вы?
Каретников, жестом пригласив за собой, отошел к окну, снял марлевую маску, обтер ею пот с лица, Сушенцов по привычке то же самое сделал, и они смотрели друг на друга: Каретников – недоверчиво, а Сушенцов – с открытым недоумением в ясных светлых глазах, быстро, однако, прикидывая, что если о Кире Петровне речь, то как же это стало известным Каретникову, когда ни на кафедре никто не знает, ни вообще в институте, ни она вроде бы не могла. К чему это ей, замужней женщине... Или как раз она-то и могла? Брошенные, они в отместку, бывает, все могут...
– Я – о Кире Петровне, – сказал Каретников.
«Все-таки, значит, она. Сама легла – и сама же потом нажаловалась! Вот неблагодарная!.. Да хуже, просто...» – Сушенцов выругался про себя.
– Ну, с кем этого не бывает, Андрей Михайлович! – протянул Сушенцов одновременно и просительно, и как бы извиняясь за некую шалость, и призывая к сочувствию – мол, мы-то, мужчины, можем понять: ну, не устоял, ну, что же теперь – казнить за это?! Женщина красивая, ничего такого не обещалось ей, ничего ей и не нужно, хороший муж, семья... – Да уже и все в прошлом, Андрей Михайлович. Честное слово даю: завязал.
– Что в прошлом – об этом я косвенно догадался, – с иронией сказал Каретников, как-то презрительно покривившись.
«Как – «косвенно»? Не она ему пожаловалась?» – с недоумением подумал Сушенцов, казня себя, что тогда, выходит, он сам же и проговорился. Зря поспешил вину признать... Как же быть теперь?
– Но вот как я не уловил... – Каретников снова неприятно усмехнулся. – У вас-то вполне сложившийся, свой стиль, и мне давно следовало догадаться, чья рука столь блестяще пишет диссертацию Киры Петровны.
– Ну, тут ведь ничего такого предосудительного, – осторожно возразил Сушенцов. – Если можешь подсказать, отредактировать – почему бы не помочь коллеге? Это даже и в интересах кафедры...
– Н-да... В интересах... А как теперь-то быть?
Об этом как раз и Сушенцов думал – что ему теперь делать? – но, уточняя, он все же спросил:
– Кому?
– Разумеется, не вам. Передо мной – как ей быть?
– Андрей Михайлович, но... – Сушенцов развел руками. – Я же не нанимался на всю жизнь...
– А вы, оказывается, интересный... коллега... – Каретников с холодным любопытством смотрел на Сушенцова. – Нет, в самом деле: неужели вы не понимаете? Совсем?
– Андрей Михайлович, если вы считаете... Я же не отказываюсь! – горячо сказал Сушенцов. – Раз надо что-то за нее...
В глазах его была такая искренняя готовность исполнить все, что потребуется, но и такое, тоже совершенно искреннее, непонимание, чего же все-таки от него сейчас хотят, что Каретников почувствовал свое полное бессилие хоть как-то объяснить Сушенцову, что, конечно, оба они хороши – и она, и он, Владимир Сергеевич, – но ведь она-то, в конце концов, сподличала прежде всего сама с собой, а он, Сушенцов... Нет, не объяснить было.
– Так вы ничего и не поняли, – сказал Каретников и направился к двери.
В коридоре ему встретился Иван Фомич и, глядя на Каретникова, встревоженно спросил:
– Что-то случилось?
– С чего вы взяли?
– А это... на вас, извините, лица нет...
– Не преувеличивайте, – улыбнулся Каретников. – Хоть какое-то, надеюсь, есть?
Они посмеялись, Иван Фомич осведомился, когда лучше на подпись план дежурств занести, Каретников сказал, что вот прямо сейчас и лучше, они прошли в его кабинет, Андрей Михайлович сделал в этом плане несколько перестановок, чтобы в воскресные дни дежурили самые опытные врачи, и вдруг именно теперь, совсем уж вроде бы некстати, захотелось Каретникову выяснить наконец то, над чем раньше старался не думать.
– Иван Фомич, я уже давно хотел... да все, знаете, как-то... Помните, лет семь назад у нас с вами был разговор о возможности нового доступа при резекции верхней челюсти?
– А?.. Да-да, было, было... – торопливо согласился Иван Фомич. – Заодно уж, Андрей Михайлович, подпишите, пожалуйста, заявление на отпуск нашей санитарке... Мы с вами это обговаривали... Спасибо.
– У вас был собран обширный материал, несколько интересных статей написали, но с диссертацией так почему-то и заглохло тогда...
– Что ж вспоминать, Андрей Михайлович? Давно, как говорится, быльем поросло. А это... у Семенова дело-то на поправку пошло! Я сейчас велел в перевязочную его взять...
– Иван Фомич, – мягко прервал Каретников, – так почему все-таки?
Видно, не отмолчаться было, и Иван Фомич проговорил со стеснительной улыбкой:
– Я уж точно и не помню... Наверно, как-то не по душе пришлось...
Каретников опустил глаза, Иван Фомич забеспокоился, не сказал ли чего обидного, потому что совсем ему не хотелось обижать Андрея Михайловича, ни в чем он никогда и не винил его – ведь сам виноват, что не устоял.
– Я имею в виду, – поспешно объяснил Иван Фомич, – что, значит... раз сам додуматься не смог... И другое еще...
– А другое что? – настойчиво спросил Каретников.
– Ну... Когда тебя не хватает... Я хочу сказать, что если на более решительное не хватило – тогда уж хотя бы это... неучастие. – Он смутился, словно бы заранее готов был согласиться, что, возможно, со стороны это и глупо выглядит, но ничего другого он не может сказать.
– В чем – неучастие? – не понял Каретников.
– А чтобы против своих... это... ну, против убеждений не идти.
– Но статьи-то вы же опубликовали? Тема – одна и та же... Почему же было над диссертацией не продолжить?
– В статьях – только мое, Андрей Михайлович. Да и... того... в личном плане они не дают... как, например, диссертация...
Каретников поднялся из-за стола и молча зашагал по кабинету.
– Но это же смешно! – сказал он, круто останавливаясь перед Иваном Фомичом. – Себя самого решили высечь?! Диссертация – она, мол, и самому на пользу... Так, что ли?
– Я долго думал тогда... – Иван Фомич виновато пожал плечами. – И решил... это... что честнее будет, если...
– Перед собой – может, и честнее, не знаю. А перед больными? Им, между прочим, плевать на ваши нравственные искания! Им помощь нужна!
– Так-то оно так, Андрей Михайлович. Рассуждение вроде бы и правильное... Но почему-то выходило, что очень эта правильность мне же была выгодна. Вот я и не мог иначе...
– Ну, хорошо. Было – и ладно. Но столько лет прошло!.. А что, если сейчас... если все-таки вернуться к диссертации?
Загоревшись этой мыслью, Каретников пообещал Ивану Фомичу, что создаст ему все условия, специально для его опытов выделит в помощь лаборантку, еще кого-нибудь, но Иван Фомич лишь мямлил в ответ что-то невразумительное, а потом вдруг сознался, что уж давно пристроил свою тему диссертации, отдал ее в хорошие руки. Помните, Андрей Михайлович, вы как-то спросили, зачем я повадился так часто в подшефную нашу больницу ездить? Вот им я и отдал... ну, по поводу резекции верхней челюсти. Что ж пропадать-то идее? Вдруг получится... Ребята там умные, старательные... А в мои годы – какая уж диссертация? Уставать вот стал... Мне на пенсию скоро...
Тут, впрочем, Иван Фомич исподтишка покосился на Каретникова: как он на это откликнется?
– А кто вам сказал, что я вас отпущу?
– Так а это... – Иван Фомич растерянно улыбнулся. – У меня право, как говорится. По Конституции. И заместитель у вас есть вместо меня...
– Кто знает... – уклончиво сказал Каретников. – А может, все-таки подумаете насчет диссертации? Год-полтора хорошей работы...
– Мне... того... Андрей Михайлович... Мне в перевязочную... Больной там ждет, – извиняясь, объяснил Иван Фомич.
Обидевшись на такую неблагодарность, Каретников, отпуская его, молча кивнул.
Никто, с кем бы он ни говорил сегодня, его не понимал, абсолютно никто!
А не сегодня? Вчера, позавчера, третьего дня?
Не думал, даже предположить не мог: настолько, оказывается, не понимают!
Но было ведь, было же и такое, что буквально с полуслова, с одного мелькнувшего на твоем лице выражения...
Он столь остро, до безысходности, ощутил именно сейчас эту потерю, и столь невозможным показалось ему вообще быть кем-то понятым до конца хотя бы пусть и в какой-нибудь мелочи, что, когда зазвонил телефон на столе и Андрей Михайлович привычно снял трубку, он вдруг совершенно точно понял, что, кто бы ни звонил ему и на этот раз, его, Каретникова, все равно не поймут по-настоящему, неважно о чем они будут говорить.
Не откликнувшись, Каретников нажал на рычаг.
Он не привык так обращаться с телефоном, потому что каждый звонок всегда, особенно в последние годы, был связан в его жизни с чем-то непременно деловым, ему или кому-то важным, а то и очень срочным. Если же иногда он и разрешал себе такое, как в эту минуту, небрежение, то потом, уже в следующую минуту, это все равно оборачивалось сожалением и какое-то время не отпускавшим его чувством беспокойства, что он сам, своими руками, что-то нарушил в этом устоявшемся равновесии, когда все определено так, что то и дело должен звонить на работе и дома телефон, а ты, пусть нередко и раздражаясь, должен тем не менее всегда откликаться для своего же как бы высшего спокойствия.
Теперь, когда он сам, по своей воле, разъединился, Андрей Михайлович не из-за этого ощущал беспокойство, но от внезапно явившейся мысли, что, может, так оно и запрограммировано в его жизни, так ему и отпущено: был для него только один человек, единственный из всех, кого он когда-нибудь знал или еще узнает... И может, это и есть то, что... что вообще так ищут?
Но тогда... Как же тогда можно было терять?!
Еще поколебавшись секунду-другую, он снова снял трубку и набрал номер справочной железнодорожных вокзалов.
Послать за билетом Сушенцова: он пробивной, он достанет... Нет, не хотелось прибегать к его помощи – и после того, что с Кирой Петровной, и... да, именно в этом случае не хотелось. Тут все самому надо.
Ему ответили короткие гудки – «занято», – он к этому был готов, снова повертел диск, снова было занято, но он упрямо, без передышки стал набирать этот номер, и на какой-то раз все же дозвонился.
– Вечерние поезда на Москву, – попросил он. – Два-три последних, кроме «Стрелы».
Записывая, он подумал, что все это глупо. Такая распространенная фамилия, да еще имя-отчество довольно обычные – как он найдет? Среди восьми миллионов! И надо ведь, кажется, место рождения знать, и год рождения... Ну, год-то, положим, можно приблизительный, свой возраст назвать, а вот где родилась – этого она никогда не говорила. Если бы знать место работы... Инженер... А какой инженер? И где?
Тяжелые операции он распорядился перенести с пятницы на следующую неделю, объявил, что уезжает в Москву на два дня – срочные дела, неопределенно сказал он Ивану Фомичу, – и пошел к ректору отпрашиваться. По логике так выходило, что и к ректору ему идти незачем, хотя тот, конечно, отпустит, и зря он операции отменил.
Дома он принялся собирать маленький чемоданчик, объяснив, что в министерство вызвали по поводу нового оборудования. Приборы дорогостоящие, покупаются на валюту – вот его и попросили на месте разобраться, что заказывать...
Никакой сколько-нибудь серьезной надежды, что он за два дня успеет, не было. Значит, как понимал он, и смысла ехать тоже как будто не было.
Приехал Андрей Михайлович в Москву рано, сразу же у вокзала увидел будку «Горсправка», дождался, когда она откроется, без труда, раз надо было, очаровал пожилую женщину доверительным, интеллигентным обхождением, и она обещала сделать все возможное, чтобы отыскать всех, кто носит фамилию «Васильева» и кого зовут «Вера Николаевна», сорока с небольшим лет. Он спросил, а нельзя ли, в порядке исключения, чтоб и с номерами телефонов, у кого есть? Долго ждать придется, предупредила женщина. Часа через два подойдите.
Каретников легко это принял – до вечера Вера все равно была на работе, – и поехал в гостиницу устраиваться. Все, что могли ему предложить, был дорогой трехкомнатный «люкс», притом лишь на одни сутки, ну, может, еще на полсуток, уступили ему. Конечно, он с благодарностью согласился: обратный билет был у него как раз на завтрашнюю полночь.
Он любил гостиницы. Они давали ощущение полнейшей независимости и покоя. Он все мечтал раньше, когда писал диссертации – сначала кандидатскую, потом докторскую, – чтобы пожить так в каком-нибудь чужом городе, в отдельном номере, с утра садиться работать, а вечерами бродить по незнакомым улицам, смотреть, слушать, знать, что никого здесь не встретишь, и до тебя никому нет дела, ни единой душе. Вроде и грустно немного, но принимаешь это совсем не тягостно, а отчего-то даже с некоторым умилением, растроганно к самому себе.
А потом вернуться в гостиницу, включить лампу у изголовья, покоситься на телефонный аппарат в привычном опасении, что вот-вот он зазвонит, тут же вспомнить, где ты, смотреть уже на телефон с симпатией, раз он не может помешать тебе, вытянуться на чистых накрахмаленных простынях, взбить повыше подушку – две подушки! – и неторопливо, не боясь, что каждую минуту могут отвлечь, приняться за хорошую книжку, на которую у себя дома и времени-то никогда нет. А если случится какой-нибудь детектив – то и его без помехи посмотреть можно. А с утра – опять за работу, еще с вечера накануне твердо зная, что и тут никто не может помешать тебе, потому что никого и нет рядом.
Оно все же какое-то особенное, это гостиничное одиночество, несравнимое со всеми другими одиночествами хотя бы потому, что с самого начала – и постоянно – знаешь о его временности, о том, что очень скоро оно кончится, и тем желаннее и приятнее оно тебе, пока длится.
Но три комнаты – это было слишком: как-то сразу же оказалось, что абсолютно некуда себя деть в них. Он посидел в удобном мягком кресле в гостиной, с недоумением разглядывая огромный пустынный сервант, где не было никакой посуды, встал с кресла, бесцельно прошелся по комнате, открыл и закрыл платяной шкаф со множеством ненужных ему вешалок, повключал везде свет – и люстру, и матовые светильники над диваном, – специально закурил, чтобы хоть чем-нибудь воспользоваться здесь – хотя бы этой хрустальной массивной пепельницей, раз ничего больше ему не нужно было: ни сервант, ни шкаф, ни весь яркий свет в гостиной. Он перешел в кабинет, подсел на минуту к большому полированному письменному столу, проверил, работает ли телефон, записал себе его номер на всякий случай, заглянул в спальню, лег на одну из широких кроватей и стал обдумывать предстоящий ему день.
Побриться сейчас, перекусить в буфете – и в «Горсправку». Там ему дадут некоторые телефоны – сразу же с них и начать. Неважно, что Вера на работе: не все же другие, кто тоже Веры Николаевны, обязательно работают. Их-то и отсеять пока. Возможно, Вера, например, вместе с матерью живет. Если со своей – это тогда полегче, он узнает у нее какие-то подробности: рабочий телефон, где работает, когда возвращается... А если со свекровью? Тогда ведь особенно и не расспросишь, сразу с подозрением: «А кто ее спрашивает?» Представляться-то он должен? Ну, кто он ей, Вере? Однокашник? Мол, вместе когда-то в одной школе учились? Институтский товарищ? Из райисполкома? Из домоуправления звонят? Сослуживец?.. Какой же сослуживец, если она на работе сейчас?! Это только вечером так можно представляться... Да, но совсем не исключено, что муж снимет трубку... И что тогда сказать?
Каретников подумал, насколько бы ему сейчас легче было искать, знай он о Вере, о ее жизни столько, сколько она о нем знала. За целый месяц умудрился лишь запомнить, что сыну лет тринадцать, кажется, да и то – из-за сапожек для Витьки. Она вот о нем почти все знает, ей найти его, если б она захотела...
В «Горсправке» его ожидала непредвиденная удача: не сотня адресов, как он опасался, даже не несколько десятков, а всего-то девять!
– Не может быть! – почти влюбленно глядя на пожилую женщину в окошке, сказал Каретников. – Или это не все?
– Исключительно все, – заверила женщина. – Но телефоны, к сожалению, только у троих.
– Вы сейчас никуда не уйдете? – спросил Каретников. – Я мигом...
– Куда же я уйду в рабочее время?! – удивилась она.
Он отыскал неподалеку гастроном и спросил хорошую коробку конфет. «Еще вам и хорошую?! А никаких – не хотите?!» Никаких – он не хотел, развесные брать отказался, прошел прямо к директору – им оказался молодой, интеллигентного вида парень в прекрасном светлом костюме, – и Каретников, вкладывая в свою улыбку все обаяние, на которое был способен, поинтересовался, не хочет ли тот с утра доброе дело совершить. «Хочу», – рассмеялся парень.







