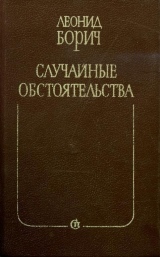
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
– Наконец-то я вижу, ты занялась серьезным делом, – улыбнулся Каретников.
– Нет, а ты почитай, почитай сначала, – чуть обиделась дочь, уловив иронию. – Про меня, например, почти все совпадает.
Конечно, это был совершенный вздор, но пока Женька, не поленившись, отыскивала в шкафчике его любимое вишневое варенье – он и не просил об этом, – Каретников стал все же просматривать гороскоп дочери.
Женька исподтишка следила за выражением его лица. Свой гороскоп она знала уже почти наизусть и могла, как ей казалось, с большой долей вероятности угадать, какое именно место отец читает сейчас, и понять таким образом его отношение к этому. Особенно интересовало ее, как воспримет отец самые последние строчки о том, что в личной жизни, то есть в замужестве – как же еще можно понять? – она будет несчастлива.
Вообще-то ей нравилось представлять себя иногда несчастной, чтобы самой себе казаться более значительной и интересной, но чтобы при этом несчастья были совсем не долгими, не слишком серьезными и чтобы они тут же сменялись счастьем.
Сейчас, хотя ей было немного не по себе от предсказаний гороскопа, это, в ее восприятии, относилось все же к некоему довольно отдаленному будущему и, значит, по-настоящему тревожить пока не могло, как мало тревожит в повседневной жизни твердое знание неминуемого когда-то ее конца. Кроме того, в гороскопе было и то приятное ей объяснение – пусть тоже грустное, но зато благородное, приподнимающее ее в собственных глазах, – что такой, мол, она человек, что всегда будет в любви отдавать больше, чем брать взамен.
Порой она и в самом деле ощущала в себе желание не просто быть любимой, но и готовность и даже потребность самоотречения и жертвенности. Разумеется, таким человеком, ради которого она была бы согласна на это, не могли быть ни отец, ни мать, ни брат – то была бы какая-то банальность, – но и представить себе на этом месте Сергея, несмотря на близость с ним, ей тоже не хотелось. Должен тут был появиться кто-то совсем другой, а пока его не было, от нее и не требовалось никаких в ближайшее время усилий над собой, чтобы чем-то жертвовать и от чего-то бы отрекаться, ущемляя себя хоть немного, так что и эта часть гороскопа, не требующая от нее никаких немедленных поступков и действий, тоже, в общем, не тревожила ее по-настоящему, а вместе с тем уже сегодня, сейчас, сию минуту, давала ей право не только чувствовать себя интересно трагичной, но и от отца теперь ждать ласковых утешений.
Обо всем этом Каретников, понятно, и догадываться не мог: во-первых, как же вообще можно так заглянуть хотя бы и в родную тебе душу, если она и сама столького в себе не осознает, и если не в другой душе – в себе дай-то бог еще как-то разобраться; а во-вторых, все-таки уже к часу ночи шло, завтра вставать рано, ну и, конечно, чаепитие отвлекало немного, да и невольные мысли тут же и о себе, сразу же себя подставляя – любопытство о том, а что же там, интересно, в моем гороскопе, обо мне – что?
Отец уже вроде бы должен был дочитать до конца, но, к ее обиде, судьба дочери, так очевидно несчастливой в личной жизни, нисколько как будто не расстроила его.
– Ты что, совершенно не веришь в гороскопы? – спросила Женька, с досадой наблюдая за обстоятельным и сосредоточенным его чаепитием.
– Чтобы уж совсем-совсем не верить... – Все же хотелось чем-нибудь отблагодарить дочь за кухонные ее хлопоты. – Особенно когда в твоей дочери находят столько достоинств, как в этом гороскопе...
– Ну что за дела?! – с кокетливой капризностью сказала Женька. – Там ведь и отрицательное есть!
Об отрицательном Каретников тоже, конечно, прочитал, но оно проговаривалось в тексте с такой осторожной неопределенностью, что и не казалось таким уж отрицательным, а носило скорее характер невинных, милых слабостей.
С некоторым удивлением согласившись про себя, еще когда читал Женькин гороскоп, что две-три строчки и в самом деле имеют отношение к его дочери, в чем-то приближаясь к тому, какой представлял себе свою дочь сам Каретников, а в чем-то и буквально совпадая, не мог он все же согласиться с самим принципом: невозможно было всерьез отнестись к тому, что одно лишь рождение человека в определенный месяц и день уже предопределяло характер, склонности, везение или неудачливость, и, значит, по сути – судьбу на всю жизнь. Это же чепуха, объяснил он дочери.
– Допустим, – легко согласилась Женька, как бы заранее все равно предвкушая победу. – А что ты скажешь тогда о мамином гороскопе? – Она быстро отыскала нужную страницу и протянула отцу.
Каретникова и Елену Васильевну разделяло в рождении всего два дня, они обычно и справляли свои даты заодно, вместе, однако для астрологии в данном конкретном случае эта небольшая разница была решающей, потому что если жена его, родившись девятнадцатого апреля, рассматривалась, как было написано, под знаком Овна, то он, Каретников, рожденный двумя днями позже, числился уже совершенно под другим знаком, а именно – Тельца.
О жене его сообщалось, что она одарена энергией и склонностью к преувеличениям. Тут он ничего не мог возразить – было и то и другое. Согласился он и с некоторыми уже явно положительными чертами ее характера, но как-то бегло, вскользь после сегодняшней очередной их размолвки, а вот на отрицательном в ее гороскопе Андрей Михайлович задержался подробнее и с удовольствием.
То, что приписывалось рожденным под знаком Овна, и те черты характера, которые, как он считал, были присущи его жене, до того точно, удивительно совпадали, что если Каретников и не разделял доверия Женьки к астрологии, то своего рода признательность этой псевдонауке он явно ощутил.
Жена в недавней их ссоре, как и в ряде других, была бестактной, и Каретников с удовлетворением прочитал сейчас, что вообще все женщины, родившиеся под этим знаком, отличаются агрессивностью и отсутствием такта, и, хотя их нельзя назвать жестокими, они редко считаются с интересами других людей.
Что ж, он никогда и не считал Лену жестокой, но что правда, то правда: нередко она совершенно не считалась с его интересами. Ему даже казалось порой, что жена замахивается на главенство в семье, и тут он прочитал (под неослабным вниманием дочери), что и в самом деле женщины, рожденные под знаком Овна, стремятся играть в браке главную роль.
Словом, так выходило по всему, что не только гороскоп был точен, но что и он, Каретников, всегда был прав в отношении своей жены, и эта его правота была для него в конечном счете много важнее сейчас, чем правильность или неправильность всех этих гороскопов. Правда, дочке отвечать надо было лишь по поводу прочитанного.
– Ну что... – проговорил Каретников с нравящейся ему в себе объективностью. – Знаешь, как говорят в таких случаях: «Что-то, безусловно, тут есть...» Но, видишь ли, некоторые случайные совпадения еще не...
– А теперь о себе почитай, – перебила Женька все с той же уверенностью победителя.
Это были следующие полстранички. О себе как-то и забавно, и любопытно, и щекотно было читать. И сразу же показалось – а может, еще и раньше, когда чужие гороскопы просматривал, – что как все же расточительно много положительных качеств отнесено к другим людям, родившимся под иными знаками зодиака, – качеств, которыми, по его мнению, и он ведь совсем не был обделен, но которые тем не менее приписывались не ему, а другим людям.
Ему, Каретникову, согласно его гороскопу, свойственны были противоречивость натуры, эмоциональность... Противоречивость скорее всего могла, очевидно, прочитываться как неоднозначность, сложность. Насчет же эмоциональности он не совсем понял – хорошо это или не очень (как будто женская черта?), и, на всякий случай, чуть пока засомневался в справедливости этого утверждения.
Далее следовала любовь к комфорту («Что ж, наверное», – согласился он, не видя тут большого греха), отмечалась чувственность (он неопределенно хмыкнул) и... и лень. Каретников на секунду прислушался к себе, к тому, как это отозвалось в нем. Лень, по его понятиям, могла быть отвратительным качеством только в случае бесталанности, так что приписываемая ему лень не задела его, тем более какая же, собственно, лень, если он работает по десять-двенадцать часов в сутки, а бывает, и больше. Применительно к нему это скорее можно рассматривать не буквально, а, пожалуй, как своего рода продолжение того, что названо здесь любовью к комфорту.
В его гороскопе утверждалось еще, что борются в нем два начала – Земля и Венера: Земля, дескать, придает ему здравый смысл (он ничего не имел против этого), а Венера – мягкость (что тоже было вполне приемлемо).
На капризность, о которой он дальше прочитал, Андрей Михайлович лишь пожал плечами («Капризен – ну и капризен»), но вот то, что он, Каретников, якобы любит завязывать знакомства с высокопоставленными и влиятельными людьми – это его возмутило по-настоящему. Не было этого, никогда ничего подобного не было! А было в этом приписываемом ему качестве столько унижающего и оскорбительного, что Каретников, не поддаваясь теперь никаким очарованиям случайных совпадений, окончательно вернулся на научную почву, твердо убедившись в глупости и шарлатанстве этих астрологических нелепостей.
– Хорошо же ты обо мне думаешь! – добродушно улыбнулся Каретников, несколько уязвленный тем, что дочь дала ему прочесть его гороскоп без каких-либо предварительных оговорок.
– Но, папочка... – одновременно как бы и успокаивая и извиняясь, жалобно протянула Женька, поцеловала его, а он еще больше обиделся, поняв, что она хорошо помнила эти последние, неприятные ему и несправедливые строчки. – Я же не говорю, что в гороскопах абсолютно все правильно. Но зерно ведь какое-то есть?!
Каретников пожал плечами и зевнул, показывая, что ему вообще уже неинтересно говорить об этом – не стоит оно того. Он даже озабоченно посмотрел на часы, а Женька, чувствуя себя немного провинившейся перед ним и не желая отпускать отца, заговорила о другом – как, оказывается, бывает, что подруга, самая близкая твоя подруга, которая, считалось, всегда придет тебе на помощь при любой неприятности – и ведь действительно не раз приходила! – как эта подруга вдруг показала себя просто-напросто завистливой.
Андрей Михайлович слушал рассеянно – так, дамская ерунда, наверно, – и в конце концов оказалось, что он был прав: испортилось у подруги настроение от какого-то нового Женькиного платья, которое все другие вокруг очень хвалили, – и он напомнил чье-то мудрое замечание, что настоящий друг не тот, кто поможет в беде, а кто еще и легко переносит твои успехи.
Женьке это понравилось, она стала рассказывать ему еще какую-то из институтских историй, сыпала именами, не объясняя толком, о ком речь, а лишь всякий раз, уверенная, что он и сам помнит, говорила: «Да ты его видел... Я тебе рассказывала о ней...»
Ему неудобно было переспрашивать часто, он понимал, что, вероятно, эти ее сокурсники и дома у них не раз бывали, и, наверно, о чем-нибудь он даже разговаривал с ними или по крайней мере должен был что-то помнить из прошлых ее рассказов о них, но он не мог никого, почти никого из них представить себе зрительно и теперь не в состоянии был уследить за всеми этими бесконечными «она», «он» и за их то уже достаточно взрослыми, а то и по-детски запутанными, наивными отношениями и обидами друг на друга.
Каретников слушал дочь все более рассеянно, умудряясь, правда, все же задавать ей иногда как бы уточняющие вопросы, которые, впрочем, ничего не проясняли ему, и она отвечала, снова называла какие-то имена, а он думал уже о том, что Лена забыла купить ему крем для бритья, теперь утром с обмылком возиться.
Видимо, он прослушал, когда и как дочь уже совсем о другом заговорила, да это и неважно было, в конце концов, а странной, неожиданной, необъяснимой была последняя ее фраза:
– Вот у тети Иры – все нормально!..
Думая, что, может быть, просто ослышался или не так понял, он переспросил с удивлением:
– У кого, у кого?!
– Ты что, не слушаешь меня? – обиженно сказала Женька.
Он мог бы ей объяснить, что у его сестры как раз все совсем не нормально, что у нее, по сути, нет настоящего, да и с будущим все так неопределенно – словом, далеко не счастливая жизнь. Он этому и слова бы нашел – и веские, и достаточно осмотрительные, чтоб ни в чьих глазах не умалить сестру, – однако поразило его совпадение того, что сказала дочь и что он прочел в отцовском дневнике об Ирине, – но сказать об этом вслух он уже не мог.
– Извини, – виновато улыбнулся он дочери, встал и намеренно открыто зевнул. – Я и в самом деле... Давно-то спать пора.
Они простились, он пошел зачем-то не в спальню, а снова к себе в кабинет, присел к столу будто на минуту, а просидел так еще долго – неподвижно, бесцельно, растерянно.
15
Утром, по дороге на работу, ему опять неотвязно думалось об этом странном совпадении. Почему не только отец заблуждался насчет Ирины, но и Женька, оказывается? Почему вдруг?
И в ближайшие дни он тоже не мог избавиться от этого тревожного недоумения. Вообще, отчего-то так стало получаться, что чем больше думал Андрей Михайлович и о дневнике отца, и об Ирине, тем чаще он в той или иной мере начинал невольно и о себе думать, но о чем – он так и не сумел бы сказать, потому что это скорее были не какие-нибудь конкретные мысли, а лишь неясное беспокойное ощущение, какая-то тоска сердечная, что ли... Когда и себе самому не рад, и всему, даже вроде бы и нужному и толковому, что делаешь или говоришь...
Теперь спокойнее всего ему бывало на работе, и чем суматошнее выдавался день, тем легче было на душе у Андрея Михайловича. С радостью и каким-то ожесточением он взваливал на себя даже те заботы, которые, за их неинтересностью, перепоручал обычно другим – Ивану Фомичу, например. Но если все этим были только довольны, хотя и удивлялись про себя неразборчивой вспышке энергии Андрея Михайловича, то Иван Фомич ходил все эти дни подавленный и растерянный, испытывая растущее беспокойство: ему уже начинало мерещиться, будто Каретников хочет показать, что он во многом и без него, Ивана Фомича, вполне может обойтись. Что же случилось? Почему Андрей Михайлович им недоволен?
Последней каплей, утвердившей Ивана Фомича в подозрении, что от него просто хотят избавиться, было то, что никогда Андрей Михайлович не любил разговаривать с родственниками умерших больных, всячески избегал этого и, зная, что Иван Фомич как-то умеет даже и в таких случаях ладить с людьми, ему чаще всего и перепоручал это тягостное дело, а тут вдруг он заявил, что сам хочет встретиться с родственниками, пусть их прямо к нему проведут.
Иван Фомич хотел откровенно поговорить с Каретниковым, чтобы тот объяснил, в чем его, Ивана Фомича, упущения, какие к его работе претензии, но все откладывал пока, думая, что если в нем действительно больше не нуждаются, то, наверно, ни к чему тогда и выяснять. Чуть позже, чуть раньше – что от этого изменится?
Был все же момент, когда он почти решился. К вечеру на кафедре уже никого не было, кроме дежурного врача, Каретников, как это часто случалось с ним в последние дни, задержался дольше обычного, а Иван Фомич, давно закончив свои дела, тоже все не уходил, потому что так был воспитан, что если у шефа еще есть на кафедре работа, то не должно быть, чтобы он, его помощник, уже все сделал.
Когда они столкнулись в коридоре на мужском отделении и Иван Фомич понял, что Каретников уходит домой, – ищи потом подходящего случая! – он сказал:
– Андрей Михайлович, тут это... того... поговорить...
Каретников каким-то заторможенным, невидящим взглядом посмотрел на него, потом, словно бы осмыслив, о чем с ним говорят, улыбнулся вдруг – как-то, правда, грустно это у него получилось, непохоже на него, – и, взяв Ивана Фомича под руку, что уже совсем было неожиданно и непонятно, ответил, мягко, но решительно отклоняя какой бы то ни было разговор:
– Иван Фомич, ну его все... Давно уже нам домой пора. Давайте все дела на завтра оставим. Вас подождать?
Иван Фомич совсем потерялся, не зная, как расценить эту предупредительность и явно доброжелательный тон, и со своим разговором решил повременить.
Каретников подождал, пока Иван Фомич сбегал переодеться и взять портфель, из клиники они вышли вместе, чего уже давно не случалось, но Иван Фомич, не позволяя себе расслабиться, все равно обеспокоенно думал: «Может, он это... чтобы самому поговорить со мной?»
Однако Каретников стал рассказывать, как удивляет и радует его в последнее время их аспирантка Серебровская. Кто бы мог предположить, что она совершит такой скачок?! Ведь буквально два слова не умела связать, он уже считал, что либо придется рукой махнуть на ее диссертацию, либо самому за нее дописывать, а она в третий раз приносит такие черновики, что и править почти нечего. Как будто совсем другой человек пишет! И откуда вдруг это взялось в ней? Совсем же иной уровень! Неужели впрок наша учеба пошла?
Иван Фомич от какой-то неожиданной мысли крякнул и даже позволил себе остановиться на секунду.
– Что? – не понимая причины, спросил Каретников.
– Это... нет, ничего, – пробормотал Иван Фомич. – Обувь, извините, жмет.
Каретников удивился, почему Иван Фомич, всегда заступавшийся перед ним за Киру Петровну, сейчас не порадовался за нее, но, подумав тут же о другом, внезапно для самого себя произнес:
– Недавно я историю узнал... Встретились двое, полюбили вроде бы друг друга, а у каждого давно своя семья, дети... Банальная, в общем, история, да?
Иван Фомич уставился на Каретникова. Они продолжали стоять посреди тротуара, мешая прохожим и не замечая этого.
Иван Фомич пытался постичь, к чему бы это ему вдруг сказано, нет ли тут какого перехода, к нему лично относящегося, хоть сам-то он, понятно, не мог иметь к подобной истории никакого отношения, но Каретников все молчал, будто именно от него ожидая какого-то ответа.
– Ну, того... – неуверенно начал Иван Фомич. – Тут ведь как? Банально-то, может, и банально... да только это... когда оно у других случается. А когда у самого себя... Это... того... исключительное, я думаю. Не такое, как у других. Нет, как же это такое – банальным может быть?! Никогда не может! – уже совсем уверенно заключил Иван Фомич.
– Правильно! – одобрительно воскликнул Каретников и с уважением посмотрел на Ивана Фомича. – Очень верно сказано!
Каретников так же неожиданно замолчал, как и начал этот странный разговор. Они снова пошли, и Иван Фомич, искоса снизу поглядывая на Андрея Михайловича – смешная была пара, один другому чуть ли не по локоть, – вдруг подумал, что Каретников не в каком-нибудь переносном смысле говорил и не о чем-то, что могло бы как-нибудь его, Ивана Фомича, хоть краешком касаться, а это же он, скорее всего... Ну да, о себе самом, о какой-то своей истории, и хотел, наверно, его мнение услышать. Мол, хорошо это или плохо... Так что тут скажешь? Кому-то хорошо, кому-то плохо, а то, бывает, и всем только плохо. Надо же, чтоб такое случилось!..
Ему искренне стало жаль, что Андрей Михайлович оказался в столь сложной, затруднительной ситуации, но и польстило, что Каретников, пусть лишь намеком, а решил все-таки именно с ним поделиться, а не с кем-то другим, не с Сушенцовым, к примеру.
– Но не оставлять же своих детей из-за этого! – словно бы споря с кем-то, сказал ему Каретников.
– Я бы не оставил, – согласился Иван Фомич. – Никогда бы не оставил. Знаю, что не смог бы.
– Вот видите?! А другим кажется... Другие этого не понимают. Даже собственные дети. Я имею в виду – взрослые дети, когда потом узнают, что из-за них и не ушел в свое время. Дескать, нравственнее было уйти, чтоб никого не обманывать... Я уж не говорю, что вообще не так все это просто! Чувства чувствами, но у человека определенное положение, сложившийся образ жизни, и все, чего он годами, десятилетиями достигал...
– Конечно, – кивнул Иван Фомич. – Уйдешь из семьи – обязательно служебные неприятности. Если человек какую-нибудь большую должность занимает. Особенно если сам воспитатель...
– Вот именно! – подтвердил Каретников. – Хочешь не хочешь, а с этим люди тоже считаются, когда должны принять решение.
– Ну, тогда-то все просто! – обрадовался за него Иван Фомич.
– Что значит – «просто»?
– А, извините, наплевать тогда и забыть, – уверенно сказал Иван Фомич. – Если уж про должность свою помнишь – ничего, значит, такого серьезного и не случилось. Зачем же тогда от своих детей уходить? Тем более!..
Разочарованно Андрей Михайлович посмотрел на него. Все снова почему-то не так оборачивалось. И тут никакого понимания! Да при чем должность-то, в конце концов?! Разве об этом речь?! Но неужели никто не в состоянии просто посочувствовать, как ему нелегко сейчас?!
Если кому и понять его... Ну конечно! Судьбы-то теперь у них в чем-то почти схожие... Один-единственный человек, который сможет понять, потому что ей самой это все близко...
Он не знал еще, как и о чем будет говорить с Ириной, не решил, покажет ли ей в этот раз отцовский дневник, который так до сих пор и носил в своем портфеле, но что прямо вот сейчас, не откладывая, он и поедет к сестре, – Каретников уже знал.
Он торопливо стал прощаться, сославшись на какое-то неотложное дело, и это Ивана Фомича нисколько не обидело, а лишь утвердило во мнении, что догадка его правильна и что Андрей Михайлович просто решил замять их разговор.
В такси Каретников сел на заднее сиденье, чтобы сосредоточиться перед разговором с сестрой.
Все эти годы виделись они с Ириной довольно редко, раз в несколько месяцев, потому что жили в разных концах города и на дорогу только в одну сторону уходило часа полтора, чего ни он, ни она ввиду своей занятости позволить себе не могли, разве что по праздникам или на чей-нибудь день рождения в их семье. Созваниваться им тоже было сложно: дома у Ирины телефона нет, а застать ее днем в учительской почти невозможно, да и он не особенно засиживался в своем кабинете на кафедре, а когда Ирина все-таки дозванивалась, он редко бывал один, чтобы поговорить с ней спокойно, без помех.
Теперь надо что-то менять, подумал он, так не годится. Близкие, родные люди, а черт те что делается, месяцами не то что не видеть друг друга, но даже голоса не услышать по телефону!
Пока жив был отец, Каретников не чувствовал какой-либо особенной ответственности за свою сестру. Все, что происходило в жизни Ирины, было, конечно, далеко не безразлично ему – он тоже переживал за нее, когда она развелась с мужем, тоже сочувствовал, что она одинока, что у нее все никак не решится с Павлом Петровичем, – но все же в гораздо большей степени все это касалось родителей, потому что у него, Андрея Михайловича, была своя семья, обязанности перед этой семьей и свои заботы. Теперь же, со смертью отца, он не только почувствовал, что Ирина ему много ближе, но и стал уже ощущать определенную ответственность за ее благополучие. Правда, не совсем было понятно Андрею Михайловичу, почему именно со смертью отца пришло к нему это ощущение. Ведь всегда, сколько он помнил родителей, человеком деятельным и ответственным в их доме была мать – отчего же вдруг оказалось, что все дело не в том, что мать ушла на пенсию, а в том, что умер отец?
Ирина росла болезненным ребенком, плохо ела, всегда ее в сон клонило, она могла спать часов по двенадцать в сутки, а по утрам все равно была совершенно разбитой, трудно и долго приходила в себя, словно бы медленно оживая, и отец, бывало, чтобы хоть немного сгладить эти мучительные вставания по утрам, старался приготовить ей какой-нибудь сюрприз. Она так привыкла к этому, что в один из дней после смерти отца, когда на время перешла к ним жить – вернее, это они ее заставили, боясь за нее, так она тяжело переносила смерть отца, – Ирина как-то рассказала брату, что даже потом, став взрослой и живя отдельно от них, первое, что она еще долго делала, едва проснувшись, – она бессознательно шарила рукой под подушкой и сонно, с закрытыми глазами уже заранее улыбалась в предвкушении, что вот-вот наткнется на конфету или какую-нибудь безделушку, приготовленную для нее отцом. Конечно, это были лишь остатки когда-то в детстве затверженного движения, и, растерянно пошарив под подушкой и ничего не найдя, рука тут же сама перед собой притворялась, что ничего не ищет, а просто, мол, переменила положение, чтоб удобнее было лежать.
В свое время Надежда Викентьевна показывала Ирину лучшим специалистам. Все они, не находя никакой определенной болезни, сходились в конце концов на том, что и определенного лечения здесь тоже нет, кроме общеукрепляющих средств и правильного режима. Но так как ни одно состояние организма не должно тем не менее существовать без какого-нибудь названия, то каждый из врачей настаивал на правильности и важности именно своего диагноза, а не других коллег, полагая, видимо, что эта точность уже сама по себе несомненное благо. Во всяком случае, раз состояние ребенка удалось обозначить научными словами и некоторые советы, пусть самые общие, все же были даны, то и врачи, и Надежда Викентьевна уже испытывали удовлетворение: врачи – оттого, что сумели назвать это состояние (как-то так получалось, что если названо, то, значит, и вполне объяснено), а Надежда Викентьевна – еще и от сознания, что сделано ею все, что можно, и что другие родители сделать бы этого вообще не смогли.
С сочувствием Андрей Михайлович представил себе, как сестра, хрупкая, тоненькая, а после смерти отца еще больше истаявшая, должна ежедневно вставать в шесть утра, чтобы ехать с пересадками в центр, где была ее школа. Надо бы поискать через кого-то: может, что-нибудь поближе найдется к ее дому – ведь столько школ в новых районах. Он уже на такси к ней полчаса едет – каково же ей должно быть в переполненных автобусах?! И этот ее Павел Петрович ни мычит ни телится... Сколько они уже так? Лет восемь?.. И что она только нашла в нем?!
Отношение Каретникова к Павлу Петровичу было двойственным. Когда сестра несколько лет назад познакомила их, Каретников сразу же, буквально с первых минут, проникся симпатией к этому немногословному, деликатному и, по всей видимости, довольно робкому человеку. Приятно было заметить, как Павел Петрович внимателен к Ирине, как он трогательно заботлив, как восхищенно смотрит на нее, сам же от этого смущаясь, и как Ирина всякий раз счастливо вспыхивает, молодеет под обожающим его взглядом. То есть Павел Петрович вызывал расположение Каретникова не просто из-за своего обаяния, а прежде всего как человек, который сделал счастливой его, Каретникова, сестру, до этого столь незаслуженно обделенную и одинокую в жизни. Сын ее, Петя, был тут не в счет: он служил где-то на севере, плавал на подводных лодках, ненадолго заезжал домой лишь когда мчался в отпуск на юг, чтобы ухватить побольше солнца и наверстать отсутствие женского общества за свои долгие месяцы холостяцкой жизни. Да и письмами он совсем не баловал Ирину, хотя относился к ней очень нежно. Так что рядом с ней и был-то, по сути, один-единственный свет в окошке... Однако по мере того как проходили годы и отношения Павла Петровича и Ирины все больше принимали характер какого-то словно бы затянувшегося и уже почти привычного недуга, без видимой надежды на то, что когда-нибудь он разрешится, Павел Петрович все чаще стал представляться Каретникову не деликатным и стеснительным, как прежде, а безвольным и эгоистичным, не умеющим, да и не желающим понять, как Ирине тяжело и горько, как ей должно быть в конце концов уже и стыдно перед семьей, друзьями, знакомыми – перед всеми, кто давно знал или догадывался об их отношениях, все ожидая какой-то определенности, принятой между взрослыми людьми. И оттого, что Ирина страдала и что из-за Павла Петровича она до сих пор не устроила свою жизнь, как все, а жила лишь как бы урывками, от встречи к встрече, и за одинокие ее субботние и воскресные дни, за все праздничные вечера, которые Павел Петрович должен был непременно проводить в кругу своей семьи, Каретников не мог относиться к нему с той прежней симпатией, как когда они познакомились.
Тем не менее, поглядывая из окошка такси на мелькающие дома и на людские толпы у перекрестков, он все же рассудил, что и Павлу Петровичу тоже ведь не позавидуешь, а не только Ирине: что-то придумывать потом жене, почему задержался, вечно изворачиваться...
А Ирина уже давно могла бы свою жизнь устроить. Был же этот – архитектор, что ли? – ну, который несколько раз ей предложение делал. Видный, еще не старый, уверенный в себе, не то что робкий ее Павел Петрович. К тому же вдовый, дети взрослые, живут отдельно...
Сестра, конечно, обрадуется. Нет, прежде всего она удивится. Даже, наверное, встревожится: «Что случилось, Андрей?»
Увидев испуг на ее лице, он сразу успокоит: «Да просто повидаться заехал. Ведь почти два месяца не виделись! Разве это нормально?!» Они поужинают вместе, а уж потом, исподволь...
Каретников попросил таксиста остановиться у гастронома, взял там кое-какую закуску – вполне могло оказаться, что у сестры, по ее вечной безалаберности, совершенно пустой холодильник, – и, выходя из магазина, приметил неподалеку телефонную будку. Надо домой позвонить, чтоб Лена не волновалась.
– Ой, как некстати... – разочарованно протянула Елена Васильевна.
– Не понимаю, – сдерживаясь, сказал Каретников. Не хватало еще, чтобы жена устанавливала, когда ему кстати, а когда некстати с родной сестрой видеться!
Нотки неприязненности Лена, конечно, услышала, и сейчас, очевидно, она обидится на него: «А я не понимаю, что за срочность такая, если Ирина сама к нам собиралась через несколько дней!»
А в самом деле, что тогда ответить?
Но Лена, к его удивлению, даже как будто не обратила внимания на его холодный тон и очень дружелюбно сказала:
– У нас новость... Приезжай скорее.
– У нас? Какая новость?
Лена молчала. Толи на секунду-другую заколебалась, сейчас ли этим поделиться или потом, когда он вернется, то ли разговор отчего-то прервался.
– Алло! Алло! – погромче сказал Каретников и, по непонятной, но почти для всех общей привычке, дунул несколько раз в мембрану, словно бы надеясь этим восстановить связь.
Понизив голос и придавая ему какую-то особенную значительность, Елена Васильевна сказала:
– Ты слышишь меня?
– Да слышу, слышу! – нетерпеливо проговорил Каретников. – Меня тут такси ждет!
– Ты на такси?! А нам сегодня предложение сделали! – торжественно сообщила Елена Васильевна.
Известие это Каретников воспринял не слишком всерьез: мало ли кто надумает его дочке предложение сделать!
– Тебе или Женьке? – деловито спросил он.







