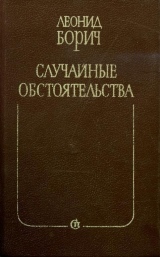
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
– Кровоточит как!.. – услышал Каретников шепот кого-то из студентов.
– Нет худа без добра, – ответил Каретников, приподнимая концы зажимов, чтобы Сушенцову легче было перевязывать сосуды. Любо было смотреть, как он виртуозно это проделывал. – Значит, хорошо развито кровоснабжение. К тому же – не облучался. Заживление пойдет лучше, – объяснил Каретников студентам.
Операция, по сути, только начиналась, но уже пора было думать о будущем.
– А эти не обрезай, – остановил он Сушенцова. – Все равно на препарате останутся.
Он подумал, как быстро мы привыкаем именовать живое как уже мертвое – целая группа мышц тут же становится просто препаратом, и никому из нас это слух не режет. Но, подумав так, Андрей Михайлович удивился все же другому: отчего вдруг он обратил на это внимание? Хотя что ж: совсем почти не спал накануне – вот и такая лишняя, никому не нужная обостренность, решил он.
От причины, по которой он совершенно не выспался, мысль к сестре перескочила, к тому, что Ирина, безусловно, имеет такое же, как он, право знать об отцовском дневнике. Но... может, попозже? Только вроде бы успокоилась немного – и снова растравлять ее, теребить рану?..
Подле Сушенцова появилась маленькая студентка в стерильном халате не по росту. Каретников улыбнулся в маску. Забавно было смотреть на них, стоящих рядом, – высокого, под стать Каретникову, Сушенцова и на эту девчушку, которая чуть ли не подбородком касалась края операционного стола. Не зная, чем помочь им, она робко промокала тампоном рану.
– Растяжки возьми, – подсказал Каретников. Ногой он опустил для нее стол пониже.
Маленькая студентка осторожно попыталась раздвинуть мышцы, которые им мешали идти вглубь, но делала это так медленно и нерешительно, что почти ничем не помогала им: то ли побаивалась что-то неправильно сделать, то ли все же не до конца верила, что тому человеку не больно сейчас.
Молча Сушенцов перехватил у нее из рук инструменты и одним сильным движением растянул мышцы. Не очень это получилось щадяще, все-то он сегодня торопился куда-то. Каретников поморщился и укоризненно сказал Сушенцову, чтобы только он один понял:
– Лихо!..
«Какие мы, однако, вдруг сентиментальные...» – усмехнулся в маску Сушенцов.
– Теперь нам дай знаешь чего? Нам дай шелк-шелк-шелк... И на круглой игле тоже шелк. Тонкий, совсем тонкий. Прошивать.
Не глядя, Каретников протянул руку. Операционная сестра в один миг успела и понять все, и требуемый шелк подобрать, и иглодержатель подала с нужной иглой.
– Ну и Татьяна! – благодарно сказал ей Каретников. – Где же мне тебе за это мужа хорошего найти? – Он указал иглодержателем на студентов. – Может, из них кого возьмешь?
– Меня можно, – предложил один из студентов, непонятно какой под маской, но вполне рослый парень. – Я пока холостой.
– Что ж кота-то в мешке брать? – весело откликнулась Таня, быстро добавляя на свой столик новые зажимы. – Вот снимет маску, тогда и поглядим.
Фонтаном забила тонкая струйка, обрызгав Каретникову халат и маску, и разговор смолк. Сушенцов вовремя пережал сосуд, Каретников тут же прошил его. Пока все это не страшно было. Каретников взглянул на Якова Давыдовича, тот успокаивающим жестом волосатой руки показал, что у него все в порядке – пульс, давление, сердце...
– Не спеши, не спеши, – сказал Каретников Сушенцову. – Желательно сохранить наружную сонную. Давай-ка мы сначала освободим гортань слева от всякого-всего... Видишь, как хорошо?! Оч-чень хорошо... Смотри, как за-ме-ча-тель-но!
И «хорошо», и «замечательно» были словами, которые обозначали только то, что гортань перед ее удалением легко теперь подтягивалась в рану. Эти слова могли бы покоробить сейчас кого угодно из несведущих людей, кому операция виделась бы со стороны лишь как сплошная цепь кровавых действий. Не слишком, разумеется, к месту были эти слова по обычному их смыслу, не слишком удачные на посторонний слух; а между тем то, что касалось самой операции, существа и цели ее, требовало, наверно – или по крайней мере позволяло – все же именно эти слова.
– Взгляните-ка, – пригласил Каретников, и студенты придвинулись поближе. – Это верхний шейный симпатический узел. Его не всегда удается показать...
Сушенцов взглянул украдкой на часы над дверью. Еще можно было, пожалуй, успеть, если и дальше без осложнений пойдет. Только бы не особенно отвлекался Андрей Михайлович на все эти объяснения...
– По язычной артерии и выйдем к корню языка, – предложил Сушенцов, как бы подталкивая Каретникова к немедленному продолжению.
– Не против, не против, – согласился Каретников.
– Ты ничего не пропускай, – учил свою помощницу Яков Давидович. – Обязательно все записывай! Для прокурора, в случае чего... то есть, я хочу сказать, для нас, врачей, это бывает важно. Только что мы вводили внутривенно? Вводили! Вот и отметь.
– Закиси добавить? – спросила Нина.
– Закиси? А они уже что?.. – Яков Давыдович привстал на цыпочки и заглянул через плечо Сушенцова. Много они уже удалили всего, даже не по себе стало. – Андрей Михайлович, на сколько еще рассчитывать? Часа на два?
– На час. Да, Андрей Михайлович? – спросил Сушенцов.
– Сойдемся на полутора, – сказал Каретников. – Как ты думаешь... лучше тут лишний сантиметр забрать?
– Конечно! Оставишь – вдруг из-за этого рецидив? Зря тогда столько возились...
– Пожалуй, уберем, – согласился Каретников. Однако странная логика была сегодня у Сушенцова: все он почему-то соображениями времени руководствовался.
– ...и все ей подай только с наклейками на, извините, этом самом месте. Сначала джинсы, потом вельветы... А еще кроссовки, или как их там называют? Да, адидасы!..
Яков Давыдович вполголоса жаловался Нине на свою дочь, говорил, что дело даже не всегда в деньгах – в конце концов, у него единственная дочь, – но когда одеться во все фирменное – это уже чуть ли не мерило интеллигентности!.. Представляете?!
Каретникова совсем не возмущали сейчас эти досужие, не по делу разговоры. Не «как же так можно?!», а «слава богу, что можно!». Значит, все у анестезиологов идет нормально, раз они позволяют себе такие разговоры. Да и у них с Сушенцовым тоже все хорошо: самое трудное уже позади.
– Насчет интеллигентности – это любопытно, – сказал Каретников.
– А вы своей дочке не покупаете? – спросил Яков Давыдович.
– Как же не купить, если все вокруг носят? – усмехнулся в маску Каретников. – Чтоб дочь свою ущербность чувствовала?!
– Вот-вот! Именно! – Яков Давыдович обрадовался общности их проблем. – Я и говорю: теперь папа и мама должны кормить и одевать до самой пенсии. Не родителей, а до самой пенсии детей!.. Нина, больше закиси не добавляй, хватит пока... Знаете, Андрей Михайлович, одно, правда, утешает: что до их пенсии нам все-таки не дожить. Как вы считаете?
– Тут подумать надо... – рассеянно проговорил Каретников.
Подумать следовало о том, что же остается, если еще и это вот удалить... Ну, а как иначе можно?
Кто-то из студентов, угнетенный всем увиденным – и тем, что убрали, и тем, что еще собирались убрать, – тихо спросил:
– А если совсем было не делать?..
Сушенцов хмыкнул, а Каретников недовольно посмотрел на него.
Всем хорош был Владимир Сергеевич: он и оперировал толково, и мысли его, Каретникова, буквально на лету схватывал, и сам интересно соображал, и экспериментатором был, какого еще поискать, а вот не хватало ему чего-то. Может, этого и не хватало – спросить об операции вот так, как студент сейчас спрашивал: «А если совсем было не делать?» Даже непонятно, почему он, Каретников, этого раньше не замечал: ведь ни разу Володя Сушенцов не задал подобного вопроса, хотя бы когда тоже был студентом. Усомниться бы ему когда-нибудь в нашей врачебной мудрости, что ли...
– Видите ли... – сказал Каретников студенту. – Если чисто медицински рассуждать, мне вам легко ответить: выбора просто нет. Сейчас больной с трудом пищу проглатывал. Потом так же стало бы с жидкой кашицей, даже с водой... А по мере прорастания гортани – и с дыханием. Не говорю о том, что в любой из дней он мог бы погибнуть от внезапного кровотечения.
– Понятно, – кивнул студент.
– Понятно-то понятно, – согласился Каретников. – И все-таки: «А если совсем не делать?» Это ведь не только медицинский вопрос. И тогда по-разному можно... Ну, не знаю... Жить, чтобы видеть своих детей, например... Всех, кого любишь... Или – жить, чтобы... чтобы просто жить...
Размышления, конечно, были невеселыми, но никакого уныния Андрей Михайлович не только не чувствовал – напротив, был он все так же энергичен и бодр. Он себе нравился сейчас: и то, что так спокойно и быстро оперировал, угадывая сегодня все осложнения в самой технике операции за несколько мгновений до того, как они открывались глазу, и на десяток-другой секунд прежде, чем это замечал и начинал понимать Сушенцов, не говоря уже об остальных; нравились и свои мысли, которыми он делился с окружающими, – мысли, связанные не только с операцией, но уже более сложные, обобщенные: о жизни, о смерти, о выборе, – и не одна лишь суть этих всех мыслей, но и то, как он высказывал их. Ему нравился сам процесс их оформления вслух, вне зависимости от того, следовать или не следовать им потом, претворять или не претворять в дальнейшем, а может, это-то как раз особенно и привлекало – впрочем, такое в себе самом уже и не сознается обычно, – что размышлять и наслаждаться мыслью можно вообще, ничем не поступаясь при этом конкретно – ни в себе, ни даже в своих привычках.
Улыбнувшись, Каретников сказал студенту:
– Вы, наверно, просто еще не успели заметить, что жить – это уже само по себе здорово. Это же... – Он умолк на секунду, и со стороны казалось, будто он припоминает что-то. – Это, если хотите, как бы не заслуженный нами подарок.
– Ну, уж чем так жить...
– Вы это потому говорите, – перебил Каретников студента, – что вы сейчас не для себя выбираете, а для него. И даже – за него. А по какому праву?.. Кетгут потолще, – сказал он операционной сестре. – И вообще... Иногда вдруг подумаешь: а ведь мы – если по-настоящему! – даже не догадываемся, насколько мы все благополучны. После того, как увидишь... вот это.
Все молчали в операционной. Наступила та пауза, какая бывает после чьей-то внезапной откровенности – откровенности, вдруг всех немного смутившей, потому что среди собравшихся вместе людей она не предусматривалась ни степенью их близости, ни готовностью к ней.
– И... и что же? – спросил после паузы Яков Давыдович. – Какой следует сделать вывод?
– А почаще на операции ходить, – сказал Сушенцов, не вкладывая, впрочем, в эти слова никакого серьезного для него смысла и не подозревая, как близок сейчас к этим словам был Андрей Михайлович. Но это могло быть вполне серьезной мыслью для себя одного, уже полушутливой – в разговорах с друзьями, и уж как-то совсем вроде бы несерьезной для совета всем остальным. Ибо между тем, что приемлемо для тебя, и тем, что подходит другим людям, всегда столько несовпадений, что кто же знает, какой тут может быть вывод.
Во всяком случае, ему, Каретникову, после таких вот операций, как сегодняшняя, многое из того, что в обычной, ежедневной, удовлетворяющей его жизни казалось значимым и важным, вдруг на какое-то мгновение виделось зряшным и пустым, не имеющим настоящей цены. И думалось иногда в такие минуты, что надо бы было, конечно, как-то все же не так жить, прямо с сегодняшнего же дня – не так.
Операции оставалось минут на двадцать, тут уж одна пластика шла, чтобы дефект был поменьше, и Каретников вспомнил, что надо, как обещал, созвониться с приятелями и решить, когда и где они встретятся сегодня.
Была пятница, святой банный их день.
13
Какое бы положение в обществе человек ни занимал, все равно жизнь в главном у всех одна и та же, с почти одинаковыми заботами и радостями, но, став профессором и заведующим кафедрой, Андрей Михайлович нет-нет а ловил себя на ощущении, что теперь эта жизнь в чем-то стала для него и чуть иной, когда одинаково-то одинаково для всех, но не только мера забот, а уже и способы радостей во многом другие, пусть хотя бы и в мелочах.
Одно, скажем, дело – ходить в баню, куда все ходят, или, во всяком случае, могут всегда пойти при желании, и совсем иначе ощущаешь себя, если твой банный день проходит в сауне одной из лучших гостиниц, где на несколько часов все устроено только для вас одних.
Чаще всего бывали они всемером – вариант наиболее устоявшийся: его коллеги профессора с других кафедр – терапевт, невропатолог и гинеколог, – он, Каретников, сам да еще трое, из которых один был известным тренером по плаванию, другой – главным инженером текстильного объединения, а третий – видным адвокатом, о ком при их первом знакомстве было сказано, что он входит в сильнейшую пятерку адвокатов, а он с серьезностью поправил: в сильнейшую тройку.
Хотя составилась эта компания довольно случайно, Андрей Михайлович ко многим из них питал определенную симпатию: с ними интересно было говорить, выслушать или самому рассказать анекдот, зная заранее, что будешь правильно понят. Кроме того, с большой долей уверенности можно было рассчитывать, что, случись вдруг тебе в ком-то из них надобность, он вовремя придет на помощь, только чтоб ты мог конкретно сказать, чем он может тебе быть полезен, то есть связано это должно быть не с общим каким-то сочувствием, а с деловым пониманием твоих нужд, чтобы можно было, сняв трубку, набрать чей-то телефон и попросить об услуге, помогая тебе.
Что ни говори, все же такие отношения были очень удобны. Они не обременяли неясностью, потому что с первых же дней, с банных их пятниц, у каждого сложилось твердое ощущение границ этих отношений, отчетливое понимание, какими обязанностями они между собой связаны и какую сумму чувств им полагается испытывать друг к другу.
Собираясь раз в неделю, чтобы на несколько часов расслабиться, сбросить груз забот, помолодеть и пообщаться в спокойной обстановке, они в то же время не были связаны между собой ничем иным, кроме дружеской легкой симпатии и приятности от сознания, что никакие посторонние силы и обстоятельства не навязали им этих отношений – ни какая бы то ни было зависимость по совместной работе, ни необходимость встречаться потом семьями по каким-нибудь праздникам или хотя бы время от времени поддерживать их приятельские отношения вне этих четырех банных дней в месяц.
Иногда кто-нибудь из них приводил с собой еще кого-то, и тот так же легко и непринужденно входил в их сложившуюся компанию, как когда-то каждый из них. При этом вовсе было не обязательно, чтобы этот человек и в другой раз явился или вообще когда-нибудь еще, ибо все строилось на достаточно полной взаимозаменяемости и на сугубой добровольности, когда в любой момент можно было прервать эти отношения, никак не обижая других и самому при этом не испытывая никакой неловкости, что как раз особенно ценилось ими.
Они уже так давно посещали по пятницам сауну, что не обсуждали, как бывало вначале, ни экипировку, ни способы оптимального потения, ни что предпочтительнее употреблять – пиво, крепкий чай с медом или просто коньяк. Личные вкусы, привычки и слабости каждого из них здесь не только учитывались, но и трогательно уважались остальными, и если известный тренер был наиболее неприхотливым, заходя в сауну буквально в чем мать родила, то другой, или третий, или любой из остальных шести не только не навязывал ему своих советов и своего понимания истины, но даже не чувствовал себя более профессиональным участником обжаривания в сауне оттого лишь, что он мог представить себя в этом оздоровительном процессе только обязательно в старой фетровой шляпе с обрезанными полями, либо в войлочных шлепанцах, либо в рукавицах, либо еще с какими-нибудь ухищрениями – в виде подстилки, например, – чтоб не так обжигало.
Приятно было и то, что заботилась об их комфорте женщина тоже вполне интеллигентная, с высшим гуманитарным образованием в прошлом, лет сорока с небольшим, уже, правда, довольно расплывшаяся, с двойным подбородком, но всегда очень ухоженная, с замечательно свежим лицом без единой морщинки, с чувством собственного достоинства, в чем-то, пожалуй, чуть даже и снисходительная к ним – не обидно, не так, чтобы задевать, напротив, еще и укрепляя в них ощущение удалой бесшабашности, размаха, мужской широты, – а вместе с тем и очень внимательная к ним, быстро запомнившая привычки каждого и накрывающая стол в холле перед сауной так, чтобы учесть, кто из них что предпочитает.
Они, все семеро, были разные, с выраженно индивидуальными вкусами (по крайней мере в сауне), и поэтому на изящно-грубоватом столе из дубовых досок были заранее приготовлены и коньяк, и какая-нибудь соленая рыбка, и копченая колбаса, и пиво в золотистых жестяных баночках, а если и бутылочное, то все равно не совсем обычное, чешское или польское, какого так просто не купишь. У них и свои излюбленные места за столом давно определились, и это она тоже безукоризненно помнила, что уже само по себе льстило их самолюбию.
Хозяйку этого стола они называли уважительно, по имени-отчеству – Ольга Павловна, – и даже излишняя полнота ее, вне зависимости от вкуса каждого из них за этими стенами, была им приятна, потому что очень уж как-то удивительно подходила некокетливая, спокойная, кустодиевская ее пышность к тому их состоянию блаженного умиротворения, которое наступало после сауны, когда они, откинувшись на спинки прочных дубовых кресел и помлев немного в махровых или холщовых простынях – тут тоже кто как хотел, – садились к столу, все так же укутанные по грудь этими простынями, прямо как римляне какие из заманчивой древности, и, попивая, закусывая, отдыхая, они, как говорил известный тренер, «бухтели», то есть неторопливо общались друг с другом. Они никогда ни по какому поводу не горячились, не спорили, а просто дружески беседовали, о чем только в голову не взбредет – то лениво и добродушно пошучивая и делясь новым анекдотцем, то рассказывая пикантную историйку из своей или чужой жизни – Ольга Павловна заходила редко, только чтоб справиться, не нужно ли чего принести, – а то, после легкой словесной разминки, заговаривали и о чем-нибудь более серьезном, чтобы чуть поинтеллектуальнее ощутить себя под простынями, но и тогда они скорее лишь обозначали тему, чутко соблюдая при этом ту меру, чтобы разговор не слишком затягивал и отвлекал, не превращался в решение каких-то проблем, которые и так-то не решить, в более подобающей обстановке, – отчего же еще и здесь себе настроение этим портить?
Потому, может быть, они и нуждались так друг в друге и вообще в подобном общении, что это был редкий случай, единственный, возможно, коллектив в жизни каждого из них, где все без исключения взаимно уважительны и любезны, ни один не подсиживает, не соревнуется с другим в успехах, никто никем здесь не командует и никому не подчиняется, их сообщество не требует к чему-нибудь такому приспосабливать себя, что тебе не по вкусу, и, вполне вероятно, в эти, пусть и немногие, часы у каждого из них появлялось столь дорогое сердцу мужчины ощущение полной своей независимости, неспешности бытия, покоя, родства душ, а значит – почти что счастья.
В предвкушении этого счастья, почти уже отключившись от недавних деловых обязанностей и забот, они, пока вшестером, стояли у гостиницы и, поглядывая на часы, дожидались видного адвоката, который принадлежал к первой тройке адвокатов города и, может быть, поэтому всегда обычно немного запаздывал.
Можно было, конечно, и без него пройти, но все понимали, что лучше бы дождаться, потому что их всех воспринимали лишь как обыкновенных клиентов, а видный адвокат навечно был личным дорогим гостем самого директора гостиницы, Ольга Павловна хорошо это знала, и появиться у нее под водительством адвоката, искусству которого директор гостиницы был обязан не только сохраненной своей должностью, но и, вероятно, несколькими годами жизни, было много разумнее. От этого больше, чем от их денег, зависели и уровень обслуживания, и изысканность ассортимента.
Адвокат, высокий, толстый, отдувающийся, с добрым лицом в очках, вышел из такси в сопровождении человека, внешне ему прямо противоположного – невысокого, худого, мрачноватого.
Адвокат страдал той слабостью, им всем давно известной, что невмоготу ему было одному знать, насколько он материально благополучен даже в сравнении с ними, тоже ведь не низкооплачиваемыми специалистами. Ему мало было, что ему хорошо, – ему очень хотелось, чтобы еще и другие обязательно об этом знали. И сейчас, не извинившись за опоздание, он с удовольствием, но как бы между прочим, очень просто и буднично сообщил им, что был далеко за городом, километрах в двухстах, – дачку одну смотрел для покупки, небольшое такое двухэтажное зданьице со всеми городскими удобствами, пришлось вот оттуда на такси спешить... Они, все остальные, не могли ни такой дачи своей собственной представить, ни даже позволить себе на такси так потратиться, но тем не менее все они понимающе и сочувственно закивали, словно и им близки были такие заботы. Один лишь Андрей Михайлович на этот раз неожиданно для себя заупрямился. Он вдруг подумал, что и в самом их ожидании, и в вечных опаздываниях адвоката – не от неточности или особенной занятости, а от ощущения их зависимости от него, – и в том, как они все – и он, Каретников, тоже! – подстраиваются под этот самодовольный, хвастливый тон, – есть во всем этом что-то унижающее их всех.
– Прямо ужас какие у нас заботы! – проговорил он с ехидным сочувствием и откровенно усмехнулся.
Кто-то из них удивленно и чуть осуждающе посмотрел на него, но гинеколог решительно поддержал:
– Правильно! В другой раз ждать не будем. Кто против?
«Хорошие у человека организаторские способности, – улыбнулся Каретников. – Ведь спроси он: «Кто – за?» – еще не известно, как проголосовали бы, а когда сразу «Кто против?» – это уж наверняка все будут «за». Любая форма отмалчивания – всегда нам легче дается, независимо от ее существа».
Адвоката озадачило их единодушие, и он, не зная, что ответить, да и нужно ли отвечать, вспомнил, что не представил им восьмого их компаньона. Пока они знакомились с ним, возникшая было неловкость и некоторая напряженность прошли, и очень их развеселила деловитая хватка нового партнера по бане, когда он, крепко пожимая руки, представился:
– Зубные коронки, мосты. Григорий...
Они, не приученные к такому способу знакомства, как-то, видимо, связанному с ускоренным прогрессом, говорили о себе по-старому, представляясь в ответ не специальностью, не своими возможностями, а именами или фамилиями, но все равно словно бы некая забавная игра получилась, когда адвокат, без тени улыбки, тут же называл за них, кто кем работает.
После первого захода в сауну они озабоченно обсудили, достаточна ли там температура, пришли в конце концов к выводу, что достаточна – тем более сидело в них тайное понимание, что никто уже им ее не изменит, будет уж такая температура, как есть, – и гинеколог показал им, какими он отличными японскими крючками для зимней рыбалки запасся. Кроме него, никто в этом не разбирался, но крючки и в самом деле были блестящими и казались вечными, а особенно понравилась упаковка, серебристая, красивая и большая, и поразило всех, что на десяток мелких крючков так расточительно она потрачена, совсем как будто на бережливых японцев не похоже. Тут, впрочем, начались некоторые разногласия: одни продолжали настаивать, что не похоже; другие же объясняли необходимость такого расточительства низкой покупательной способностью их населения и конкурентной борьбой между фирмами, отчего и приходится завлекать такой вот броской упаковкой. Затем от японских крючков перешли уже непосредственно к японцам, к тому, какая это трудолюбивая, талантливая, деловая нация, и в довершение кто-то вспомнил, что есть хорошая, объективная книжка одного нашего журналиста о Японии, а потом, хотя никому из них не нужно было этих крючков, они все же поинтересовались, где он, гинеколог, сумел достать их.
– Из своей профессии выудил, – кратко сказал он.
Когда где-нибудь собирается больше двух мужчин (иные считают, что достаточно, когда больше одного) и они никуда не спешат, проводя время в праздности, разговор почти непременно и о женщинах должен случиться. Он и здесь у разомлевших от сауны, под холодное пиво, произошел бы рано или поздно, но, очевидно, сейчас, по чисто внешней аналогии с профессией их приятеля, разговор начался раньше обычного.
Улыбнувшись какому-то воспоминанию и отирая благословенный пот со лба, невропатолог сказал:
– А вот интересная психологическая закономерность... Притом чисто женского свойства, и именно женщин замужних... Когда им становится известно, что чей-то муж изменил своей жене, они осуждают этого мужчину особенно строго и горячо, если оказывается, что жена его симпатичнее любовницы. В таких случаях они говорят: «И чего ему не хватало?!» Но совсем другая реакция, когда любовница интереснее жены. Тут они вроде бы понимают этого мужа. И совершенно снисходительны к нему. Вы не замечали?
Как же, как же – они что-то такое замечали. А если и не все замечали и никогда вообще не думали об этом раньше, то теперь уже вооружались этим пониманием на будущее и должны будут как-нибудь присмотреться.
Чистосердечнее всех оказался тренер, не постеснявшийся обнаружить свою неосведомленность вслух, и невропатолог стал охотно объяснять ему, что так как почти каждая женщина считает себя все же достаточно симпатичной, то мысленно она и подставляет себя только на место более симпатичной. И тогда получается, что если я – ну, женщина – ставлю себя на место обманутой жены, то «Как же он мог мне изменить, когда я гораздо симпатичнее этой шлюхи?!» А если я, женщина, представляю себя на месте любовницы, то «Ну, понятно, что изменил! Я же гораздо симпатичнее этой его дуры!»
– Хм-м... Любовница... – произнес очень уже полысевший терапевт, рыжевато-белесый и всегда бледный, даже после сауны. – Сейчас это слово вообще стало терять первоначальный смысл...
– Что ты, это еще рано! – воскликнул тренер. – Старик, сколько тебе лет?
– Да нет, я имею в виду, что когда говорили: «любовница» – предполагалось раньше, что речь не просто о постельной встрече...
– Конечно, – согласился тренер, – о многих встречах! Иначе...
– Как раз не в этом дело! – Несколько разволновавшись, бледный профессор терапии закурил. – Это связывалось все же с любовью или серьезной влюбленностью. Хотя бы на какое-то время. Значит, предполагало целый роман!.. Понимаете?
– Ну, старик, ты даешь! Где же столько времени взять?! Тут на тренировке чуть задержишься, а жена уже скандал!
– Но в баню же отпускает? – Григорий, то есть «зубные коронки, мосты», пошел к вешалке, вытащил из пиджака толстую записную книжку и подсел к Каретникову за стол. – Вот и скажи, что сюда идешь, а вместо этого...
– Ты что?! – всполошился тренер. – Это же бани лишиться!
Все посмеялись, Каретников тоже, но с недоумением он прислушивался к себе: что-то неинтересно, скучно ему было сегодня. Да и не очень верилось, что вообще раньше могло быть иначе. Хотя – почему же? Он всегда с удовольствием приходил сюда, охотно с ними всеми встречался, сам участвовал в подобных разговорах, и не помнится, чтобы это казалось ему таким уж глупым. В конце концов, по бане – и разговоры...
– Старик, ты чего сегодня скучный такой? – спросил тренер. Прямые жесткие волосы его торчали кпереди, лицо было худым, с вытянутым носом, и Каретников вдруг обнаружил, что тренер похож на сувенирного ежика.
– День был тяжелый, операция длинная... – неохотно ответил ему Каретников. – И вообще как-то...
– Простите, а чем вы занимаетесь? – поинтересовался Григорий, открывая зачем-то записную книжку.
– Хирург я, – сказал Каретников.
– По какой части хирург?
– По этой, – показал Каретников на свое лицо.
– Челюстно-лицевая? – понял Григорий. – Можно ваш телефончик? Если не возражаете... – Он почему-то остановился в записной книжке на букве «Ч», подумал секунду и вернулся на сколько-то листиков вперед, к букве «X».
– Пожалуйста. – Каретников покосился на записную книжку. – Но я – на «К».
– Как на «К»?
– Ну, Каретников. Или на «А» – Андрей Михайлович.
– Это неважно, – заверил Григорий. – Так просто удобнее, когда по специальности. Скажем, на «М» – все магазины, на «Т» – театры... А вас я на «X» запишу: «Хирург», – а в скобках пометим, что челюстно-лицевой.
– И все у вас так и записаны? – не поверил Каретников.
– Конечно! Это же очень удобно, если что-нибудь надо.
– А есть такие, что не надо?
– Таких сейчас не бывает, – снисходительно объяснил Григорий.
– А может, все-таки я – такой? Ну сами подумайте: зачем вам челюстно-лицевой хирург?
– Ну... а вдруг?! С вашей квалификацией...
– А кто вам сказал про мою квалификацию?
– Но вы же профессор? – Григорий, немного растерявшись, посмотрел на видного адвоката, однако тот в это время что-то рассказывал остальным. – Или нет?
– Да как будто профессор... – согласился Каретников.
– Вот видите! – обрадовался Григорий. – И ведь не обязательно, что вы лично мне понадобитесь. Мне, допустим, кто-нибудь другой понадобится, но ему, в свою очередь, как раз именно вы нужны. Или его знакомым... – Он с недоверием взглянул на Каретникова: неужели тут что-нибудь непонятно?! Ах да... – А если вам срочно понадобится мостик поставить – себе или... то всегда пожалуйста. На самом высшем уровне, и даже золото. Вот моя визитная карточка. В любое время...
– Ясно, – кивнул Каретников и, не зная, куда девать эту визитную карточку, положил ее возле себя на столе. – Записывайте... – Он усмехнулся. – На букву «X»...
– ...а враги этого патриция решили его уничтожить, – рассказывал адвокат, очень аппетитно заедая пиво нежной соленой рыбой. – Наняли профессиональных убийц... Но те вскоре отказались. Дело в том, что его везде, кроме церкви, усиленно охраняли, никак не подступиться...
– Так надо было прямо в церкви его и трахнуть! – посоветовал тренер.
– Они же верующие, – напомнил адвокат. – Для них – даже для убийц! – это было бы святотатством.
– Я всегда, мужики, считал: надо быть атеистом.
– Ну так вот... А хорошее пиво, холодненькое... И тогда для этого дела были наняты... Кто бы, вы думали? – Адвокат сделал паузу, но никто не догадался, и он, удовлетворенный этим, сказал: – Два священника! Они и совершили убийство прямо в церкви.
– Вот гады, а?! – изумился тренер. – Старик, а дальше?
– Что дальше? – пожал плечами адвокат. – Все. Мораль: они давно привыкли к святому месту и потому не боялись.







