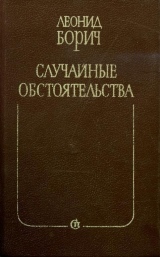
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 41 страниц)
– Пожалуй, несколько цинично, – улыбнулся Мохов, – но, в принципе, не лишено, не лишено...
– Выходит, в помощники я должен себе тупиц подбирать? – сказал Букреев.
Мохов разочарованно посмотрел на Букреева и вздохнул:
– Ох, Юрий Дмитриевич, привыкли мы с вами в море – все в лоб да в лоб. А земные дела – это тебе не «право на борт», тут и посложнее бывает.
– У меня, видно, всегда будет в лоб, – упрямо сказал Букреев. – Пока я командир лодки.
– А если завтра начальником штаба станете? – рассмеялся Мохов.
Букреев не понял, чем развеселил так Мохова, и спросил:
– А какая разница?
«Вот это и плохо, – подумал Мохов, – что никакой разницы ты не видишь. Но если тебя все же назначат?.. Работать-то вместе тогда...»
– Юрий Дмитриевич, – миролюбиво проговорил Мохов, – почему вы все хотите умнее начальства быть?
– Такой цели не ставлю, товарищ капитан первого ранга.
– А что на деле получается? Посылаю к вам корреспондента центральной газеты, не к кому-нибудь – к вам посылаю! А вы? – Мохов укоризненно посмотрел на Букреева. – Битый час доказываете ему, что ваши трюмные не совершили никакого подвига. О чем вы думаете?!
– Думаю – кому это надо?
– Что надо?!
– Да в подвиг превращать...
– Людям надо, Букреев. Людям!.. А вы забыли о них. Из-за своей сомнительной философии.
– Какой еще философии?
– Что надо, мол, плавать, а не подвиги совершать, – напомнил Мохов. – На чем же вы тогда воспитываете личный состав? На каких примерах?
– На примере с трюмными, товарищ капитан первого ранга.
– Букреев, – уже не сдерживаясь, процедил Мохов, – вы прежде всего военнослужащий. И потрудитесь поменьше философствовать.
– Есть, товарищ капитан первого ранга. Разрешите идти?
– Да. И учтите на будущее: у вас не «кузница кадров», а боевой корабль.
Букреев повернулся кругом – слишком уж четко, подумал Мохов, даже как-то подчеркнуто четко – и пошел к дверям.
– Кстати, – остановил его Мохов. – Хочу у вас штурмана забрать. «Тройка» через неделю в ремонт уходит, и там нужен помощник.
– Штурмана?! – Букрееву показалось на секунду, что он просто ослышался. Он еще мог понять, если бы Володина забирали плавать, но попусту тратить такого офицера!.. – Я не могу отдать своего штурмана...
– Мы с вами не в торговой сети работаем, – сухо напомнил Мохов. – И вообще я что-то не пойму вас: то вы всех продвигать хотите, через голову начальства даже к командующему полезли, а когда мы сами вам предлагаем...
– Володин мне нужен, – стоял на своем Букреев.
– Мы вас не оставим без штурмана, – сказал Мохов.
– Мне не штурман нужен, товарищ капитан первого ранга, а штурман Володин.
– На нем что, свет клином сошелся, что ли? – раздраженно сказал Мохов. – Я обещаю, что сразу дадим вам другого штурмана.
– Другой не будет Володиным, – упрямо проговорил Букреев.
– Ну и что? – удивился Мохов этому дремучему упрямству. – Незаменимых людей у нас нет, – убежденно сказал он. – Одни сходят, другие приходят... Все мы заменимые.
– У меня экипаж подводной лодки, – возразил Букреев, – а не коллектив автобуса.
– При чем тут автобус? – Мохов, с недоумением прищурив глаз, смотрел на Букреева.
– Автобусу все равно, кто сходит на остановке... Он все равно едет.
– А у других, по-вашему, автобусы? – с иронией спросил Мохов.
Букреев молчал, даже в молчании своем был упрямым, и Мохов сказал назидательно:
– Нельзя, Букреев, только о своем корабле думать. Надо за все соединение болеть. Штурман у вас действительно толковый... Но вы представляете: быть в ремонте без помощника?!
– Володин хорошим старпомом будет, – сказал Букреев. – Плавающим старпомом, а не доставалой запчастей. В конце концов, я же не для себя...
– Я тоже не для себя, – оборвал его Мохов. – А для пользы службы во вверенном мне соединении. Выполняйте...
Букреев, пока поднимался к себе на этаж, думал, что же делать теперь. Можно было поговорить с замполитом, чтобы и тот нажал по своей линии, но, во-первых, это значило бы, что он, Букреев, не надеется уже на свои силы, сдался, спасовал, а главное – могло так получиться, что, вмешав Ковалева в свой план, который внезапно пришел ему сейчас в голову, он, Букреев, как бы перекладывал тогда часть предстоящей вины, своей вины, на плечи замполита. А Букреев за свои действия приучен был отвечать лично.
23
По коридору, мимо ее каюты, быстро прошел Букреев. Узнав его шаги, Мария Викторовна сразу поняла, что он чем-то расстроен, но выйти, спросить, что случилось, она не могла: чего это вдруг она спрашивает? по какому праву? Еще и оборвет...
Интересно, он бы ссорился с ней когда-нибудь? Или она с ним? Но из-за чего бы им было ссориться?
Она попробовала специально придумать возможную причину – его грубость, например, или упрямство, или разные, скажем, вкусы (могли же у них быть разные вкусы, даже наверняка были!), но с этим все как-то не ладилось у нее, не могла она придумать никакой особенно веской причины для их ссоры, потому что и грубость его, и упрямство, и все-все, решительно все, что могло в нем быть и, наверное, было, не казалось ей достаточным для того, чтобы им ссориться. То есть он, пожалуй, когда-нибудь и мог обидеть ее, но ведь это бы все было невольным с его стороны, а главное – Мария Викторовна чувствовала, знала уже, что она-то сама не смогла бы по-настоящему обидеться на него. Ведь уже обижал...
Она попыталась вспомнить, а из-за чего же они с мужем иногда ссорились, но и эти причины – стоило ей только представить себе не мужа, а Букреева – тут же становились такими ничтожными и смешными, что не могли даже и в расчет приниматься.
Нет, у них все бы иначе было, совсем иначе... Она так ярко, в такой доступной возможности представила себе, как он по вечерам приходит домой после службы, моет руки, ужинает (он бы у нее ужинал только дома), потом, усевшись в кресло, просматривает газеты, она о чем-то спрашивает из кухни (не все ли равно, о чем?!), он рассеянно, невпопад отвечает ей, и это совсем не раздражает ее, как всегда раздражало раньше, а потом они вместе укладывают детей спать (детей? каких детей? – но от этого она скользнула в сторону, чтобы не распалась картина), и как вообще все хорошо... как хорошо... как хорошо могло у них быть, если б только они встретились когда-то, вовремя нашли друг друга...
Она вдруг расплакалась.
Она плакала и знала сейчас, что уже никогда-никогда у них так быть не сможет – так безбедно и легко, как она представила себе, – и не смогла бы она, наверно, оставить мужа, то есть как бы она смогла оставить его, если он так зависим от нее даже в любой мелочи – консервную банку сам открыть не умеет, – что уж там о работе говорить... И разве он, Букреев, бросил бы своих детей? Даже подумать дико...
«Размечталась, дурочка!..» – пожалела она себя, всхлипывая, и теперь уже обеспокоенно подумала, что в любую минуту кто-нибудь может войти сюда и увидеть ее слезы.
Но ведь могло, ведь было же ей все-таки раньше спокойно и хорошо!..
Спокойно – или хорошо? Она сразу же испугалась своего вопроса, торопливо ушла от него, как будто бы погасила, а может быть, просто от себя подальше спрятала, потому что помнить об этом вопросе было бы еще труднее...
Мария Викторовна почувствовала, что совсем, кажется, разболелась, надо было вчера не в кафе идти, а отлежаться в гостинице, принять на ночь аспирин... И ресницы размазались, нос покраснел, и как теперь идти в таком виде...
К нему?!
Но хотя бы узнать, что она ему совсем не нужна, хоть бы точно уже знать об этом, просто для себя знать, и успокоиться наконец.
«Нет, ни для чего серьезного ты ему не нужна», – подумала Мария Викторовна.
«А для несерьезного?»
Тут она растерялась: не ожидала от себя такого вопроса.
Она осторожно вытерла глаза и стала приводить себя в порядок. Ведь завтра ей улетать. Завтра уже поздно будет.
– И кого это черт несет! – с досадой пробормотал Букреев. – Входите!
– Меня черт несет, Юрий Дмитриевич, – сказала она, останавливаясь в дверях и стараясь улыбнуться. – Вы бы хоть поплотнее закрывали...
– Простите, – смутился Букреев и встал из-за стола. – Н-не знал...
– Мимо шла, – как бы извиняясь за вторжение, объяснила Мария Викторовна. – Голова прямо раскалывается... У вас случайно нет каких-нибудь таблеток?
– У меня?! – Букреев так удивленно посмотрел на нее, что она про себя тут же согласилась с ним: «Действительно глупо...» – а он, опасаясь, что она сейчас извинится и уйдет, уже шел к дверям. – В два счета вылечим, Мария Викторовна. Доктор у нас хороший... А вы садитесь, – заботливо предложил он.
Она с благодарностью улыбнулась ему и прошла в каюту.
– Дневальный! – крикнул Букреев. – Доктора ко мне. С таблетками от головной боли.
Зябко кутаясь в пуховый платок, наброшенный на плечи, Мария Викторовна грела ладони на батарее и сказала смущенно:
– Целый день не согреться... Еще и заболеешь перед самым отъездом. – Она посмотрела в окно и проговорила задумчиво: – А ваш сосед с утра ракеты грузит...
Букреев подошел к окну и остановился за ее спиной. Он стоял теперь так близко, что Мария Викторовна боялась даже пошевельнуться: ведь сделай малейшее движение – он еще и отодвинется, пожалуй...
Казарма была на самой вершине сопки, и отсюда хорошо просматривалась вся бухта с заиндевевшими спинами подводных лодок. Над ближним пирсом плыло в морозном клубящемся воздухе изящное тело ракеты, какое-то беспомощное и почти трогательное в крепких неуклюжих тисках подъемного крана.
– Хрупкая какая, – проговорила Мария Викторовна. – Как новогодняя игрушка.
– Эта «игрушка» может эскадру уничтожить, – усмехнулся Букреев. – Или город... Отличные ракеты.
– Вы так говорите об этом... – Она зябко повела плечами. – Тысячи жизней... И все зависит от какого-то пальца на кнопке «Пуск»... Не люблю за это военных! – неожиданно для себя сказала она.
«Детский сад», – снисходительно и ласково подумал Букреев.
– А что, собственно, вы предлагаете? – улыбнулся он.
Она чуть повернула голову и подумала:
«Если бы ты всегда так улыбался... Я бы, наверно, за этими таблетками еще раньше к тебе пришла».
– Демобилизовать Букреева! – решительно предложила она. – И соседа, который грузит вон ту ракету.
– Отличная мысль, – согласился Букреев. – Но надо ведь и тех командиров выгнать. Которые на той стороне. – Рука его махнула через все эти заснеженные сопки, как будто через половину земного шара. – Только сразу же выгнать, ни минутой позже.
– Значит, Букреева придется пока оставить? – вздохнула Мария Викторовна.
– И соседа тоже, – сказал Букреев.
Все время чувствуя его близость за спиной, она проговорила задумчиво:
– Как они ее бережно!.. Как ребенка...
Если он вдруг захочет поцеловать, что делать тогда?
Нет, он и не пытался...
– Я заметила, дети часто здесь играют в тревогу, – сказала она.
– Во всех военных городках играют, – подтвердил Букреев.
– Наверно, и ночью просыпаются, когда сирена гудит?
– Да нет, привыкли уже.
Даже не поцеловать – просто до плеча дотронуться, чтобы она обернулась. А там уж видно будет... Хоть намекнула бы: можно? нельзя?.. Или самому?
Букреев потоптался рядом, и Мария Викторовна услышала, как он медленно отошел к столу.
– Я почему-то подумала сейчас... – проговорила она, не оборачиваясь. – Вы ведь обязательно будете адмиралом, Юрий Дмитриевич.
«Нашла о чем говорить!..» – Букреев опустился в кресло.
– Совсем не уверен, – как-то безразлично ответил он.
– А я уверена! Такой вы... – Что-нибудь пообиднее захотелось сказать ему за все свои унижения перед ним – за то, что столько думала о нем в эти дни, что ждала каждой их встречи, и даже этим своим приходом тоже унизила себя (пусть он и не понял, зачем она здесь, но она-то сама ведь знала!), а он сидит, наверное, в кресле, благополучный, невозмутимый, глухой, жена любит, на службе всегда все в порядке... – Такой вы железный, правильный со всех сторон, – сказала Мария Викторовна. – Никаких в жизни колебаний, все вам ясно, себя не распускаете...
Удивленная его терпеливым молчанием, Мария Викторовна обернулась, увидела, как он почти покорно слушает ее, и растерялась. Ей сразу противным и глупым показался свой тон, ничтожными и несправедливыми все слова, которые она успела сказать, и, уже без всякой насмешки, Мария Викторовна лишь повторила теперь то, что действительно казалось ей неизбежным:
– Быть вам адмиралом...
– Это так важно сейчас? – хмуро спросил Букреев.
Она помедлила, беспомощно пожала плечами и сказала виновато:
– Нет, наверное... А что вообще сейчас важно?
– Что у меня моего штурмана хотят забрать. – Исподлобья глянув на нее, Букреев решительно добавил: – И что вы завтра уезжаете.
– А... куда его забирают? – через силу спросила Мария Викторовна, боясь ошибиться. Может, он пошутил.
– В ремонт, – рассердился на нее Букреев. Что же она, не поняла всего остального? Или просто не захотела услышать?
В дверь постучали.
– Прошу разрешения... – Переступив порог, Редько вопросительно смотрел на командира.
– Случилось что-нибудь? – с досадой спросил Букреев.
– Я и пришел узнать, товарищ командир...
– Таблетки... – подсказала Букрееву Мария Викторовна.
– А!.. Таблетки от головной боли, – вспомнил Букреев. – Принесли?
– Никак нет.
– Почему?
– Не умею я заочно лечить, товарищ командир, – объяснил Редько с достоинством. – Сначала осмотреть надо.
Мария Викторовна отвернулась к окну, пряча улыбку.
– Весело!.. – покосился на нее Букреев. – Не понимаю, чего тут мудрить? У человека... у меня голова болит. Вот и все дела! Тащите свои таблетки.
Поняв, что это приказание, Редько ответил «есть» и вышел из каюты.
Они снова остались одни, и вроде появилась теперь у них как бы некая общая тайна, маленькая, до смешного детская, но все-таки своя тайна с этими таблетками, которые нужны ведь были ей, а не Букрееву, и то, что, не сговариваясь, ни один из них не оплошал, не подвел другого в присутствии постороннего человека и, значит, сами они в какой-то мере уже не были посторонними друг другу, – как-то тут же объединило и сблизило их, и, пока Редько находился в каюте, они оба чувствовали это, но стоило только ему выйти, оставить их с глазу на глаз, как что-то сразу нарушилось. То недавнее понимание, которое еще минуту назад они, казалось, совершенно отчетливо ощутили, стало вдруг уходить куда-то, и, не зная, как помешать этому, они растерянно молчали.
Букреев постукивал карандашом по столу, а Мария Викторовна снова смотрела через окно на сопки и корабли, и оба прислушивались к шагам в коридоре, как будто только и надо им было этих таблеток дождаться.
– Зря вы его так... – сказала Мария Викторовна, подумав, что, если бы Редько был здесь, все бы, возможно, могло иначе сложиться: ведь при нем она и Букреев были почему-то ближе, чем сейчас, когда Редько вышел. – И вы никогда потом не мучаетесь, что зря обидели, зря накричали? – спросила она, чтобы хоть о чем-то говорить, чтобы не молчал он вот так растерянно.
– Так ведь железный, – невесело усмехнулся Букреев, напомнив ее же слова.
– Я и забыла, – улыбнулась Мария Викторовна, села в кресло напротив, взяла со стола какую-то толстую книгу, а ему понравилось, что она даже не спросила, можно ли, что она распоряжалась сейчас его креслом, его книгой, его временем как своими собственными, как их общими вещами и временем.
Взглянув на обложку, она удивленно сказала:
– Букреев и... и «Анна Каренина»?!
– Адмиралы тоже иногда Толстого читают, – хмуро пояснил Букреев. Его задело, что она так просто и легко перешла на другое, на первое попавшееся, хотя в том, что так и не случилось, что не договорено и не выяснено между ними, не только ведь он один виноват. Или для нее все это вообще было не таким уж и важным?..
Они встретились глазами, и Мария Викторовна вдруг поняла в нем то, что так часто понимала и чувствовала в других, но почему-то все никак до сих пор не могла понять и почувствовать в Букрееве: она поняла и почувствовала его состояние – неуверенность в себе, в ней, в том, как она относится к нему, и желание во всем этом разобраться наконец...
Стук в дверь уже не так раздосадовал ее, потому что она, кажется, поняла теперь для себя самое главное. И ничего не закончилось с приходом Редько и Володина, ничего не могло уже просто так закончиться в ее и в его, Букреева, жизни; по крайней мере не завтрашним же днем все оборвется, не с ее отъездом – не должно, не может так быть, не имеет права... Да, да, не имеет права, раз это достается так редко и трудно, раз оно зависит в жизни от стольких пустяков, случайностей, совпадений...
– План, товарищ командир, – сказал Володин, подавая бумаги.
Букреев недовольно посмотрел на него:
– Я, по-моему, только к семнадцати велел!
– Так точно. – Володин взглянул на часы. – Семнадцать ноль-ноль.
– Хм-м... Верно. Быстро время летит... – Ничего особенного вроде и не было сказано, но, сказав это, Букреев, даже не глядя на Марию Викторовну, знал, что она поняла только для нее и предназначенный смысл этих слов.
Он пробежал глазами план, не сделал, к удивлению Володина, ни одного замечания и расписался в левом верхнем углу.
– Все? – нетерпеливо спросил он.
– Вот таблетки, товарищ командир. – Редько положил на край стола пакетик.
Букреев покосился на Марию Викторовну, она чуть виновато пожала плечами, он понял, что голова уже не болит, и снова обрадовался, что понял это без слов.
– Пока дождешься от вас помощи!.. – проворчал он. – Ладно, раз уж принесли... – Букреев смирился и положил на язык таблетку. – Не повредят хоть?
– Это их главное достоинство, товарищ командир, – вмешался, улыбнувшись, Володин. – Как у всех хороших таблеток.
Букреев только подумал, что надо бы запить – давно не принимал никаких таблеток, – и Мария Викторовна уже передавала ему стакан с водой.
«Она вот сразу поняла, не то что они...» – удовлетворенно подумал Букреев, взял стакан, слегка коснувшись ее пальцев, и во всем этом тоже было какое-то значение – и в том, как он молча поблагодарил ее за догадливость, и в случайном прикосновении к ней, и в какой-то лишней, совсем не заметной доле секунды, на которую он продлил это прикосновение, и во всем, что не было сказано, не могло бы никогда быть объяснено, если бы он даже когда-нибудь и захотел объяснить...
– А Лев Толстой не очень жаловал вашего брата, – сказал, посмеиваясь, Букреев.
– Кого не жаловал? – переспросил Редько.
– Докторов. Одну, говорит, науку изучают, по одним и тем же книгам, а лечат – каждый по-своему.
– Над медициной все любят шутить, – заметил Редько. – Пока здоровы.
– Браво, Иван Федорович, браво! – рассмеялась Мария Викторовна и так тепло посмотрела на Букреева, как будто это не Редько, а он удачно ответил.
Ивану Федоровичу приятно было, что его слова ей понравились, и он решил, что сейчас, после такого удачного ответа, самый раз, пожалуй, и выйти.
– Прошу разрешения, товарищ командир?..
Нет, боялся он еще отпускать Володина и Редько, чтобы снова не повторилось то прежнее, когда они с Марией Викторовной вдвоем остались.
– Женить бы мне их надо, Мария Викторовна, – сказал Букреев, удерживая Редько и Володина в каюте. – Может, у вас в Ленинграде что-нибудь найдется приличное?
Букреев с удивлением думал, что все-таки это странно: одно лишь присутствие кого-то третьего не просто определяло, будет или не будет что-то сказано, но вот, даже и произнесенное, каждое слово обнаруживало вдруг какие-то дополнительные оттенки, возможности, значения, словно разбухало в своем объеме, и воспринималось уже как-то иначе, чем если бы он и Мария Викторовна были сейчас в каюте одни.
О чем бы постороннем они ни говорили сейчас – они разговаривали друг с другом, и Мария Викторовна охотно переспросила:
– Женить? А самим никак не найти?
– Как же тут угадаешь – одну? – улыбнулся Володин. – Вот, например, сказали бы мне или Ивану Федоровичу, что та, которая родилась для меня или для него, у нас в городке живет. Ведь все равно не найти. Приплывет само в руки – хорошо, а нет...
– Но находят же все-таки, – возразила Мария Викторовна. Она ожидала, что должен тут Букреев что-нибудь сказать, то есть ожидала, что он подтвердит: да, конечно, находят...
Нет, не подтвердил...
– Вообще-то, по теории вероятности, – рассудительно сказал Редько, – пожалуй, и можно найти.
– Знаем мы эти теории, – отмахнулся Володин. – Был, говорят, в Ленинграде во время войны один-единственный слон – и то в него бомба попала. Вот вам и теории!
– А даже найдешь, – вдруг проговорил Букреев, ни на кого не глядя, – так надо еще, чтоб и она тебя нашла, чтоб поняла...
Все-таки осторожно он покосился на нее, она поняла, о чем он, кому все это говорит, но что же она могла сейчас ответить и как ответить, чтобы только он один и понял...
«Отпусти их, – попросила она глазами. – Мы уже без них обойдемся, честное слово».
– Ладно, – подытожил Букреев, – все ясно. Свободны. Оба...
Володин и Редько переглянулись: пойми тут его – сам затеял этот разговор, и сам же вдруг оборвал...
«Ты та́к хотела?» – посмотрел на Марию Викторовну Букреев.
«Так, – призналась она, пока Володин и Редько выходили из каюты. – Спасибо, родной».
Дверь уже давно закрылась, а они молча все смотрели и смотрели друг на друга, и не мучились этим молчанием, и, наверное, не замечали его. И так они чутко улавливали каждое непроизнесенное, а только лишь подуманное слово, и столько было сказано нежного, хорошего, единственного, и так они были счастливы, так понятно счастливы, что теперь уже просто невозможным казалось, нелепым, необъяснимым, как же они раньше, с самого начала, с первой их встречи, с одного только взгляда, или хотя бы вчера, или сегодня утром, днем, еще какой-нибудь час назад – как же они, такие близкие и родные люди, даже и не догадывались об этом. Боязно было заговорить, шевельнуться, просто моргнуть глазом...
Это было незнакомое ему, острое, захватывающее чувство такой близости, такого родства, такого понимания, что с радостным недоумением, с ужасом он думал, что ведь могло же ему никогда и не выпасть такое, и до конца своих дней он так и считал бы, что другой жизни, чем та, которой он жил до сих пор и которой – рядом с ним и еще где-то – жили, и живут, и проживают свою жизнь многие другие люди, – что другой и не может быть, не бывает, что все это чуть-чуть придумано, чтобы легче жилось на свете, а если иногда он и позволял себе допустить, веря и не совсем веря, что такое, может, и случается, и бывает, что оно с кем-то и возможно, то все-таки не у него, не с ним...
Она была немного спокойнее: она чувствовала, знала, что такое может, должно бывать. Как же иначе? Зачем бы тогда все, все вокруг, если заранее знать, что такое не случается, не возможно?.. Не знала только, что это ей может выпасть, не понимала сейчас, за что же это именно ей...
– Видишь, вот как... – беспомощно сказал Букреев, не замечая, что говорит ей «ты». Он на ощупь потянулся за сигаретой, прикурил и жадно несколько раз затянулся. – Видишь, как все... Как оно все... – виновато повторил он.
– Не надо, прошу тебя! – Она испугалась. Испугалась, что он как будто извиняется за что-то. Перед ней, перед собой, перед кем-то – не должен он ни перед кем извиняться. – Ничего ведь не изменилось... Просто нашлись... Какое теперь имеет значение все остальное, раз нашлись?
– Как это – какое? Ты разве не понимаешь...
– Смешной... – проговорила она ласково, как ребенку, которому больно. Ведь все равно уже случилось. Что бы там ни было.
Нет, она, кажется, все-таки не понимала... Не глядя на нее, что-то бесцельно переставляя на своем столе, он сказал:
– А знаешь... Вчера мне дочка вдруг говорит: «Папа, ты даже не представляешь себе, как ты мне нужен»...
– Ну чего ты терзаешься? – Мария Викторовна грустно улыбнулась. – Не дура же я. Не такая уж дура...
И вопрос этот – «Как же быть-то теперь? Как быть?» – так и остался невысказанным, а были другие вопросы, которые они, перебивая и торопясь, задавали друг другу: «Ты знал?..», «Неужели ты понимала?..», «А помнишь?..», «А ты помнишь?..»
Как будто они встретились после долгой разлуки.
Они вспоминали, как все у них началось, как и когда каждый из них впервые что-то почувствовал, подумал, догадывался или подозревал, и как-то так выходило, что не она первая и не он первым это заметили в себе, потому что если вспоминала Мария Викторовна, то и он, вспомнив, считал, что в то же самое время, даже в ту же минуту и он тоже что-то почувствовал тогда, а если припоминал Букреев, то она тут же досказывала остальное.
И, все это вспоминая, и удивляясь, и радуясь каждому одинаковому предчувствию, и чувству, и общей какой-то мысли, которая, оказывается, уже тогда, раньше была у обоих, и любому совпадению взаимных опасений, неуверенности, обид, которые были теперь у них уже в прошлом, они не говорили только о будущем, старались пока об этом не думать, не затрагивать, случайно не коснуться, потому что хотя никто, ни в чем, ни перед кем не был виноват, но слишком все было переплетено, запутано, связано, слишком много это сулило боли. И хоть кричи, разбейся – а ничего не изменишь.
Но какое же это счастье, если так больно? Разве бывает такое счастье, то есть разве оно счастье?
Ведь вот, кажется, и пробились друг к другу, нашли, нашлись... Все это так. Все так... Только легче ли им будет от этого?
А другим, которые не нашлись, – легче?







