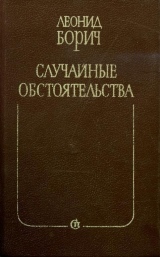
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
26
А Володин терпеливо выполнял все процедуры, удивляясь только, как много их ему назначили и как вообще, оказывается, много их существует.
Из его истории болезни дежурные сестры уже знали, что он холост, детей не имеет, что ему нет еще тридцати, а он уже капитан третьего ранга, и можно было легко подсчитать, что в тридцать шесть – тридцать семь лет он будет капитаном первого ранга, откуда до адмирала (а кому-то, значит, до адмиральской жены) уже рукой подать...
Но это все были стыдливые и бесхитростные мечтания в долгие ночные дежурства, потому что он им вообще-то нравился и в нынешнем своем звании, и даже в госпитальной пижаме с белым отложным воротничком; они жалели его, видя, как он осунулся от всех этих процедур, и даже намекали, что можно бы и пропустить что-нибудь, но Володин, беспокоясь, как бы врачи, случайно узнав об этом, не посчитали его тут же здоровым, обследовался на редкость добросовестно.
Услышав от Редько, какая у них теперь заварилась каша, он жалел командира, хотя, наверное, это была все-таки не совсем и жалость: как-то трудно и, пожалуй, невозможно было испытывать ему это чувство к Букрееву, потому что Володин просто не мог представить себе командира в состоянии, достойном сожаления, – нет, это, видимо, не было жалостью, а просто ощущал Володин какую-то вину перед ним, как будто не Букреев все это затеял, а он сам, и вот принес своему командиру столько неприятностей.
– Достается сейчас от него? – с сочувствием спросил Володин.
– Да нет, тихий он какой-то ходит, – удивленно сказал Редько. – Никому никаких разносов – не служба пошла, а мед.
– Странно... Как там Филькин?
– Он уже здесь. Я его на гауптвахту привез. Все к тебе рвался, но ты же знаешь, свободные места на «губе» только с утра бывают. Пришлось оставить.
– Иван, пора мне выписываться отсюда, – решительно сказал Володин.
– А ты ничего устроился, – Редько с удовлетворением оглядывал палату. – Как на курорте. Даже с цветочками... – Он наклонился к стакану на тумбочке, но цветы ничем не пахли. – И где это зимой их достают?..
– Ты слышишь? Мне здесь уже надоело. Даже похудел. На три кило.
– А на курортах мужчина и должен худеть, – невозмутимо сказал Редько. – Тут такие сестрички ходят!..
– Какие сестрички?! – с досадой сказал Володин. – Я уже от всех этих процедур... Мне, может, уже и не нужны никакие сестрички.
– Еще два-три дня, Серега. Осокин с морей вернется – тогда и выйдешь. Не подводить же командира!.. А пока мы с тобой все по науке делаем. Зря меня, что ли, в академии учили?
– А их разве не учили? – кивнул Володин на дверь.
– Ну, медицина – не математика. Это искусство, тут все по-разному бывает. А на нашей стороне еще и моральный фактор. Ты начальнику отделения жаловался, как я говорил?
– Ох, Иван, так нажалуешься, что с флота, чего доброго, погонят, – вздохнул Володин. – Из-за тебя мне теперь кишку глотать придется. А я не умею. В первый раз... Понимаешь?
– Что ты, в самом деле, слюни распустил? – с негодованием сказал Редько. – Он не умеет! А рожать в первый раз? Тоже никогда не приходилось, а... рожаем?!
Володин рассмеялся:
– Умеешь ты все-таки убеждать, Иван. Даже как будто полегче стало.
– А после разговора с врачом всегда должно быть легче. – Редько вспомнил, что привез Володину письмо, и полез в карман, хитро поглядывая на штурмана.
– Письмо? – заволновался Володин. – Что ж ты сразу... – Он протянул уже руку, и, пока Редько шарил по карманам и бормотал себе под нос, что, может, он не захватил, очень уж на автобус торопился, но чего волноваться, письмо не от родителей, так что ничего страшного, в следующий раз привезу, – Володин все понял, заулыбался, рука его просительно висела в воздухе, но не убирать же ее теперь, хотя нетерпение, которого он не сумел скрыть, все-таки смущало его. Впрочем, не совсем, оказывается, и смущало...
– Сейчас почитаешь или когда уеду? – Редько передал наконец письмо.
– А ты очень спешишь? – спросил Володин, еще издали узнавая почерк.
– А ты? – улыбнулся Редько. – Ты очень спешишь? – И глазами показал на конверт.
– Ваня, всего пять минут!.. – попросил Володин.
– Ладно, – великодушно согласился Редько. – Я пока к начальнику отделения схожу.
...Она писала «здравствуйте», обращалась к нему по-дружески тепло, почти ласково, в одном месте даже назвала «Сереженька» (он перечитал это несколько раз); но Володин немного разочаровался, потому что письмо было пусть и ласковым, а все-таки слишком как будто спокойным. Он, может, и сам хотел бы писать ей в таком же тоне, но у него в последнее время так не получалось: выходило то сдержанно-сухо, то сентиментально – даже самому противно становилось, а то почему-то чуть ли не развязно. И он пока что не отправил ей отсюда ни одного письма, хоть принимался за них каждый день.
А вчера он родителям так и ляпнул: «Не пора ли вашему сыну жениться?» Представил себе, как разволнуется мать, и вычеркнул это.
Да и начать надо было все-таки с Аллы, а не с родителей.
«Здравствуйте, Алла», – напишет он. Нет, это слишком сухо, как будто она ему просто знакомая. «Здравствуйте, Аллочка...»
Володин повторил, прислушался – и снова это было не то... Не то, что он должен был сказать ей в первой же строчке.
«С тех пор как я познакомился с Вами, я боюсь Вас потерять, милая и – увы! – уже, кажется, необходимая женщина... Видимо, не заслуженную тобой радость всегда боишься потерять...»
Нет, об этом не надо, подумал Володин. Всякую, наверно, радость боишься потерять, даже пусть и заслуженную. И потом... Не следует ее все-таки баловать такими признаниями... Но вообще, насколько помнил себя, он раньше всегда боялся не кого-то потерять, а потерять именно себя.
Письмо никак не сочинялось, и он подумал, что проще телеграмму дать.
«СДАЮСЬ ТЧК ОЧЕНЬ ПРОШУ СОГЛАСИЯ ТЧК СЕРГЕЙ».
Подумаешь, он сдается... Тчк... А может, ей и не нужно над тобой победы? Он, видите ли, сдается!
Надо совсем просто: «Очень прошу быть моей женой»...
Но стыдно же отправлять такую телеграмму...
Он представил себе, как заулыбаются на почте, и не только на почте – надо же еще через Редько передать...
Да, но если она вдруг возьмет и согласится? Значит, все тогда? «Прощай, мой табор, пою в последний раз»? Нет, пожалуй, лучше отложить пока с этой телеграммой. Вот приедем в Ленинград, осмотримся, тогда и решим...
Начальнику отделения Иван Федорович рассказал, какой у них штурман замечательный специалист и грамотный офицер – об этом, кстати, и в служебной характеристике написано, – но тут же, вздыхая и сокрушаясь, добавил на всякий случай, что есть вот у человека одна нехорошая черта: всегда старается скрыть свою болезнь, и только уж если совсем его припрет – только тогда, может быть, и пожалуется.
Начальник отделения, который почему-то всегда с особой симпатией относился к подводникам, все же немало дивился вниманию к Володину со стороны командования, поскольку начальство уже интересовалось, когда тот выпишется. А между тем все, что нашли у этого штурмана до сих пор, – очень умеренный гастрит, и, вообще говоря, уже сегодня его можно было выписывать. Так он и сказал своему коллеге.
– А на желчный пузырь он разве не жаловался? – удивился Редько.
Начальник отделения внимательно посмотрел на него и прямо спросил:
– Он что, ваш штурман, плавать не хочет?
– Что вы! – испугался Редько. – Еще как хочет!.. Но у нас скоро очень длительный поход, и командование просит уж как следует...
– Позвольте, – сказал недоумевая начальник отделения, – но ведь только позавчера, кажется, кто-то звонил от вас начальнику госпиталя... Этот... Мо... Мо...
– Мохов, – подсказал Редько. – Капитан первого ранга.
– Вот-вот, Мохов. А кем он у вас?
– Да так, – неопределенно сказал Редько, одной своей интонацией понизив того в глазах начальника отделения сразу на несколько ступеней. – Командир вот у нас – тот да!.. Букреев.
– А Мохов – кто же?
– Не-ет... – сказал Редько и махнул рукой. – Не-ет...
– Так этот ваш Мохов, – уже тоже чуть пренебрежительно сказал начальник отделения (мол, действительно, звонят кому не лень и только лечебный процесс затрудняют), – он просил почему-то быстрее решать с вашим штурманом.
– А Букреев? – напористо спросил Редько как о самом все-таки важном в их разговоре.
– Что – Букреев?
– Он не звонил еще?
– Не звонил, – ответил начальник отделения.
– Вот! – проговорил веско Редько. – Вы знаете, товарищ подполковник, куда мы собираемся? – Он оглянулся по сторонам, начальник отделения тоже невольно последовал его примеру, после чего Редько уже совершенно доверительно и очень тихо сказал со значением: – Туда... – Он показал пальцем куда-то вниз, под лестничную площадку, на которую они вышли.
– Понимаю, – кивнул подполковник, чуть подумав и чувствуя себя в какой-то мере приобщенным уже к военной тайне. – Ладно, еще дня три пообследуем, и если дуоденальное не даст какой-нибудь патологии...
Редько окончательно успокоился.
– Дуоденальное не даст, – машинально сказал он, но, увидев вопросительный взгляд начальника отделения, поспешно уточнил: – Я имел в виду, не должно дать...
– Ну, это еще посмотреть надо, – сдержанно и непреклонно сказал начальник отделения. Не мог же он в самом деле пускать в такое ответственное плавание без самой тщательной проверки.
27
Контр-адмирал Осокин только вернулся с моря, и, пока он, подтянутый, сухой, высокий, с коротким серебристым ежиком волос, переодевался, собираясь домой, Мохов докладывал обо всем, что произошло за две недели.
– И последнее: по делу Букреева...
– Какому «делу»? – удивленно спросил Осокин.
– Ну, как же... Мы тут уже неделю разбираемся.
Осокин с недоумением слушал своего начальника штаба, понял, что все уже выше пошло, только вот – как высоко?
– Командующему доложено своевременно, – успокоил его Мохов. Дескать, раз своевременно, то за все дальнейшее они с Осокиным уже не отвечали.
– Молодцом, – проговорил Осокин. – Все сумели согласовать. – Он зло усмехнулся. – Но уж кутить так кутить, Борис Николаевич. Я бы, пожалуй, еще и главкому доложил, чего уж там... Дело-то, можно сказать, го-су-дарственной важности, а?!
«Желтое у него все-таки лицо, – подумал Мохов. – И желудок, видно, дает себя знать, все время рукой щупает...»
– Может, и не государственной важности, – с достоинством ответил Мохов, довольный своим спокойствием перед Осокиным, – наверное, не государственной, но ведь все это до командующего дошло без нашего доклада. И я не мог не реагировать должным образом...
– Борис Николаевич, – поморщился Осокин, – ну при чем здесь командующий? Почему надо реагировать «должным образом» только тогда и оттого, что на это обратил внимание командующий? А если бы не обратил? Мнение ваше другим было, бы – так, что ли?
Мохов терпеливо молчал, с обидой думая о неблагодарности Осокина, о том, что именно благодаря его, Мохова, дальновидности Осокин не будет стоять на ковре у командующего и выслушивать неприятные слова в свой адрес. И вот награда...
– Когда-нибудь научимся немного рисковать, уважаемый Борис Николаевич? – спросил Осокин.
– Виноват, не понял...
– Я говорю: когда-нибудь рискнем свое мнение иметь? – Осокин надел шинель и, не глядя на Мохова, сказал: – Ладно, оставьте у меня это «дело», завтра разберусь. Не смею вас больше задерживать.
Когда Мохов вышел, Осокин позволил себе согнуться и постоять так, надавливая пальцами на то место, откуда шла боль. Через несколько минут стало вроде бы полегче.
Он еще посидел немного, вспомнил, что в ящике стола лежат таблетки, запил их холодным чаем и вызвал машину.
Букреев стоял перед Осокиным и, зная за собой вину, не обижался, что стоял он так, явившись по вызову, довольно долго, а Осокин, коротко взглянув на него, когда Букреев доложился, больше головы не поднимал и, сидя за столом, продолжал что-то писать.
Хорошо изучив своего командира, как это, впрочем, и положено подчиненному, Букреев все-таки удивлялся выдержке Осокина и, долгое время прослужив под началом людей совершенно иного склада – вспыльчивых, крутых и подчас в своей вспыльчивости несправедливых, – никак до сих пор не мог привыкнуть к спокойной, почти невозмутимой манере Осокина. Он даже усмехнулся про себя – хотя было сейчас не до веселья, – представив на минуту, как бы он сам, Букреев, разнес своего подчиненного за такую вот историю с госпиталем.
– Ну, докладывайте, что вы там у себя учинили, – сказал наконец Осокин.
– Непристойного ничего вроде бы не произошло, товарищ командир... – Очень все-таки не хотелось рассказывать об этом.
– По-моему, как раз непристойное и произошло, – не отрываясь от своей работы, очень спокойно проговорил Осокин. – Почему вовремя Мохову не доложили?
– Не успел, товарищ командир, – ответил Букреев, тут же с неудовольствием подумав, что звучит это совсем как-то по-школярски и подобное объяснение со стороны своих офицеров его бы самого взбесило, ибо что же вообще успевает тогда подчиненный, если он и докладывать-то вовремя не успевает.
– Чем же он так срочно заболел у вас? – поинтересовался Осокин.
То, что Букреев говорил не всю правду, – в этом Осокин не сомневался, как, впрочем, и Букреев совершенно твердо знал, что тот и без ответов Букреева прекрасно все понимает.
– Он не срочно, товарищ командир. Просто раньше я не мог его отпустить, не имел возможности. А сейчас его положили по чисто медицинским показаниям...
– Тогда у меня к вам еще один вопрос... С каких пор вашей лодкой врачи командуют? – почти вежливо спросил Осокин.
Спокойствие адмирала начинало уже изматывать, и Букреев подумал, как бы хорошо было, если б Осокин сорвался, вспылил, накричал, и тогда не требовалось бы этих глупых оправданий, потому что в крике их от тебя и не ждут, а, возмущенные твоим своеволием, просто наказывают – и дело с концом. Тогда, может, Осокин – хоть на время – забыл бы пока о штурмане.
Но Осокин и о штурмане помнил, и Букреева не очень спешил наказывать. Он даже подумал расслабленно, что вообще трудно сказать, как бы он сам поступил в таком случае на месте Букреева. Ведь растил, растил офицера, отличного штурмана сделал – пожалуй, лучшего у них штурмана. Видимо, и в старпомы прочил, когда Варламов на повышение пойдет... Готовил, и вдруг чужому дяде отдавай. В интересах дела...
А ведь прав, кажется, именно Букреев. Наверное, прав... А мимо пройти нельзя, потому что это все-таки непорядок. Пусть уж лучше тогда несправедливость... За инициативу хвалим, хотя, случается, за нее же и попадает, но уж тем обязательнее тогда – за своевольство наказывать. Чтоб не только тебе, но – главное – и другим неповадно было. Указание Мохова – это прежде всего указание начальника штаба. Служба, уставы, Юрий Дмитриевич, обязывают... Как же потом с других требовать, если тебя не уестествить? Другие-то командиры смотрят и ждут: чем все окончится? И решают, как им самим впредь поступать в подобных случаях: отдавать своих офицеров, не споря с начальством, даже если и прав, или как Букреев – по госпиталям их прятать, или еще как-нибудь, пока все утихнет.
А хочется, чтоб никогда не возражали, пусть хоть и разумно?
Ну, лет десять назад хотелось. Лестно было бы. Гонору побольше имел, а уверенности, что сможешь управлять всем этим, не хватало тогда. Втайне от других даже удивлялся порой: управляется вроде! Но время от времени все же еще и доказывал это – и себе, и другим... Щедро «фитили» раздавал своим подчиненным – начальники считали тебя тогда очень требовательным командиром. А подчиненные?.. Вот потому и наказывал: чтоб не забывали, что ты – их командир...
– Сколько же продержался ваш штурман? – не глядя на Букреева, спросил он.
– Десять дней, товарищ командир. Еще должен был... – сказал Букреев, и это, видимо, означало не «должен был», а «мог», то есть мог продержаться как угодно долго – такой, мол, у него штурман. – Но выписан по настоянию Мохова. Да и... можно уже было...
Почему «можно уже» – Осокин понял...
– Вы хотели сказать, по настоянию капитана первого ранга Мохова, – строго поправил он, подчеркивая звание Мохова. Букреев был все же подчиненным и не должен был забывать этого.
– Товарища капитана первого ранга Мохова, – согласился Букреев. Так согласился, что лучше бы уж промолчал.
– Признан, конечно, годным? – спросил о штурмане Осокин.
– Так точно, товарищ командир.
– Он категорически отказывается от новой должности?
– Он не от должности отказывается, – сказал Букреев, – а от должности в другом экипаже. На моем корабле сегодня утром приступил к командованию штурманской боевой частью.
– Что ж, мы неволить не будем. Но когда уйдет ваш помощник и вы захотите поставить на его место штурмана, мы подумаем, целесообразно ли предлагать должность, от которой ваш штурман уже отказался.
– Захочу поставить штурмана, товарищ командир, – подтвердил Букреев.
«Ох, как ты себе сам жизнь усложняешь», – вздохнул Осокин и подумал, что хлопотно все же иметь таких подчиненных, как Букреев. Правда, хлопотно только на берегу... Но сам бы за Букреева тоже дрался, а? Дрался бы, сказал себе Осокин, чувствуя, что не слукавил и что это, оказывается, все-таки приятно, если до сих пор еще имеешь иногда желание тоже усложнять себе жизнь.
А странно все-таки: и решил ведь уже не трогать Володина – в чем-то, может быть, просто назло Мохову, наперекор всей этой шумихе, – а вот надо сейчас так объясниться, чтобы Букреев не понял эту уступку как личное к нему расположение, не воспринял как свою победу.
– У вас через неделю длительное плавание, давайте так и решим, – подытожил Осокин. – Штурмана пока оставляю, не хочется давать вам другого человека перед таким делом.
– Есть оставить штурмана на корабле, – удовлетворенно сказал Букреев. Автономка, потом отпуск, а там, может, и забудется...
«Ты подожди радоваться, – глядя на Букреева, думал Осокин. – Твое-то наказание впереди. И теперь построже придется, чтобы начальство упредить... Не станут же из-за этого случая отменять мою меру взыскания. А дважды за одно не наказывают, так уставы говорят. Значит, скорее всего, обойдется нашими местными деяниями... Ничего, и тебе на пользу, и остальным в поучение. А вернешься после автономки – там посмотрим...»
– Погодите радоваться, Юрий Дмитриевич, – сказал Осокин. – За стойкость, проявленную в госпитале при выполнении вашего сомнительного указания, вы своего штурмана хоть поощряйте там как хотите, а я перед ужином собираю командиров...
– Есть прибыть для наказания, – понял Букреев.
Осокин усмехнулся такой понятливости и добавил уже совсем почти благосклонно:
– Формулировку, честно говоря, я еще не придумал. Обманом назвать – не хочется. Авантюрой?.. Так нет же такой формулировки... Но мы-то с вами ведь знаем за что?
– Знаем, товарищ командир.
– Тогда все, Юрий Дмитриевич. А мораль по этому прискорбному случаю... Ну, сами потом в баснях подберите.
– Ясно, товарищ командир. Если не найти будет, с замполитом посоветуюсь. Он начитанный...
Осокин улыбнулся.
– Что, бывают стычки? – спросил он.
– По-разному бывает... – Букреев пожал плечами.
– Хотел бы с другим служить? Только честно...
– С этим бы хотел, – подумав, сказал Букреев.
– Почему?
– Не знаю, – честно сказал Букреев.
– Ну, ладно... Вопросы ко мне есть какие-нибудь?
Какие же у Букреева могли быть вопросы?.. Не было у него вопросов.
28
Тихой звездной ночью Букреев и Ковалев шли с чемоданчиками к базе подплава. Гулко звенела под ногами зимняя укатанная дорога, как будто внизу, под ней, была пустота, морозно похрустывал чистый легкий снежок, переливались в небе слегка размазанные сполохи полярного сияния, серебрились и голубели сопки.
Сегодня – и теперь уже надолго, очень надолго – для них снова начиналось море, и все, что сейчас окружало их, воспринималось и чувствовалось особенно остро, даже с некоторой грустью, и хотелось все это запомнить, как бы унести с собой, потому что через несколько часов они всего этого должны были лишиться.
Еще не настолько отошли от городка, чтобы забыть уже о недавнем прощании, проникнуться другими заботами, говорить о корабельных делах.
Мыслями Букреев был еще дома, вспоминал, как Андрюшка, сидя у него на колене, все рвался в детскую комнату к новым своим игрушкам – у сына всегда появлялось много игрушек перед тем, как отец уходил в море. А вот Светланка – та, конечно, все понимала, она не отходила от него весь вечер, за столом трогательно заботилась о нем и только спросила, когда он вернется. Букреев назвал приблизительный день, назвал месяц, дочка вздохнула, переспросила на всякий случай – уж очень далеко отстоял тот, названный отцом, месяц от месяца нынешнего, – а потом красным праздничным цветом, как свои каникулы, обвела в школьном календаре эту цифру.
Жена держалась почти спокойно, озабоченно спрашивала, не забыл ли он взять еще какую-то рубашку, сама все пересмотрела в чемодане, а он, чуть отстраненно глядя на нее, думал, что она преданная жена, что она любит его, что она заслуживает самого доброго отношения, что она, наконец, мать его детям. И еще он подумал, что Ольга все-таки многим должна нравиться, наверно... То, что она красивая женщина, он обычно замечал всегда дважды: когда надолго уходил в море и когда возвращался.
...Здесь, на дороге, был поворот, откуда еще видны крайние дома городка. Не сговариваясь, Букреев и Ковалев остановились, посмотрели назад, молча постояли, закурили и двинулись дальше, к базе подплава.
– Странно, – сказал Ковалев, потянув носом. – Как будто весной запахло.
– Это разлука, – усмехнулся Букреев. – Она, по-моему, всегда так пахнет.
– Вернемся – над сопками уже солнце покажется, – сказал Ковалев.
– Слушай, Максим Петрович... Тебе случалось когда-нибудь голову терять? – спросил вдруг Букреев.
Ковалев с удивлением, а потом уже и несколько озадаченно взглянул на Букреева.
– Это в каком же смысле?
– А в первобытном, – улыбнулся Букреев. – В сердечном...
– Да как тебе сказать...
– Только не темни. Было, нет?
– Было как-то...
– До жены еще?
– Ну, разумеется! Теперь бы уже вряд ли, все-таки не мальчишка.
– Один вот тоже, как ты, зарекался, – сказал Букреев.
– Кто-нибудь из наших?
– Да нет, на востоке плавает. Приятель...
– И это у него серьезно? – спросил Ковалев.
– Серьезно, – кивнул Букреев. – Хоть и сказано во всех его аттестациях, что морально устойчив.
Ковалев замялся, подыскивая слова.
– Они что же... видятся?
– Деликатный ты человек, – усмехнулся Букреев. – Нет, Максим Петрович, в этом плане у них все по-пионерски. Никакого бытового разложения, одно только моральное...
Ковалев удивился, как близко Букреев принимает все это, искоса взглянул на него, но тут же поспешно отвел глаза.
– Говорят, в чужую жену черт всегда ложку меда кладет, – осторожно сказал Ковалев. – И умная, кажется, и красивая, и понимает, как никто другой... А пройдет какое-то время...
– Про черта – это, конечно, мудрая поговорка, – согласился Букреев. – Жаль, приятель о ней не знает: сразу бы полегчало.
– Что же теперь? – спросил Ковалев.
– Что!.. Если б в торпедную атаку выходить – знал бы. Или вот место корабля определить... Чего уж проще: широта, долгота – и все тебе измерения.
– Да, – согласился Ковалев. – Если на плоскости. На уровне моря.
– А тебе обязательно еще и глубину подавай? – невесело усмехнулся Букреев. – Чтобы все три измерения были? Но ведь, бывает, и в двух живут.
– Живут. – Ковалев пожал плечами. – Да не всем, наверно, уложиться. Так ведь?
«Вроде бы так», – подумал Букреев.
Но и так – что бы с ним уже когда-нибудь ни случалось, что бы ни происходило в жизни – он знал теперь и всегда уже будет знать, что есть где-то, пусть и не рядом, родная душа, которая должна – должна же! – чувствовать каждую его плохую и каждую хорошую минуту, которая всегда все поймет и которую у него ничто уже не отнимет – ни время, ни обстоятельства, ни вся оставшаяся ему жизнь. Только никогда, никому он даже не сможет сказать об этом...
Они уже шли по пирсу, ступили на трап, дежурный офицер подал «смирно», старший помощник доложил, что корабль к бою и походу готов, и на Букреева с этой минуты сразу нахлынули обычные для него большие и маленькие заботы.
Ненадолго спустившись в свою каюту, он переоделся в канадку и сапоги, прошел с Ковалевым и старпомом по отсекам, принял все положенные доклады, поднялся на мостик, а спустя некоторое время лодка чуть вздрогнула, ожила и из динамика послышался голос вахтенного механика:
– Товарищ командир! Турбине даны пробные обороты. Замечаний нет.
– Добро, – сказал Букреев. – Швартовным командам приготовиться к выходу наверх.
Ветер прижимал лодку к пирсу, и Букреев, осторожно работая левой машиной, скомандовал отдать носовой. Филькин немного замешкался, опоздал, пришлось стопорить ход, командовать теперь «самый малый вперед», чтобы дать слабину, корму понесло ветром на пирс, и, одерживая ее, Букреев ругнул про себя нерасторопного Филькина, который возглавлял носовую швартовную команду и которого гауптвахта ничему вроде не научила. Впрочем, чему она могла его научить?..
– В носу! – крикнул в мегафон Букреев. – Кто же так командует?! Потравить носовой! – Воздух был морозный, стеклянный, и слова Букреева разнеслись далеко вокруг.
Филькин вконец растерялся. Ему было стыдно перед матросами, перед командиром и перед теми, кто с пирса и с соседних лодок наблюдал, как лодка Букреева выходит в море.
Филькин засуетился, торопливо перебегая от одного матроса к другому, сам хватался за швартовный конец, – ему казалось, что именно его рук сейчас-то и недостает, чтобы все наконец получилось, – потом вспомнил, что ведь ему все же и руководить как-то надо, и тогда он принялся отдавать приказания, но они тут же казались ему самому неправильными, он отменял их, чувствуя, что снова, наверное, ошибся.
Букреев уже справился с управлением, за корму можно было не опасаться, и он очень спокойно проговорил в мегафон:
– Веселее, Филькин! Веселее командовать!..
Филькин слабо улыбнулся, неожиданное спокойствие командира немного успокоило и его: ничего, значит, страшного, непоправимого еще не случилось, – он оставил скользкий швартовный конец, который опять почему-то оказался в руках, глянул на пирс, прикинул, чего сейчас может ждать от него командир, чего бы он сам, Филькин, хотел в эти секунды от швартовной команды, если бы стоял на мостике, и, уловив то мгновение, за которым снова будет поздно, промедли он хоть секунду, громко и совсем почти уверенно отдал приказание своим морякам.
Все вдруг получилось как-то неожиданно, сразу, Филькин с облегчением вздохнул, утер незаметно пот со лба, оставляя грязный размазанный след от рукавицы, победно глянул на уходящий от них пирс, увидел, как ширится прямо на глазах полоса черной воды, поправил спасательный жилет и, выстроив швартовную команду, осторожно покосился на мостик.
– Молодцом, Филькин! – громко сказал в мегафон Букреев. Он посмотрел на пирс, увидел сиротливый трап на берегу и подумал, что сколько бы ни плавал, а это всегда замечаешь: всегда обращаешь внимание, что трап остается на берегу...
– А, черт! – вспомнил Букреев и наклонился к трансляции: – Бобрика на мостик!
– Что-нибудь случилось? – спросил Ковалев.
– Да забыл про соль спросить! Мы однажды тоже вот так ушли, а соль не взяли. Даже вспоминать тошно... Солили все морской водой.
– С тех пор и спрашиваешь? – улыбнулся Ковалев.
– Теперь только об этом и спрашиваю, – пробормотал Букреев.
Выскочив на мостик, мичман Бобрик скороговоркой доложился и обеспокоенно посмотрел на командира.
– Соль захватили? – обернулся к нему Букреев.
– Как же можно, товарищ командир!.. – обиделся Бобрик. – Неужели мы...
– Еще как можно!.. – успокоился Букреев.
Уже уходили, раздвигаясь, берега, и, стоя на мостике, Букреев с одобрением прислушивался к ровному гулу турбины.
Начиналась другая жизнь, привычная для него работа, и нужно было думать теперь только об одном: как лучше эту работу сделать.







