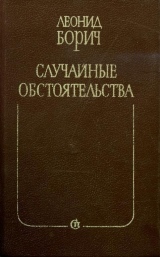
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
То, о чем сейчас беспокоился Андрей Михайлович, когда он вышел к трибуне, было скорее не заботой о существе его доклада – тут он знал, что справится, – а заботой о том, чтобы с самого начала расположить к себе аудиторию.
– Глубокоуважаемым коллегам давно известна та истина, что обладание рентгеновским аппаратом еще не обязывает лечить все болезни рентгеновскими лучами, – начал Каретников. – В этом смысле и предлагаемый вашему вниманию метод – мы это вполне осознаем – тоже не является...
Он коротко взглянул на ближайший к нему ряд. Пока все хорошо было: и интерес к первым же его словам, и уже некоторая благожелательность к тому, что он признал за ними давнее знание истины и заранее оговорил, что предлагаемый метод отнюдь не панацея, и он, автор, вполне отдает себе отчет в скромности достигнутого. Впрочем, Каретников не расхолаживал себя первоначальной удачей и не особенно обольщался. Предупредительная вежливость друг к другу и даже умение по достоинству оценить конкретную работу вовсе не исключали ревнивого приглядывания к чужому успеху, постоянного, пусть и невольного, соотнесения его со своим собственным, чуткого улавливания малейшей неточности, натяжки или слабого места в твоем докладе.
Умышленно подробно остановился Андрей Михайлович и на неудачах, которые были невыгодны ему, ибо заметно ухудшали статистику благоприятных исходов. Но говорил он об этом так откровенно, не пытаясь хоть сколько-нибудь смягчить, что, как он и предполагал, это настроило его оппонентов даже сочувственно, потому что частные неудачи, о которых он рассказал сейчас, лишь тонко подчеркнули достоинства главного его вывода и главных цифр.
После доклада вопросов было сравнительно немного. Кто-то из задних рядов, что под самым потолком, сказал:
– Новое направление ваших исследований потребует в скором времени отказать в стационарном лечении десяткам больных, которые будут уже «не вашего» профиля. Вы подумали об их судьбе?
Видимо, поликлинический врач, понял Каретников. Оттого и беспокоится, куда же ему потом направлять таких больных. Но мог бы, пожалуй, и покорректнее сформулировать свой вопрос, да и сам тон слишком задиристый, «не по чину», словно в чем-то обличает...
– Да, мы подумали об этом, – чуть улыбнулся ему Каретников, показывая молодому коллеге, что понимает причину его беспокойства. – Таких больных вы сможете направлять в любые общехирургические учреждения. Договоренность с горздравом уже есть... Но зато мы возьмем к себе тех, для кого в городе вообще не налажена пока никакая специализированная помощь.
– Удовлетворены ответом? – спросил председательствующий.
– Спасибо. Удовлетворен.
Еще был вопрос:
– Вы – хирург! – больше всего говорили о противопоказаниях к оперативному вмешательству. Это, согласитесь, странно...
– Разве? Я исходил из того положения, что, как любил подчеркивать мой учитель Александр Иванович, операция, в конце концов, это всего лишь вопрос техники. Воздержание от нее – это уже область ума.
– Допустим, что мы умные...
– Не надо, – попросил другой голос из зала.
– Нет, а все-таки, – не унимался первый, обращаясь к Каретникову, – где прочитать подробнее о технике вашей операции?
– Месяцев через восемь – в «Вестнике хирургии».
– Долго ждать!
– Это еще по блату! – улыбнулся Каретников.
Еще вопрос:
– Если я правильно понял, в результате предложенной вами методики частота рецидивов уменьшилась на семь процентов. Всего на семь?!
– Конечно, не густо, – согласился Каретников. – Хотелось бы большего...
– Но стоит ли тогда овчинка выделки?
«Скорняк какой нашелся», – подумал Каретников. Не так откровенно, как этот парень, но и Сушенцов ему намекнул про эту самую овчинку... А недавно молодец из «скорой помощи» сказал, например, соседям: «Что вы хотите? Значит, не могли раньше приехать! Были помоложе больные. А ей, извините, пора уже...»
Мы в свое время только вслух это не говорили – или все же действительно даже не думали так?
– Тут, наверно, лишь один выход, – сказал Каретников, – на себя примерять... Исследовано сто четырнадцать случаев. Все, разумеется, понимают, что речь идет о летальных исходах. Следовательно, восемь человек из них жили бы до сих пор. Если вообразить себя на месте кого-нибудь из них... Когда альтернативы просто не существует – так ли уж мала эта цифра?
Председательствующий, озабоченно взглянув на часы, спросил, нет ли еще каких вопросов к докладчику, и то ли жест его всем напомнил о позднем времени и каждый именно сейчас почувствовал усталость, а может, и то еще, что как-то не хотелось представлять себя на месте кого-нибудь из тех, кто мог бы жить, но уже не жил, – вопросов после этого больше не было, и председательствующий прибегнул к той обычной, всеми ожидаемой формуле, которая тем не менее всегда льстит самолюбию докладчика:
– Разрешите поблагодарить Андрея Михайловича за интересное сообщение...
8
Судьба докторской диссертации подвержена чаще всего той закономерности, что либо сидишь над ней как проклятый и делаешь ее в несколько лет, либо тянешь с этим годами, и тогда чем больше проходит времени, тем призрачнее надежда, что вообще когда-нибудь закончишь ее. Видимо, и Иван Фомич слишком долго писал свою докторскую, чтобы теперь, по прошествии многих лет, даже самому серьезно верить в благополучный исход.
Находить при шефе время для долгих и кропотливых исследований было, конечно, нелегко, потому что покойный Александр Иванович во многих своих идеях, которыми он щедро делился, был интуитивно настолько уверен, что часто они уже считались им как бы вполне осуществленными. Потом та или иная из его догадок и в самом деле подтверждалась где-нибудь в других институтах, но останавливаться надолго для проверки каких-то досадных частностей он не желал, ему это было неинтересно. Он все время был первопроходцем – с теми, видимо, почти обязательными потерями, когда, стремясь и стремясь вперед, даже не всегда успеваешь застолбить, как-то обозначить своей фамилией ту местность, которую оставил за спиной, и теперь уже другие, пришедшие сюда после тебя, хотя и не открывают этих земель, а все же именно они скрупулезно разрабатывают ее недра и по-настоящему пользуются ее плодами. А Александр Иванович только морщился, выходил из себя, если случалось, что кто-то из его сотрудников чересчур, по его мнению, надолго застревал на чем-нибудь конкретном.
– Не получается? – удивлялся он, выпятив свою челюсть, большую и тяжелую, как у бульдога. – Странно. Должно получиться. Тогда вот что давайте... – И он предлагал нечто совсем другое, очередную какую-нибудь заманчивую идею, но уже никак с предыдущей не связанную.
Как же тут было поспеть за ним Ивану Фомичу, как всерьез докторской диссертацией заняться, если на нем, ближайшем заместителе, еще и все кафедральные заботы лежали, потому что шеф занимался только наукой – остальное обычно лишь раздражало его, – да всего несколько лекций за курс прочитывал. Конечно, соглашался про себя Иван Фомич, все это блеск, феерия, так сказать. Каскад идей, взгляд на десяток лет вперед, и не только узкая их специальность, но и философия медицины, и врачебная этика, и примеры из художественной литературы... Все это было интересно: общая, как говорится, культура, врачебное мышление у студентов воспитывается – Иван Фомич даже и с собой об этом не спорил, – заманчиво все, конечно, и это... кругозор расширяется, но надо же и другое понимать: окажутся вот они завтра, нынешние студенты, на самостоятельной работе, где-нибудь в глубинке, за тыщу верст от кафедры, одни, как это... да, как перст, и посоветоваться не с кем – что тогда? А тогда – самое обыкновенное ремесло с них потребуется, умение руками – руками! – работать... А то все сейчас обо всем знают, понахватались модных теорий, научились гладко мысли излагать, с первого же курса одну только науку им подавай, а вот что-нибудь простое, самую, например, элементарную флегмону вскрыть – не умеют. Или с больным поговорить, внимательно разобраться в его жалобах... Больного же чувствовать надо! Потому что – что же? Наука-то – ради кого она вся?
И он, Иван Фомич, трудно подбирая слова, перечислял под диктовку, когда читал лекции, прежде всего самое конкретное, самое необходимое, говоря, что нечего им пока в дебри лезть, а надо твердо рукомесло освоить, чтоб, если ночью разбудят, если всего какие-то минуты на решение дается, ты, не мудрствуя, знал: сначала вот это делаем, потом это, это, так и так, и любил приводить один и тот же пример, вычитанный им когда-то из статьи о качестве подготовки врачей-специалистов в высших учебных заведениях: никто из двухсот пятидесяти молодых врачей со стажем работы два-три года не смог правильно ответить на все простейшие вопросы по своей специальности, которые должен знать каждый врач. «Значит, записываем, – говорил он на лекции. – Все, все записывают! И кто гениями собирается быть, и кто обыкновенными врачами: пункт, значит, первый... пункт второй... Тут дальше подпункты пойдут, оставьте место в тетрадках»... Или спрашивал на практических занятиях, перебивая не в меру разговорчивого студента: «Так, хорошо. Теоретически рассуждать умеете. А вот руками, руками сделайте, покажите, как отток наладить в послеоперационный период. Сестра-то сестрой, но это у нас, на кафедре, она все умеет. А у вас, в райбольнице, ее этому еще научить надо будет. Вот она и не справилась. Покажите, как сами будете делать. Ну, вот на муляже, то есть на этом... на фантоме. Нет, вы не разговоры, а руками проделайте. Он же, ваш больной, задохнется, пока вы рассуждаете! Нет, нет... уже все, уже он давно задохнулся. Знаете, сколько вы минут провозились?! Давайте сначала. Чтоб как автомат было. Включаю секундомер!..»
Никто на кафедре не понимал, почему студентам нравятся его косноязычные лекции и практические занятия. Ведь, казалось, если существуют какие-нибудь особенно стертые слова, набившие оскомину сравнения, шаблоны целых фраз, блоки затверженных идей – все это, до крошки, непременно будет в лекции Ивана Фомича.
После лекций шефа студенты выходили возбужденными, они горячо спорили, они в эти минуты любили и медицину вообще, но прежде всего – челюстно-лицевую хирургию, они целыми группами записывались в научный кружок, которым руководил Иван Фомич, но вскоре отчего-то так получалось, что продолжали ходить на кафедру лишь самые усидчивые, исполнительные, старательные – такие, как сам Иван Фомич. И только Володя Сушенцов был среди них белой вороной. Целыми днями он слонялся по кафедре, непонятно было, когда же он посещает лекции по другим предметам, когда успевает выполнять даже ту работу, которую поручал ему Иван Фомич, потому что и за этим занятием его тоже почти никогда не видели. Тем не менее из института его не исключали, сессии он сдавал прилично, умудрялся на стипендию вытягивать, а в научном кружке самыми интересными были, как ни странно, именно его работы.
Иван Фомич недолюбливал Сушенцова, как может недолюбливать человек усидчивый, которому в жизни всегда все трудом дается, какого-нибудь вертопраха, счастливчика, который вроде бы пальцем о палец не ударит, а все ему с налета, все почему-то везение.
– Разбрасывается, – неодобрительно говорил о нем Иван Фомич. – Способный, но разбрасывается. Так науку не делают.
Но, бывало, не успеет Иван Фомич и половины сказать того, что собирался и до чего когда-то, в свое время, сам неделями доходил, а Володя Сушенцов, уже нетерпеливо и понимающе кивая, тут же предлагал свой путь исследования, который, впрочем, чаще всего себя не оправдывал впоследствии, но все же выглядел много изящнее, чем тот, который предписывал ему Иван Фомич.
Легкость, с какой все давалось Сушенцову, выглядела рядом с Фомичом почти вызывающе несправедливой, и, когда Володя в очередной раз садился в лужу, Иван Фомич даже как-то добрел к нему, морщины на лице разглаживались, речь становилась не такой косноязычной, как всегда, и, пожалуй, именно в дни Володиных неудач Иван Фомич относился к нему гораздо терпимее. Более того, именно в такие дни Сушенцов бывал просто необходим ему рядом – как успокоение, что самоуверенность все-таки наказуема, и как живой пример того, что он, Иван Фомич, ох как прав в своем понимании науки и качеств, необходимых ученому.
Во все же остальные дни, особенно в дни маленьких студенческих удач Сушенцова, Иван Фомич старался пореже с ним общаться, и, когда Андрей Михайлович, начиная серию опытов для будущей докторской диссертации, попросил у него себе в помощь Сушенцова – каждая лишняя пара рук, даже студенческих, была для него благом, – Иван Фомич охотно согласился.
Парень оказался не только способным, но и очень хватким, понимал Каретникова с полуслова, а почувствовав, что на материале, побочном от докторской диссертации Андрея Михайловича, явно вырисовывается своя собственная кандидатская, Сушенцов с благословения Каретникова стал параллельно и для себя работать, показывая теперь, поначалу к недоумению Ивана Фомича, такую работоспособность и усидчивость, что Иван Фомич даже с удовлетворением стал подумывать, что, выходит, не зря он держал Сушенцова в ежовых рукавицах, научил-таки его правильному, серьезному отношению к науке.
Случалось, Каретников и Сушенцов ночами просиживали в виварии и анатомичке, очень за это время сблизились, и Андрей Михайлович, усвоивший демократичные отношения с тех времен, когда еще серьезно занимался спортом, академической греблей, часто держал себя с Володей почти на равных. Да и то сказать: мальчишка, только-только выпускается из института, а можно уже без особых скидок разговаривать, несколько его статей удалось в сборники научных работ протолкнуть, и кандидатская, по сути, готова, весь материал собран, за год-полтора написать можно. Надо подумать, как теперь в аспирантуре его оставить.
Шеф в принципе не возражал, тоже, как и Андрей Михайлович, симпатизировал Володе Сушенцову, даже по имени-отчеству к нему обращался – Владимир Сергеевич, но и своего ближайшего заместителя не хотел обижать. На кафедру дали лишь одно аспирантское место, а претендентов двое оказалось: от Каретникова – Володя Сушенцов, от Ивана Фомича – Ксения, закончившая институт тремя годами раньше и работавшая у них старшей лаборанткой. Уж хотя бы поэтому, полагал Иван Фомич, она имела больше прав на аспирантуру, чем Сушенцов. Кроме того, Ксения была очень старательной и педантичной, как сам Иван Фомич, и пусть не хватала звезд с неба, но это, по глубокому убеждению Ивана Фомича, совсем не обязательно для их кафедры, – кто-то ведь и исполнять должен, им для генератора идей одного шефа достаточно, а Сушенцова все равно заносить будет. Кому же тогда работать, больных смотреть?
Он пошел к Александру Ивановичу, осторожно убеждал, что брать надо все-таки Ксению, она и к больным тянется больше, чем Сушенцов, и с документацией любит возиться. А как отчет сделала, как в составлении учебных планов помогла!
Шеф, рассеянно глядя на Ивана Фомича, закивал согласно, что бумажная волокита действительно их всех заела. Больными заниматься некогда! А ведь было же когда-то указание, что-то такое обсуждали, решали... Или не было? Разумеется, было, подхватил Иван Фомич, но почему-то бумаг еще больше после этого стало, и вот как раз Ксения, если в аспирантуру ее взять... Но помилуйте, поднял шеф свою челюсть на Ивана Фомича, какой же она, извините, ученый? А вот у Сушенцова уже диссертация почти на выходе. И очень, знаете, толковые результаты у него получились, оживился Александр Иванович. Оч-чень любопытные...
Опасаясь, что тот увлечется, Иван Фомич позволил себе перебить шефа, чего никогда с ним не случалось, и поспешно сказал, что, хотя Ксения в такой степени к научной работе, как Сушенцов, не готова, но у нее ведь будет впереди три года аспирантуры, он, Иван Фомич, ей поможет, а с другой стороны, она активная общественница, к тому же стенгазета на ней, недаром же они первое место взяли на смотре-конкурсе, и в художественной самодеятельности Ксения давно участвует, а скоро как раз от них кого-то надо в профком выдвигать... Да-да, кивнул шеф, хорошо, что общественница, пусть в профкоме и поработает, чтоб на это других, более нужных, не отвлекать. Все резонно, одобрил он своего заместителя.
Но тогда Андрей Михайлович к шефу пошел и удивился – он уже позволял себе вслух удивляться, чувствуя расположение к нему шефа: что как же так получается, Александр Иванович, во что мы кафедру можем превратить? Или нам в основном стенгазета нужна? Так ее, между прочим, всего-то двое больных внимательно читают. Кто? – заинтересовался вдруг шеф, а узнав фамилии, решил с усмешкой, что, значит, они уже вполне окрепли, пора о выписке подумать. А Сушенцов, настаивал Каретников, уходя от шутливого тона, это уже вполне сложившийся ученый. Нет, он понимает, конечно: если они решили больше не заниматься наукой, тогда это не имеет никакого значения и даже выгоднее оставить Ксению в аспирантуре... Тут шеф возмущенно спросил, а чем же они, по его мнению, занимаются, если не наукой, а Каретников, признав, что конечно же наукой, повернул разговор как раз на диссертацию Сушенцова: само собой, ее дооформить еще надо, но это уже дело техники и времени. Всего-то на год работы, жаль, что Сушенцов через пару месяцев уезжает по распределению куда-то в Тмутаракань, и надолго теперь это заглохнет, а то и просто устареет к тому времени, когда он сможет защититься. А говорят, на ученом совете их кафедру и так уже ругали: не растим смену, ни одной кандидатской за пять лет. А кстати, результаты у Сушенцова... Да-да, с увлечением подхватил шеф, я уже говорил об этом Ивану Фомичу. Любопытнейшие результаты, а главное – даже не они сами по себе ценны, а то, что за этим открывается...
Широко, захватывающими мазками шеф набросал перед Каретниковым такие перспективы, что у Андрея Михайловича дух захватило. Не удержавшись, он сам подбросил идею, шефу она сразу понравилась, они тут же прикинули, какими силами можно одолеть это, Андрей Михайлович успешно доказал, что сил явно не хватает, вот если бы Сушенцова подключить... Ну, детали с Иваном Фомичом решите, с досадой отмахнулся Александр Иванович. Если он пока обойдется без Сушенцова – значит, обойдется. А диссертацию можно и в этой, как вы говорите, Тмутаракани дописать. Зато несколько лет Сушенцов настоящей жизни поучится. Словом, сами все утрясите с Иваном Фомичом.
Но Иван Фомич считал, что все утрясено: Ксения остается, а Сушенцов едет по распределению, через несколько лет привозит готовую диссертацию, защищается, и место ему тогда найдем на кафедре. А пока хорошо бы за год со старой темой развязаться.
К этому времени, по мере того как близилась к завершению диссертация Каретникова, все яснее стало пониматься всеми, насколько далек от этого же Иван Фомич. Уже много лет он работал над тем, чтобы найти и экспериментально обосновать новый доступ при резекциях верхней челюсти, ибо классический подглазничный разрез, создавая хронический застой лимфы, так обезображивал лицо, что глаз из-за отека на стороне разреза практически полностью заплывал. Однако сколько Иван Фомич ни бился над этой задачей, решить ее он не мог, без чего и диссертация никак не завершалась, несмотря на огромный материал, собранный и обработанный Иваном Фомичом.
После предварительного заслушивания Каретникова на заседании кафедры, когда он докладывал уже совершенно готовую к защите работу и шеф, победно выпятив челюсть, хвастливо посматривал на сотрудников, явно гордясь своим учеником, все вдруг осознали то, что давно можно было понять, но что из-за доброго отношения к Ивану Фомичу не очень виделось раньше. Все вдруг заметили (впрочем, Сушенцов – один он! – давно об этом догадывался), что шеф и оперировать предпочитает в паре с Каретниковым, и по научным вопросам скорее с ним советуется, чем с Иваном Фомичом, и что вообще он вроде смотрит на Андрея Михайловича как на своего преемника.
– Да, это вам не верхняя челюсть! – бубнил себе под нос Володя Сушенцов, когда что-то у них снова подтверждалось, в самой уже последней серии опытов. Допоздна засиживаясь вдвоем на кафедре, они спешили: Каретников – лишний раз перепроверяя результаты, а Сушенцов добирал кое-какие цифры к своей будущей диссертации.
Андрей Михайлович пытался хмуриться от ликования Сушенцова – к чему торжествовать над неудачами Ивана Фомича? – но и ему было приятно, что вон уже сколько лет бьется человек над докторской, а у него, Каретникова, так все быстро и хорошо получилось.
– Верхняя челюсть, верхняя челюсть... – дурачился Сушенцов, пробуя на разные песенные мотивы эти слова.
Возможно, от Володиного повторения уже и в Андрее Михайловиче навязчиво засело насчет верхней челюсти; а может, тут была и иная, необъяснимая или просто ускользнувшая, ассоциация с чем-то, о чем они болтали, занимаясь теперь чисто механической работой, или, сказав совсем общую, известную фразу, что обычная ошибка в науке – это искать там, где, по логике, как будто и надо искать, Каретников, может быть, что-то в себе самом этим подтолкнул, да и в Сушенцове, – неизвестно, но произошло нечто совершенно нелепое. В этом была даже какая-то злая, незаслуженная Иваном Фомичом ирония судьбы: то, к чему он шел столько лет, пробуя, отбрасывая, находясь совсем рядом, – им, Каретникову и Сушенцову одновременно, досталось во время легкой болтовни.
Идея, как им поначалу показалось, была абсурдной – выходить на верхнюю челюсть вовсе не там, где это само собой напрашивается. То есть как будто явная ересь! Но, прикинув – правда, пока лишь на бумаге и фантомах, с учетом анатомии органов, их взаимоотношений и вероятных последствий от повреждений во время операции, – Каретников и Сушенцов поняли, что найденный ими новый доступ при резекции верхней челюсти может оказаться вполне состоятельным. Разумеется, это требовало экспериментальной проверки, целой серии опытов на животных, но уже сейчас, в первом приближении, метод выглядел очень перспективным.
Ну, ладно, а что же дальше-то делать? Можно, конечно, когда-нибудь этим заняться, потом опубликовать, авторское свидетельство на изобретение получить... Но для Каретникова если это и могло иметь смысл, то лишь после защиты докторской, потому что к теме его диссертации оно никак не относилось, да и вообще его интересы были совершенно в другой области, никак не относящейся к резекции верхней челюсти, чтобы полгода тратить на эти опыты. Сушенцову заняться? А когда? Через два месяца ему по распределению уезжать, хорошо бы со своей диссертацией до конца управиться, весь материал собрать...
Володя Сушенцов и подсказал прямо-таки мудрый выход. Во всяком случае, Андрей Михайлович должен был про себя признать, что сам он до этого не додумался бы, тем более – в двадцать три года.
Потом, когда он рассказал об этом дома, все еще не решив, что делать, отец, выслушав его и переждав категорическое мамино суждение в том высокопарном смысле, что поступать следует так, как того требуют интересы кафедры и дела («Ты же сам говоришь, что Сушенцов – самая достойная кандидатура!»), – отец, еще помолчав, сказал свое обычное протяжное «во-от...», и Андрей Михайлович сразу понял, что думает он иначе. Отец, по деликатности своей, относящейся скорее к прошлому, а не к нынешнему веку, редко когда не соглашался словами «нет», «неверно», и уж тем невозможнее было услышать от него «ерунда», «чепуха», «глупости». Терпеливо, никогда не перебивая, он выслушивал что-то, с чем не был согласен, тянул свое «во-от...» и только после этого, всячески стараясь не обидеть, смягчая ответ, высказывал свое мнение, противоположное тому, которое он так долго и любезно выслушивал.
Он и после категорического мнения Надежды Викентьевны тоже произнес обычное «во-от...» и, ни на чем как будто не настаивая, рассказал сыну одну из своих школьных историй.
Было это, как сразу прикинул Андрей Михайлович, в те самые годы, когда и он как раз школу заканчивал – в конце пятидесятых. В выпускном классе Михаила Антоновича шел экзамен по физике. Двое друзей, о которых речь, всегда готовились вместе: один знал хорошо математику и физику, другой – язык и литературу. Такой, следовательно, был у них симбиоз – теперь это называется разделением труда, – что один брал на себя задачки, когда они контрольные писали, а второй проверял сочинения своего приятеля, да и диктанты давал ему списывать. К последнему экзамену на аттестат зрелости, к физике, они подошли одинаково: ни тому ни другому нельзя было получить четверку – пропадала серебряная медаль. Дело не зряшное, ибо «серебро» Давало право сдавать при поступлении в институт не все положенные экзамены, а лишь один, профилирующий. И было в те времена известно по прошлым годам, что на каждую школу как бы заранее предполагалось определенное количество медалей. Так что чем больше претендентов, тем суровее, придирчивее относилось гороно к утверждению школьных отметок по письменным работам, то есть отсев большим был. Ну вот... Сочинение уже давно позади – один из приятелей, следовательно, выполнил свою часть обязанностей добросовестно, помог второму, – и теперь, на последнем экзамене, сидят они за одной партой, готовясь к ответу по физике. А у того, с гуманитарными склонностями, никак что-то задачка не получается. Почти довел до конца, а на последних строчках запутался. Он и просит своего приятеля: помоги, мол, решить. Сейчас, отвечает тот, вот только свое допишу... Ну, этот, первый, терпеливо ждет, сам уже и не пытается завершить. А когда учительница спрашивает, не готов ли кто отвечать, второй вдруг поднимает руку и выходит к доске. Ясно, что он уже не вернется за парту, и поэтому первый начинает искать в этой парте оставленное ему решение той самой задачки. Весь рассказ отца очень смахивал на какую-то школьную, примитивную притчу, и Андрей Михайлович спросил со снисходительной, понимающей улыбкой:
– Решения задачки он в парте не обнаружил?
– Однако... – отец как-то обеспокоенно посмотрел на сына. – Ты так легко догадался...
– А что тут догадываться?! – резонно заметила Надежда Викентьевна. – История, конечно, некрасивая, что и говорить, но по-своему он прав – этот, который не передал шпаргалки. Ты же их этому и учишь?
– Во-от... – протянул отец. – Это уже совсем другой вопрос. Разумеется, к нравственному обществу нужно идти от нравственности каждого. Но, понимаешь... Есть тут и другая сторона. Как бы это сказать?.. Не может быть моральным то, что достигается безнравственными методами, поступками.
– Ну, и как же все закончилось? – полюбопытствовал Андрей Михайлович.
– Как? А естественно: один получил медаль, второй – нет.
– И по праву получил, – заметила Надежда Викентьевна. – Хотя, по совести... оба хороши!
– Но я же сейчас не об этом! – с досадой сказал Михаил Антонович. – Меня удручало... Ведь все остальные, буквально весь класс, знали об этом! По их школьным масштабам и меркам – бесчестный же поступок. Да просто предательство! А вот – ничего, никто из них никак не проявил вслух своего отношения. Я имею в виду – не сказал в глаза этому медалисту... Понимаешь, не нашлось среди них ни одного, кто бы, например... Ну, не знаю... Руки́ бы ему не подал после этого, не поздоровался бы...
– И ты тоже ничего не сказал ему? – усмехнулся Андрей Михайлович.
– Ну, как было не сказать?.. – Отец развел руками, словно извинялся за то, что пришлось вот сказать все-таки.
Надежда Викентьевна, как всегда, немедленно должна была кому-то звонить, и, не дослушав, она вышла из кухни.
– Что же ты ему сказал?
Не поднимая глаз от тарелки, будто до сих пор несколько стесняясь тогдашней своей резкости, отец ответил:
– Я ему объяснил, что он должен хорошо запомнить этот случай. Ведь это первое его предательство в жизни.
– Не понимаю! – возмутился Андрей Михайлович. – Неужели тут можно было усмотреть какую-то аналогию?! Между тем, что предложил Сушенцов, и твоей этой историей?! Мы с Володей неожиданно – при совершенно случайных обстоятельствах! – нашли, кажется, то, над чем Иван Фомич столько лет... В чем тут наша вина?!
– Ни в чем, – сказал Михаил Антонович. – Но, знаешь, при случайных обстоятельствах поступки бывают совсем не случайные... Скажи, пожалуйста: твой студент... Александру Ивановичу он мог бы предложить такой... такую сделку?
Последнее слово покоробило Андрея Михайловича, но на секунду он все же представил себе разговор Сушенцова с их шефом, лицо Александра Ивановича при этом – и уже не захотелось ему представлять себе лица Володи. Отец понял.
– Так почему же он посмел это предложить тебе? – спросил Михаил Антонович.
Ну, это уже несерьезно! Отец всегда жил какими-то литературными мерками. Все, что он говорил, было правильным, но все это было вместе с тем слишком идеальным, а потому нежизненным.
Да и вообще в притчах, при всей их воспитательной наглядности, есть одна существенная слабость: они начисто лишены диалектики и тоже слишком идеальны. То есть вывод из них только один, выбора не дано, и мораль следует всегда единственная, уже заранее предопределенная. Действительно, как понимал Андрей Михайлович, то, что подсказывал ему Сушенцов, как будто бы выходило за железные рамки морали, но в жизни-то, даже и во вполне моральной, существуют все же какие-то допуски, компромиссы, которые при дневном свете – увы! – не всегда выглядят лучшим образом, но тем не менее... Как это из той же литературы? Не говори, мой друг, красиво...
Если спокойно, без сантиментов, просчитать возможные варианты, – все ли так просто и однозначно, как отцу представляется?
Сначала – логические посылки.
Первое. Мы с Володей случайно открыли способ, который нам самим вроде бы ни к чему.
Второе. В руках Ивана Фомича этот метод был бы для него несомненным благом, окончанием докторской диссертации.
Третье. Володе после окончания института надо остаться в аспирантуре, и это теперь зависит только от одного Ивана Фомича.
Следовательно?..
Да, чуть не забыл: некоторые к тому же моральные аспекты.
Первое. По затраченному труду, по знаниям в этой области, да просто по справедливости, наконец, наш метод и в самом деле должен бы принадлежать Ивану Фомичу.
Второе. Для кафедры, для науки лучше, чтобы в аспирантуре остался наиболее способный и перспективный. А из двух кандидатов – это, бесспорно, не Ксения, а Володя.
Третье. Для больных в конце концов важен сам метод, облегчающий их страдания, а не автор, который его предложил.
Четвертое. Меня тут вообще не в чем упрекать: я-то делаю это не для себя, а исключительно ради кафедры, то есть интересов дела.







