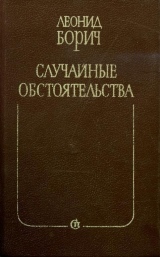
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 41 страниц)
Практический вывод: мы отдаем свой метод в честные руки – тому, кому он и должен принадлежать по справедливости, а взамен просим только об одном у Ивана Фомича – оставить в аспирантуре того, кто наиболее достоин.
Ясно же как божий день! Так в чем, собственно, не прав Сушенцов, подсказав этот выход?
Если что и было здесь неприятно, то разве лишь то, что говорить с Иваном Фомичом должен не Сушенцов, а он, Каретников.
– Здравствуйте, Иван Фомич.
В лаборатории их только двое. Иван Фомич отрывается от микроскопа.
– А, приветствую, приветствую... Здравствуйте, Андрей Михайлович. – Как обычно, он первым протянул свою маленькую, почти детскую руку, но перед этим все же на секунду замешкался в нерешительности, и румяные его щечки еще больше зарделись.
Теперь, когда Андрею Михайловичу до защиты докторской оставались считанные недели, Иван Фомич вообще находился в некотором затруднении, как держать себя с Каретниковым: как прежде – чуть покровительственно, с учетом того, что все-таки на кафедре второй человек он, а не Андрей Михайлович, – и тогда «приветствую, приветствую» именно та форма; или уже как-то иначе надо, потому что совсем близко время, когда вторым после шефа станет, вероятно, Каретников.
Они оба почувствовали заминку, оба поняли ее причину, и Андрей Михайлович, невольно поддавшись очарованию своего не слишком отдаленного будущего, дружелюбно поинтересовался:
– Как дела, Иван Фомич?
«Как дела?» – это обычно Иван Фомич раньше у него всегда спрашивал, поэтому, тут же спохватившись, Каретников хоть как-то поправил себя:
– Как дочка?
Чуть растерянно Иван Фомич посмотрел на него, соображая, в чем же он сейчас уже почувствовал какое-то изменение в их недавних отношениях, но уточнением своим, вопросом о дочке, Каретников почти снял его беспокойство. С каким-то даже облегчением Иван Фомич улыбнулся:
– Э, Андрей Михайлович!.. Счастливый вы человек: ваша-то еще ребенок. В пятом-шестом классе, верно? А у моей возраст такой, что это... Опять, знаете, какое-то очередное увлечение. И опять ей кажется, что... того... что серьезно, видите... Что ни говори, а в наше время...
Готовясь к предстоящему разговору, Андрей Михайлович не особенно слушал, и кроме того все, что скажет Иван Фомич, он уже наперед знал. Он и сам мог бы это изложить Ивану Фомичу, руководствуясь если еще и не опытом отца – Женьке было всего двенадцать лет, – то, во всяком случае, разговорами и своей матери, и знакомых, да и прошлыми сетованиями Ивана Фомича: что раньше все иначе было, что поцелуй, например, означал вершину отношений, а не их начало, что волевые поступки и волевое выражение в глазах были раньше только мужской привилегией, ну и так далее, в таком же роде что-нибудь... Неужто, когда придет его время быть отцом взрослой дочери, он тоже будет осуждать молодежь?
Андрей Михайлович сочувственно кивал Ивану Фомичу, с рассеянной улыбкой соглашался, что, кажется, в самом деле теперь так, что не девушка дремлет поздно вечером в электричке на плече у парня, а он, ее кавалер; и без особого удовольствия думал в это время Андрей Михайлович о том, что для начала их разговора о деле ему придется идиотом притвориться. Впрочем, он тут же успокоил себя, что Иван Фомич достаточно высокого мнения о нем, чтобы всерьез этому хоть на минуту поверить.
Тем не менее, щадя самолюбие Ивана Фомича, о новом методе резекции верхней челюсти нужно рассказать ему с тем простодушием, которое должно показывать, что сам он, Каретников, даже не очень отдает себе отчет в том, насколько это важно для диссертации Ивана Фомича. Другое дело, если Иван Фомич сделает вид, что ничего, скажем, нового он в этом для себя не услышал, или попытается как-то умалить значение... Тогда следует недвусмысленно намекнуть, что не такой он, Каретников, окончательный профан, чтобы совсем уж не понимать, какая это была бы услуга Ивану Фомичу, отдай они ему эту идею.
Да, но из рук Сушенцова он может и не взять: вдруг гордость не позволит? Тут, очевидно, следует обмолвиться, что Володя хотя и причастен к этой идее, но он даже не представляет себе, что до них ни у кого это не описано. Мы ведь прикинули новый доступ к верхней челюсти почти что мимоходом, вскользь, Володя, скорее всего, и сам не понял как следует. Но, разумеется, если я буду оформлять заявку на изобретение, то обязательно включу Сушенцова как соавтора. Хотя... Ему вроде бы и не до этого сейчас, ему в аспирантуру надо – ох как надо! – он же тогда через год кандидатскую положит на стол. Для нас всех это просто находка. Честь кафедры, уже столько лет ни одной защиты, шефа все чаще поругивают за это... А с другой стороны... (Тут порассуждать, порассуждать при Иване Фомиче!) Может, оформить изобретение на одного Володю? В будущем ему это поможет, тем более если он не попадет в аспирантуру в этом году... А кстати, ваша Ксения... Между нами говоря, она же не потянет, рановато ей пока в аспирантуру. Набрала бы себе материал постепенно. И вы ей поможете, и я...
Осторожно начав обо всем этом говорить, прямо на глазах у Ивана Фомича прикидывая, сомневаясь, делясь с ним своими заботами, затруднениями, советуясь как со старшим товарищем, Каретников незаметно для себя вошел в азарт. Он делал красивую, изящную игру и сам удивлялся, как у него непринужденно и точно все получается, словно у опытного рыбака, который, ощутив первый робкий клевок, даже почти одно лишь касание, дотрагивание, начинает приманивать, осторожно подергивать за леску, взбадривая поплавок.
Ну, клюнь-то уж как следует! Нельзя же, черт возьми, так туго соображать! Ну, ну, веселее, что ли! Я же тебе не просто задачку задал – я же тебе и решение подкинул. Не как тот, между прочим, на экзамене по физике, если на то уж пошло!
Нет, видимо, чересчур сильно дернул.
Маленький, аккуратно застегнутый на все пуговицы, Иван Фомич бесцельно, механически вертит кремальеру микроскопа, окуляр в конце концов раздавливает стеклышко с препаратом, и, так же механически проговорив «извините», он начинает суетливо собирать осколки.
Каретников почувствовал, что теряет свое вдохновение. Какой уж тут азарт, если и смотреть-то на него такого как-то совестно? Надо ему передышку дать, да и себе тоже...
Андрей Михайлович сел рядом, заглянул от нечего делать в окуляр соседнего микроскопа, настроил на резкость под свой глаз, легко узнал срез лимфатического узла и, остывая от игры, постепенно расслабляясь, подумал о том, как это все же удивительно: какой-нибудь физический наш недостаток, даже не бог весть какой изъян, так может влиять на наш характер. Мы вот не понимаем, отчего Иван Фомич такой стеснительный, отчего он так утомительно деликатен или столь смешно непорочен, что, когда ему приходится говорить студентам-медикам о совокуплении подопытных кроликов, он, смущенно краснея, норовит выразиться не иначе как фразой: «Когда это... когда кролики бывают близки друг с другом...» Или отчего он не может, когда надо, поставить на место старшую операционную сестру – высоченную и худую как жердь, – которая считает, что только одна она и разбирается, какие готовить для операции инструменты. А между тем за всеми этими качествами Ивана Фомича – даже, вполне возможно, и за нелепой его привычкой постоянно менять галстуки, и они еще ни разу не подходили ни к его рубашкам, ни к костюму, – за всем этим, на первый взгляд непонятным, странным смешным, необязательным, стоит, может быть, нечто совершенно простое, и, зная точно исходные данные, можно, вероятно, промоделировать всего человека, со всеми вроде бы непонятными нам изгибами его души.
Будь, например, Иван Фомич просто чуть повыше ростом, на каких-нибудь десять – пятнадцать сантиметров, да не имей он таких маленьких детских ладошек – это был бы, скорее всего, совершенно другой человек, с другим характером, другими привычками, с иными взглядами на женщин, на науку, вообще на жизнь.
Кто знает, может, сложность наших душевных движений, о которых мы любим говорить и писать, если и не совсем надуманная, то в значительной степени все же преувеличенная и довоображенная нами из-за нашей склонности к почтительному отношению и к себе, и вообще ко всему, что составляет род человеческий. Так нам приятнее, так удобнее оправдываться перед собой и перед другими, так мы возвышаем себя над всей остальной природой – благо помешать-то нам некому в этом, никаким более высоким цивилизациям. А если иногда мы и позволяем себе выразить вслух свое восхищение мудростью этой самой природы, так это все равно говорит в нас наша снисходительность к ней, как когда мы, например, признаем в ком-то ум. Тут ведь сразу же молчаливо предполагается, что уж мы-то сами, по крайней мере, никак не глупее того, в ком признали ум. Раз, мол, нам самим достало ума это понять,..
Андрей Михайлович отстранился от микроскопа и вопросительно взглянул на Ивана Фомича: ну как, созрел?
– А... а вы это... уверены, что действительно не... того... не показалось?..
Фу ты черт, как же я, в самом деле, упустил?! Из:за этого сомнения он и мучается до сих пор, из-за этого так туго и крючок заглатывает. А конечно, прямо сказать: покажите, нарисуйте – он не может, неудобно. Но я, разумеется, и покажу, и нарисую схему, я ему доверяю: без моего ведома он это не использует.
– Все оказалось неожиданно просто, – с облегчением проговорил Каретников. – Вот смотрите...
Набрасывая на листке бумаги основные обозначения, Каретников чувствовал, как подобрался, застыл его коллега, а Иван Фомич невольно сделал нетерпеливый жест, чтобы, пока не поздно, остановить Каретникова, ничего не узнать от него – тогда бы оставалась еще надежда, что, независимо от Андрея Михайловича, он сам, сам это когда-нибудь сможет додумать, – но Иван Фомич так и не остановил, не отказался увидеть, и через минуту ему вдруг открылась вся простота этого нового способа резекции верхней челюсти.
Как же столько лет такое не приходило в голову? Как можно было вертеться буквально рядом, почти касаться этого, чуть ли не в руках держать – и не заметить, пройти мимо?! Когда так все, оказывается, просто! До смешного, до безобразного просто!
Каретников понимал его состояние, и по-человечески ему жаль было Ивана Фомича. Даже мелькнула мысль, а не отдать ли этот способ резекции просто так, без всяких условий. Когда все теперь Ивану Фомичу уже должно быть понятным, можно внезапно как бы споткнуться, показать свое затруднение, давая тем самым и Ивану Фомичу возможность чем-то дополнить эту схему, подсказать свое продолжение, чтобы он мог считать, что сам все додумал.
Но тут же Андрей Михайлович одернул себя. Безусловно, такими вот добросердечными мы себе больше нравимся. Мы бы потом помнили этот свой поступок сто лет, не меньше. А Володя Сушенцов покатит тогда в свою Тмутаракань, и Ксения начнет двигать науку... Нет, все-таки дело есть дело. Бывают в нашей жизни моменты, когда мы вполне сознательно вынуждены быть хуже, чем на самом деле.
А в чем-то ведь Иван Фомич и сам виноват: не настаивай он на своей кандидатше в аспирантуру, все бы иначе сложилось. И сидел бы он теперь над этой схемой, как над своей собственной, да и я бы чувствовал, что по-настоящему помог ему. Впрочем, что ж – все равно помог. В конце концов, это главное: не побуждения наши, не мотивы – а практический итог. И больному тоже, между прочим, важны не наши добрые или злые поступки сами по себе, а только лишь результаты этих поступков. Вот когда после операции у меня не обезображивается лицо – вот это для меня и есть самое нравственное в Андрее Михайловиче или в Иване Фомиче. Что же касается некоторых переживаний Андрея Михайловича или расстройства Ивана Фомича, то это уж, право, такая мелочь рядом с моим не изменившимся после операции лицом, что мучиться и расстраиваться при этом могут только слишком уж благополучные люди...
Иван Фомич долго и придирчиво рассматривал набросок.
– Действительно, того... любопытно... – натянуто улыбнулся он. – Мне тоже... в голову, так сказать, приходило, но... мне казалось, мы тут лишь в нижней части получаем доступ. Тут, знаете, думать и думать. Да...
Каретникову сразу как-то легче стало, раз не один он, а они теперь оба уже хитрили. Нет, Иван Фомич, взрослые люди так не играют.
– Приходить-то в голову, может, и приходило, – мягко улыбнулся ему Каретников. – Но все-таки мы первые сказали с Петром Ивановичем...
– С каким... каким Петром Ивановичем? – растерянно спросил Иван Фомич.
– ...то бишь с Володей Сушенцовым, – исправился Каретников, великодушно понимая, что Фомичу, конечно, сейчас не до литературных реминисценций. – Но вы, безусловно, правы, – решил он хоть как-то облегчить жизнь Ивану Фомичу. – Надо все как следует проверить. Возни тут – я вам не завидую! А кстати, Иван Фомич, вы знаете, что муж уважаемой Ксении учится в военной академии?
– Ну как же! – чуть обиделся Иван Фомич: ему ли не знать?! – Это давно известно.
– А военных, как водится, посылают потом, после академии, к новому месту службы. Значит, Ксения вместе с ним поедет. Так?
– Н-ну... так, – уступил Иван Фомич. Румянец снова прилил к его щекам, и он сидел, зажав между колен маленькие руки и уставившись в стол перед собой.
– Какой же нам смысл зря терять аспирантское место? – настойчиво проговорил Каретников.
О том, на каком курсе учится муж Ксении и скоро ли ему нужно будет уезжать куда-то, Иван Фомич старался не думать, потому что труднее бы сейчас перед собой было: мужу ее еще долго учиться, и неизвестно – может, никуда и не пошлют его...
«Но для кафедры?! – ухватился Иван Фомич за нужную ему мысль. – Если она все-таки потом с мужем уедет, для кафедры-то что толку?»
Он понимал, что надо что-то выбирать. Но что же выбирать, когда тут уж последний его шанс, а Ксения еще молодая совсем, да и какой из нее ученый, если честно? Она неплохой врач, любит больных... Вот Сушенцову бы в этом у нее поучиться! Но что ему больные? Объект для операций – и все! Это уже сейчас видно, угадывается: ему бы и вообще больных не надо, да вот жалость – кого ж тогда оперировать?
Но тут это... и объективным надо быть: голова есть на плечах, в смысле науки. Для кафедры он, конечно, нужнее. А позже, когда снова появится место в аспирантуре, он уж тогда настоит на своем, чтобы Ксению взяли. Если она к тому времени сама не передумает. Жизнь есть жизнь: дети пойдут, и это... от семьи же не уедешь в аспирантуру. Вот если бы ей точно никуда с мужем не надо было, ему ничего бы теперь и выбирать не пришлось...
Видя беспомощное выражение на лице Ивана Фомича, Каретников с сочувствием понимал, как ему трудно сейчас. Ведь он, Каретников, все это делал ради Володи Сушенцова, а Фомич – только ради своей диссертации. Поэтому справедливость требовала как-то помочь Ивану Фомичу.
Всегда гораздо легче в подобных случаях говорить сугубо о деле, а не о том, что ему иногда сопутствует, и чем больше разговор будет касаться разных мелких подробностей самого дела, тем легче станет Ивану Фомичу, потому что тогда вперед выдвинется только одно это дело.
Очень буднично, деловито Каретников спросил:
– Иван Фомич, вам для ваших опытов сколько понадобится кроликов? Я сегодня как раз заявку подаю...
Для каких опытов – они уже оба прекрасно понимали.
Так Сушенцов остался в аспирантуре, Каретников, по договоренности с Иваном Фомичом, своевременно, как ни трудно это далось, обеспечил ему нужное количество кроликов, но Иван Фомич отчего-то все тянул с опытами, все откладывал, хотя времени у него появилось побольше, потому что Каретников, успешно защитившись, почти освободил Ивана Фомича от лекционного курса – сам любил читать лекции студентам, – а потом, когда кому-то другому из сотрудников срочно понадобились подопытные животные, Иван Фомич, словно бы обрадовавшись, с непонятной готовностью уступил предназначенных ему кроликов.
Сушенцов не понимал, какой в этом смысл, все равно Иван Фомич уже ответил им с Каретниковым услугой за услугу, согласившись, что в аспирантуре останется Сушенцов, а не Ксения.
Можно было бы предположить, что дело тут просто в болезненном самолюбии Ивана Фомича, который не мог принять от других то, над чем он, ближайший заместитель шефа, корпел безрезультатно столько лет – тем более если соавтор какой-то студентишка! Но самого Сушенцова это объяснение никак не убеждало: при чем тут самолюбие, гордость и все такое, когда речь о докторской диссертации?! Может, Андрей Михайлович понимает, в чем причина?
Но Каретников тоже не понимал, в ответ лишь пожал плечами, отмолчался, а в душе обиделся тогда на Ивана Фомича. Ему ведь, можно сказать, целую идею подарили! Несколько лет жизни экономили! Давали возможность диссертацию завершить! А он?!
Однако Андрей Михайлович не считал себя злопамятным человеком, и лишним подтверждением этому в его глазах было то, что обида на неблагодарность Ивана Фомича быстро прошла, да и сама эта история вскоре забылась, раз она не изменила их вполне дружественных отношений. Более того, Каретников испытывал к Ивану Фомичу даже своего рода признательность оттого, что случай этот не оставил после себя никакого беспокоящего неудобства, укора себе самому, ощущения какой-либо неловкости перед Иваном Фомичом.
Отец, правда, спросил как-то, много времени спустя, чем же все закончилось, и эта минута была, пожалуй, единственной, когда в душе Андрея Михайловича шевельнулось вдруг желание, чтобы всего, что случилось, лучше бы вообще не было.
Показывая отцу, что очень занят и озабочен чем-то другим, куда более важным, он отмахнулся с досадой: все, мол, обошлось, Сушенцов оставлен в аспирантуре.
– А... а Иван Фомич? – спросил отец.
Усмехнувшись, Каретников успокоил:
– А Иван Фомич, согласно твоим чаяниям, так, кажется, и не воспользуется нашей идеей. Словом, все как в сказках: добро и справедливость восторжествовали.
– Что же сказки?.. – серьезно проговорил Михаил Антонович, не обращая внимания на иронический тон сына. – В них просто подмечена реальная закономерность. Как раз именно в жизни так: пусть часто и с опозданием, но истина все-таки берет верх. Какая-то, знаешь ли, поразительная конечная справедливость...
Андрей Михайлович не стал продолжать этот разговор. Бесполезно было говорить, что не все, далеко не все доживают до этого приятного момента, да и порок, похоже, не догадывается о своей конечной обреченности. Нет, видимо, у него для этого достаточных оснований. Как объяснить такому, как его отец, что обычная живая жизнь не подчиняется незыблемым нормам одного лишь добра и обязательной справедливости?
Впрочем, кафедральные дела и в самом деле сложились, как считал Андрей Михайлович, достаточно справедливо: Сушенцов, оставшись в аспирантуре, через два года успешно защитился, еще через пять лет, совсем недавно, стал доцентом, а Ивану Фомичу в свое время не только хватило понимания, что именно Каретников достоин возглавить их кафедру, но, как и прежде, Фомич тепло относился к нему – Андрей Михайлович это чувствовал и тоже проявлял к своему заместителю вполне искреннюю ответную симпатию.
Что же касается незавершенной диссертации Ивана Фомича, то однажды Каретникову пришло в голову сравнение – конечно, не ахти какое серьезное и, как он допускал, вполне уязвимое, тем более своего собственного опыта на сей счет у него не было, – что тут, наверно, как с любимой женщиной бывает: либо в первые же годы уходишь к ней от жены, либо, затягивая отношения, уже так никогда и не соберешься. Говорят, правда, что многие потом всю жизнь страдают из-за своей нерешительности, но – кто знает? – возможно, в этом тоже есть определенная справедливость?
9
После смерти отца все постепенно возвращалось в их доме к обычному, устоявшемуся годами. Так же на полную громкость включены были сразу и радио, и телевизор на кухне, снова ожил телефон и, перекрикивая весь этот гам, разговаривали между собой о текущих делах мать и жена. Каретникову начинало иногда казаться, что только он один и замечает постоянно, как осиротел их дом, как пустует отцовское место за столом, как не светится на кухне поздними вечерами настольная лампа, под которой, близоруко склонившись над стопкой тетрадей, отец, бывало, медленно, с видимым удовольствием проверял школьные сочинения. Да и сама эта лампа с треснувшим абажуром зеленого стекла куда-то подевалась, надо было у матери о ней спросить.
– Я ее в кладовку спрятала, – сказала Надежда Викентьевна задрожавшим голосом. – Она мне так папочку напоминает...
Никогда при жизни отца она не называла его «папочка», и это вдруг появившееся слово ощущалось Каретниковым как что-то нарочитое, неестественное и всякий раз коробило его. С удивлением он посмотрел на мать: потому, что настольная лампа напоминает ей об отце, мать и снесла ее в кладовку?!
– У тебя же в кабинете хорошая лампа, – сказала Надежда Викентьевна.
Каретников ничего не ответил, нашел в кладовке настольную лампу отца и перенес ее к себе. После этого, как ему показалось, кабинет стал много уютнее, Андрей Михайлович даже заметил, что и работается ему под этой лампой гораздо лучше.
Вообще бережное отношение к вещам, которыми отец пользовался или хотя бы изредка прикасался к ним, приобрело в глазах Андрея Михайловича какую-то особую значимость, подчеркивало верность памяти об отце, стало своего рода символом – пусть, как всегда в подобных случаях, безнадежно запоздавшим, но оттого еще более серьезным и важным, раз при жизни отца никакого отношения к его личным вещам и предметам у Андрея Михайловича попросту не было, он вряд ли и замечал-то их, чтобы хоть иногда проявить некоторое любопытство. Теперь же, растравливая себя и ощущая от этого даже определенное удовлетворение, как бы очищаясь от некой вины за свою невнимательность к отцу при его жизни, Андрей Михайлович вспоминал и отыскивал все, что так или иначе связано было с отцом.
В кабинете, на книжном стеллаже, много лет пролежали без дела старинные серебряные карманные часы «Павел Буре», которые отец давно забросил, и Андрей Михайлович стал по вечерам аккуратно заводить их, дивился чистоте и звонкости хода, твердо решив отныне, что будет постоянно носить их как память об отце. Однако пользоваться ими было непривычно, к тому же они заметно тяжелили полу пиджака, да и специальный кармашек для таких часов был предусмотрен лишь на выходном костюме, и все это вместе очень усложняло намерение Андрея Михайловича, так что спустя несколько дней пришлось снова вернуть отцовские старые часы на прежнее место, но заводил их Андрей Михайлович с прежней аккуратностью, а иногда, чтобы лишний раз в руках подержать, и о времени по ним справлялся, гордясь в такие минуты своей незабывчивостью.
Поначалу он решил и авторучку отца носить, рядом со своей, но оказалось, что пользоваться ею неудобно: отец, видимо, с наклоном писал, отчего сбоку сильно источилось перо, и, если держать его ровно, как привык Андрей Михайлович, оно оцарапывало бумагу. Словом, и от этой затеи пришлось вскоре отказаться.
Зато для письменного стола он купил в комиссионном магазине красивую небольшую рамку красного дерева и долго выбирал, какую бы из отцовских фотографий вставить в нее. Как было бы хорошо сейчас, найди он хоть одну с дарственной надписью. Ничего бы и не надо такого особенного, просто несколько слов, но именно к нему обращенных, к нему одному: «Сыну на память. Отец». Мог же когда-нибудь и сам попросить, а не догадался. Не знал, что это так потом нужно...
Не было среди них такой, которая бы походила на отца последних лет его жизни, а Каретникову как раз такую хотелось, когда отцу было уже за шестьдесят, и чтобы с фотографии он улыбался своей мягкой, всегда отчего-то чуть виноватой улыбкой. Наконец одна такая нашлась – любительский снимок, недодержанный, видимо, в закрепителе, пожелтевший по краям, – и надо было снести ее в фотоателье: может, там что-нибудь сумеют с ней сделать, чтобы убрать желтизну.
Андрей Михайлович выбрал для этого день посвободнее, когда в институт можно было прийти часа на три позже, обычного, и он решил не садиться в троллейбус, а прогуляться пешком. Благо погода выдалась на редкость солнечной и тихой для середины осени, на деревьях и кустарнике в саду напротив их дома горели золотом еще не одинокие листья, особенно ярко выделяясь на почерневших ветках, а сами ветки прослеживались уже подробнее, и тончайшие полуоголенные их окончания напоминали Андрею Михайловичу разветвленные капилляры под микроскопом.
Солнце слепило глаза, нагревало плащ на груди и плечах, идти хотелось совсем медленно, лениво нежась, никуда не спеша, и сквозь прищуренные веки посматривать по сторонам, замечать каждое здание, людей по отдельности, думать умиротворенно, ласково о чем-нибудь приятном и немного печальном, когда-то бывшем с тобой – именно уже прошедшем, чтобы оно не требовало сейчас каких-то хлопот, действии, поступков...
Он вдруг вспомнил, проходя мимо Главпочтамта, что его там уже давно, наверно, ждет письмо от Веры. И хотя их знакомство вроде бы не должно было иметь продолжения, Андрей Михайлович все же зашел на почту за ее письмом. В этом он видел как бы заочную вежливость, обязательность интеллигентного человека, верность обещанию, своего рода признательность ей за хорошие дни, и это ему сейчас понравилось в себе.
Ему как-то никогда раньше не приходилось получать письма до востребования, и теперь, войдя в большой и очень высокий, в два этажа зал, Каретников неожиданно ощутил не то чтобы запретность того, что он собирался сделать, но, во всяком случае, некую все же предосудительность своего появления здесь. Ощущение это меньше всего было связано с его личным отношением к своему поступку, скорее оно объяснялось возможной оценкой этого со стороны, как будто кто-то и в самом деле мог знать или хотя бы догадываться, зачем он здесь. Разумеется, это было, как он прекрасно понимал, совершенным вздором, нелепостью: ведь он же сам не обращал внимания на тех, кто подходил сейчас к окошкам «До востребования», – какое же дело кому-нибудь другому до него?
Но одно дело понимать вздорность и нелепость своих ощущений, и совсем другое – тут же поступать сообразно с этим пониманием.
Все понимая и даже подтрунивая над собой, Каретников тем не менее все-таки медлил, издали выискал окошко «До востребования» со своей буквой над ним и, не замечая собственной нелогичности, долго простоял у газетного прилавка, перелистывая первый попавшийся ему на глаза журнал, и уж только потом, как бы попривыкнув за это время и к залу и к своему нахождению здесь, подошел наконец к окошку с видом человека, который вообще-то забрел сюда совершенно случайно, но, раз уж забрел, решившего на всякий случай проверить, нет ли вдруг и ему письма.
Придав себе выражение озабоченности какими-то иными, более важными делами, Каретников молча протянул в окошко свой паспорт.
Седая, гладко причесанная женщина с нездоровым одутловатым лицом (сердце? почки? – сочувственно, но вскользь подумал Каретников) шевельнула несколько раз блеклыми губами, считывая, видимо, с его паспорта и фамилию, и имя-отчество.
Ему показалось, судя по длительности процедуры, что ей и этого мало, и, чтобы поскорее избавиться от тягостной паузы, Каретников пониже наклонился к окошку, давая этой женщине возможность, если вдруг есть и такая необходимость, сличить его лицо с фотографией в паспорте.
Женщина коротко, без всякого любопытства, но вместе с тем и с какой-то профессиональной, что ли, цепкостью взглянула на Каретникова. Неизвестно почему он ожидал, что в глазах у нее промелькнет сейчас хоть какое-нибудь живое чувство, но лицо ее, как только она удостоверилась, что все сходится и все правильно, окончательно потухло, стало еще более бесстрастным, и она быстро и ловко стала перекидывать письма в ящичке. То, как это все проделывалось – деловито, автоматически, без какого бы то ни было личного интереса к этой стопке писем и к самому Каретникову, – словно бы подчеркивало надежность, тайну, анонимность происходящего, и Андрей Михайлович, совсем уже успокоившись, снова стал посмеиваться над нелепостью своего ощущения, которое он было испытал, переступив порог этого зала. Теперь даже и само поведение женщины в окошке придавало появлению Каретникова какой-то явный, успокаивающий его оттенок заурядности, обычности, полной законности своего поступка. Появляйся он у этого окошка хоть каждый день, это, наверное, нисколько не удивило бы ни женщину, которая рылась в стопке писем, ни кого-нибудь другого.
– Андрею Михайловичу – нет, – сухо сказала женщина.
Он так был уверен в письме от Веры, что даже растерялся. Он не испытывал особого огорчения, но мелькнула досада, что потерял сколько-то времени, а главное, зря пережил пусть и минутное, но все же достаточно унизившее его ощущение несолидности и некоторой предосудительности своего появления здесь. Ко всему этому была еще и просто обида, в которой он не признавался себе отчетливо, – обида, что сам ведь он не напрашивался на письмо, наоборот, его просили зайти потом на почту, и вот он здесь, а письма нет. Ему сейчас совершенно искренне казалось, что он не то что забывал раньше зайти сюда, а что не заходил он специально, как бы давая Вере достаточно времени, чтобы написать это письмо.
Невозмутимость, с которой Каретников внешне принял известие, что письма нет, как-то дала ему возможность перед самим собой сохранить достоинство, что всегда было для него немаловажным, и Андрей Михайлович, вежливо поблагодарив женщину в окошке, медленно, независимо, даже и в походке сохраняя это свое достоинство, пошел к выходу будто прогуливаясь, а там уже, на улице, окончательно успокоившись, что никто из тех, кто недавно у окошка мог все-таки обратить на него внимание, теперь уже его не видит и никто из встречных совсем уж не может знать о недавно пережитой им неудаче, Андрей Михайлович прибавил шаг и совсем бодро, по-деловому пошел к троллейбусной остановке.
Был тот последний в рабочем дне час, когда с несделанным за день почти смиряешься, понимая, что теперь-то уж точно не успеть, а затевать что-либо новое тем более поздно.
Можно было, не чувствуя угрызений совести, посидеть просто так, без вечных обязанностей перед кем-то или перед самим собой и, главное, отрешившись хоть на время от этого постоянного ощущения, что ты все опаздываешь куда-то.
Можно было вдруг позвонить кому-то без всякого дела, кому долго не звонил, спросить: «Как живешь?» – вкладывая в этот вопрос самый настоящий, первоначальный смысл, а не выстраивая лишь мостик для главного за этим вопросом разговора, – спросить: «Как живешь?» – и иметь время выслушать.







