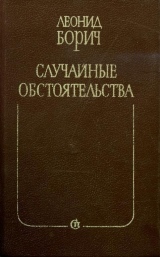
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
16
Домой он вернулся не поздно, молчаливый и раздосадованный своей бессмысленной поездкой к сестре. Сын, как обычно, сидел на кухне перед телевизором и, отсмотрев «Спокойной ночи, малыши», принялся теперь за программу «Время».
Надежда Викентьевна уехала на несколько дней за город, в гости к подруге, Женька была в театре.
– С кем? – поинтересовался Каретников, переобуваясь в прихожей.
– Как с кем?! – удивилась его вопросу Елена Васильевна. – С ним, конечно!
Каретников усмехнулся про себя: как будто это давно уже так было, что дочь, если пошла куда-то, значит, обязательно «с ним».
– Витя, тебе пора спать! – строго сказала Елена Васильевна. – Сколько можно говорить?!
Заметив умоляющий, обращенный на него взгляд сына, Каретников миролюбиво сказал:
– Пусть уж досмотрит...
– Да? А утром мне его от подушки не оторвать! – возмутилась Елена Васильевна. – Немедленно иди спать! Слышишь?!
Витька сделал вид, что из-за телевизора он не все смог разобрать, о чем ему говорилось. Отца-то он еще услышал, а что потом мама сказала – это совершенно уже непонятно было. Однако со стороны – по тому, как он перестал болтать ножками в воздухе, как напряженно, с явно преувеличенным вниманием стал всматриваться в телеэкран, – понятно было, что все он прекрасно слышит, но, замерев, притаившись, ждет, как там родители договорятся между собой.
И Каретников, и Елена Васильевна, как люди образованные, понимали, разумеется, что не должны при сыне обнаруживать свои разногласия, но понималось это ими вообще, в принципе, а не так конкретно, что всякий раз это именно и есть тот случай, когда воспитывать нужно вместе, сообща, единым, так сказать, фронтом, объединившись двум взрослым (а то и трем, когда дома была Надежда Викентьевна), чтобы справиться с одним ребенком, то есть одолеть, суметь заставить его, удержать в повиновении, сладить, совладать с ним.
Витька по житейскому своему опыту уже наперед знал, как будет дальше: отец настоит на своем, мама тогда окончательно обидится и на папу, и на него, по лицу ее будет видно, как ей самой от этого плохо сейчас, и Витьке, стоило лишь представить себе это, стало очень жаль маму и совсем расхотелось смотреть телевизор. Ну что ему еще каких-нибудь десять минут или сколько?! Ведь потом они все равно не разрешат фильм смотреть, а сейчас и так уже неинтересное началось – про футбол и шахматы.
Как бы примиряя своих родителей доступными ему средствами, оберегая их от еще большей ссоры, Витька слез со стула и успокаивающе сказал:
– Ну все, все. Я спать пошел. Спокойной ночи.
Елена Васильевна умилилась тут же послушанию сына, растроганно поцеловала его, а Каретников, хоть и не одобрил в душе такую Витькину мягкотелость, тем не менее тоже почувствовал благодарность к нему и облегчение оттого, что никакой ссоры и выяснений с женой теперь, после Витькиного поступка, уже не последует.
Пока жена укладывала сына спать, Каретников в ожидании чая уселся за стол на кухне, поубавил громкость телевизора и достал из портфеля последний номер «Вестника хирургии». Журнал никем еще не читался до него на кафедре, Андрей Михайлович тщательно и с удовольствием придавил, разгладил ребром ладони раскрытую обложку, просмотрел содержание и наткнулся на статью, которая сразу же заинтересовала и чуть насторожила его. Быстро, как бы по диагонали, он стал ее просматривать, чтобы с первых же минут уловить в ней не только смысл, но и понять, что коллега ничего особенно нового не сказал и, следовательно, можно пока не беспокоиться, что кто-то тебя опережает.
– А он, представь, робеет перед тобой, – с улыбкой проговорила Елена Васильевна, входя на кухню.
Каретников с недоумением взглянул на жену. Хотя он давно вроде бы привык, что она часто произносила вслух лишь часть из того, что одолевало ее в мыслях, ему все же понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что она, разумеется, не их сына имеет в виду, а этого самого Женькиного Сергея.
– Сколько ему? – спросил Каретников, проникаясь симпатией к незнакомцу. Что ни говори, а встретить среди нынешних робеющего парня было приятной редкостью.
– Ему?.. – Елена Васильевна немного смутилась. – Нет, он, конечно, старше. Но мало ли бывает удачных браков, когда... когда он старше?
– Сколько угодно, – охотно подтвердил Каретников, бегло досматривая статью. Он уже и к ее автору невольно испытывал расположение из-за того, что тот, коснувшись близкой Андрею Михайловичу темы, ничего нового в этой статье не открыл. – Что, под тридцать? – добродушно спросил он.
– Он доцент, – сказала Елена Васильевна. – Преподает математику в институте...
– Ого! Молодец! – одобрил Каретников. – Сколько же ему?
– И знаешь, он так заботлив, так внимателен к ней, даже трогательно смотреть...
– Так сколько ему?! – нетерпеливо повторил Каретников. Было, конечно, приятно все это слышать, но начинало возмущать, как жена никогда не умеет сразу на вопрос ответить.
– Ему?.. Около сорока. Даже меньше, по-моему...
– Что-что?! – Каретников отложил журнал и недоверчиво уставился на жену.
– Ну и что?! – воскликнула Елена Васильевна. – Он прямо как нянька с ней, – одобрительно сказала она и, торопясь, пока муж не перебил ее, горячо и убежденно заговорила: – Он узнал, что Женя любит «Грильяж» – так, представляешь, он каждый вечер встречает ее у института и приносит «Грильяж». И где он только достает его?!
– Тебя сейчас именно это интересует? – очень ровным голосом спросил Каретников.
– Что меня интересует? – не поняла Елена Васильевна.
– Ну, что где именно он достает «Грильяж», да?
– При чем тут это? – возмутилась Елена Васильевна его неуместной иронией. – Я тебе совершенно о другом говорю! Он прямо-таки боготворит Женю. Она такая неприспособленная, еще хуже Ирины. И с ее рассеянностью... Сегодня опять зонтик в институте забыла!.. Именно такой муж ей и нужен. Во всяком случае, с ним будет спокойно. Да-да, спокойно! И он будет ценить ее...
Каретникову в последних словах жены послышался упрек: с ним будет спокойно – не то, как мне с тобой; он будет ценить ее – не то что ты меня.
– Вот тебе бы и выйти за него, – обидно усмехнулся Каретников. – Вы и по возрасту подходите. Но при чем здесь Женя?
– Почему тебе всегда надо меня уколоть? – вспыхнула Елена Васильевна. – Я же с тобой серьезно говорю.
– А серьезно думать – ты когда-нибудь пробовала? – повысил голос Каретников. – Перед тем, как серьезно говорить?! И вообще, ты понимаешь, о чем ты говоришь?!
О чем она говорит! О чем! А как она может сказать ему все?!
– Что ты кричишь на меня? – оскорбилась Елена Васильевна. – Что я тебе такого сказала?
– Так ты же мать ей, в конце концов! – запальчиво говорил Каретников. – Мать! Или кто?
– А ты, между прочим, отец! Ну и что? Я вообще могла тебе не рассказывать...
– Да то, что как же ты можешь не понимать...
– А как я могу? Как?!
– Не-ет! Ты не мать, – окончательно вышел из себя Каретников. – Ты... ты сваха! Вот ты кто! Сваха!.. Как же! Доцент! Шутка ли?! А то, что этот муженек будет на четверть века старше твоей дочери? Ты об этом подумала? Не-ет! Ты только одно вбила в свою голову: «Ах, как удачно! как выгодно!»...
– Как-же-те-бе... – Елена Васильевна чуть не задохнулась от несправедливости мужа. – Как-же-те-бе-не-стыд-но!..
Все, с чего начался их разговор и что связано было с их дочерью, перестало теперь с ней связываться. Самым важным в эти минуты казалось им уже не то, что было на самом деле, а те слова, которые они выкрикивали друг другу и за которыми стояли не высказанные в свое время упреки, накопленные недоразумения, не до конца выясненные прошлые обиды – все то, что, исчезая, забываясь в их хорошие, мирные, спокойные дни, все-таки не совсем пропадало, а копилось у каждого из них в душе до такой вот поры.
Елену Васильевну потрясла жестокая несправедливость мужа – она же ведь как лучше хотела! его щадила! – а Каретников был возмущен тем, что из всего случившегося жену его по-настоящему волновало как будто только то, что как, мол, он посмел сказать ей такое – то есть выходило, что заботили ее прежде всего какие-то слова, а не сама суть.
Она плакала, но Каретникову казалось, что даже сейчас она не забывает делать это с осторожностью, чтобы лицо не испортить. «И на моих похоронах она бы тоже так осмотрительно плакала, – обиделся за себя Каретников. – Чтобы на ресницах тушь не размазать».
Стоило подумать так – и он уже совсем не чувствовал какой бы то ни было вины перед женой за свои необдуманные слова. Да и вообще Андрей Михайлович, которого чужие слезы всегда обезоруживали, от ее слез обычно лишь выходил из себя. Жена в такие минуты казалась ему не беззащитной, как все другие женщины, а еще более неуступчивой, намеренно прибегающей к бесчестному давлению на него.
Чтобы как-то выразить свое возмущение и протест, заставить жену в полной мере осознать свою вину не только перед ним, но и перед их дочерью, раз она даже не попыталась вразумить Женьку и этого волокиту, Каретников молча стал одеваться. Решимость его немедленно уйти куда-нибудь подогревалась тем, что жена не обеспокоилась вслух, не спросила, куда он собрался на ночь глядя. Он еще напоследок и дверью хлопнул – то была как бы дополнительная возможность подчеркнуть свой уход.
Очутившись на улице и поежившись от сырого холодного ветра, Каретников в нерешительности остановился. Он вдруг обнаружил, что идти в этот поздний вечер ему, собственно, и некуда. Столько было приятелей, коллег, знакомых – а ни к кому не пойдешь. Так отчего-то получается в этой жизни: когда тебе хорошо – много есть адресов, куда можно пойти, а вот плохое переждать – так вроде и идти некуда.
Надо любовницу иметь, подумал Каретников с мстительным по отношению к жене чувством, как будто эти угрожающие ее благополучию мысли она могла слышать сейчас. Да-да, любовницу, к которой можно пойти в любое время. Хотя... Что ж к любовнице-то идти с этим? Вот Вера – та бы поняла...
Возможно, если бы Елена Васильевна рассказала ему, что их дочь встречается с сорокалетним мужчиной и тут же бы возмутилась этим, Каретников, насторожившись подобным знакомством дочери, тем не менее внешне отнесся бы к такому неожиданному для него известию более терпимо, и уж во всяком случае, как-то спокойнее. Но жена сказала об этом так, как будто вообще не видела тут ничего предосудительного, была даже удовлетворена случившимся, и именно это особенно возмутило Андрея Михайловича.
Нет, его взгляды, разумеется, были вполне современными, то есть он не ужасался, не слишком осуждал некоторое опрощение нравов, не задавался расхожим среди зрелых людей вопросом, насколько, мол, нынешняя молодежь хуже. Она, демократично и благодушно считал Андрей Михайлович, была не хуже и не лучше – она просто была другим поколением.
Думать и рассуждать так казалось ему более справедливым и правильным, но ему, как и многим, еще и удобно и нехлопотно было так думать, потому что тогда, за этим общим и вполне успокаивающим выводом, можно было уже никак дальше не рассуждать.
Однако здесь-то, здесь?! Тут уже ведь не о нравах речь, да и не о молодежи вовсе! Почти что пожилой – да-да, чего там! для девятнадцатилетней именно пожилой! – уже всего повидавший мужчина, который в отцы ей годится, вообразил теперь, что... Ну, хорошо, пусть, в конце концов, на пять лет, думал Каретников, пусть даже на десять лет старше! Но так, как было, – это выглядело как-то противоестественно, да почти неприлично! И потом... Смешно же, чтоб Женька всерьез относилась к человеку его возраста как к возможному мужу, не говоря уже о том, что ни один здравомыслящий, интеллигентный мужчина сорока лет не может смотреть на его Женьку как на будущую жену.
По обычной родительской логике Каретников считал, что если в его глазах Женька еще совсем девчонка – почти что ребенок, можно сказать, – то и другими глазами она воспринимается точно так же. А раз все-таки нашло на этого Сергея – как там его по отчеству? – какое-то затмение, – что ж, его просто отрезвить надо, на место поставить.
Вывод был до чрезвычайности ясным, убедительным, а задача вполне выполнимой, если бы удалось адрес узнать. Ну, не адрес – телефон хотя бы.
Взглянув на часы, он рассудил, что Женька, скорее всего, уже дома или вот-вот должна появиться. У нее он ни о чем, конечно, узнавать не станет... Но как же тогда адрес узнать? Говорить-то с ним надо с глазу на глаз, по-мужски...
Ну что за полоса такая?! – возмутился Каретников. Что за невезения сплошные?! Неужели и сейчас не повезет?!
Он был услышан, Андрей Михайлович. А может, просто полоса сменилась...
Когда он вернулся домой, дочь мылась в ванной, что-то громко и беззаботно напевала – как будто ничего не случилось, раздраженно подумал Каретников, – а жена даже не взглянула на него и, как ему показалось, совершенно спокойно домывала посуду на кухне. Наверно, еще и торжествует по случаю его столь быстрого возвращения. Ничего, рано, рано она торжествует... Ему бы только найти телефон этого женишка!
В их общей алфавитной книжке Каретников ничего похожего не обнаружил: ни Сергея, ни Сергея с каким-нибудь отчеством там не значилось. А почему, собственно, он решил, что у того вообще есть телефон?.. Рядом лежала еще какая-то записная книжка. Каретников, не особенно надеясь, открыл ее, сразу же узнал почерк дочери, заволновался, и даже перелистывать не пришлось: книжка сама собой открылась на том месте, где вложена была маленькая глянцевая картонка со всеми, как и полагается в визитных карточках, данными. Все правильно: Сергей Георгиевич – он теперь вспомнил, что жена так и назвала его отчество, когда по телефону говорили, – к тому же доцент... Визитку, видите ли, завел! Как тот, в бане... Впрочем, в эту минуту Каретников был даже благодарен Сергею Георгиевичу за такое щегольство.
– Ты куда? – на этот раз не выдержав, с беспокойством спросила Елена Васильевна, выглянув в прихожую.
– А отдыхать, – зло сказал он. – У меня же с утра операции.
Ехать было недалеко, да и такси почти сразу попалось.
Поднявшись на четвертый этаж огромного, как корабль, дома – жильцы и называют такие дома «кораблями», – Андрей Михайлович хмуро отыскивал номер нужной ему квартиры. Чувствовал он себя неуютно. Не говоря о позднем времени, уже в самом факте его появления здесь было что-то неловкое, унижающее его достоинство, и обвинял Каретников в этом не столько дочь и даже не столько человека, с которым предстоял тягостный разговор, а прежде всего свою жену. Кому как не ей в первую очередь и нужно бы было вести этот разговор?! Как она ничего не предприняла, чтобы объяснить и Женьке, и этому типу, что...
«„Грильяж“!.. – передразнил жену Каретников. – Я ему... я вам обоим покажу сейчас этот „Грильяж“!..»
Он решил вести себя так, как вообще считал ему свойственным в любых обстоятельствах – уверенно, спокойно, с достоинством, – а к тому же еще и с тем насмешливым соболезнованием, которое без каких-то особенных слов даст почувствовать этому человеку всю смехотворную нелепость его притязаний.
Несколько, правда, мешало, что он совершенно не представлял, как тот выглядит. Высок он или среднего роста, худощав или упитан, с густой шевелюрой или чуть уже облысевший, моложавый или как раз на свои годы, симпатичный или не очень, сразу ли видно, что умен, или это попозже выяснится, в дальнейшем их разговоре? Что, может быть, Сергей Георгиевич внешне невзрачен и что вдруг не слишком умен – этого Каретников не допускал: как же бы тогда Женька могла долго встречаться с ним?! – как, впрочем, не приходило ему и то в голову, что вовсе ведь и не обязательно, чтобы долго.
Невольно оттягивая встречу, он не воспользовался лифтом, и теперь, поднимаясь пешком, понял, что рассчитал неверно: нужная ему квартира была этажом, а то и двумя выше.
А что, подумал Каретников, если с самого начала повести себя так, что я даже и не воспринимаю всерьез эту ситуацию? То есть что ее и нельзя воспринимать так!..
Я, видите ли, отец некоей Жени... Если вам это имя что-нибудь говорит... Только что столкнулся со странным заблуждением в своем семействе...
Ах, вы, оказывается, серье-озно!.. Тогда даже и не знаю... Хотя, вы должны, наверно, меня понять. Мы ведь с вами почти однолетки?..
Нет, явно не понимает... Тогда что ж? Тогда только одно остается, если не понимают... Если не хотят понять!
Слишком много вины накопилось у этого человека перед Андреем Михайловичем за один лишь сегодняшний вечер: и переживания за дочь, и ссора с женой из-за него, и черт знает какая роль, которую он, Каретников, по милости этого типа должен играть сейчас... Самому же себе противно!
Заранее взвинчивая себя, чтобы легче потом было, в случае крайней надобности, произнести пусть и грубую, но зато совершенно уничтожающую противника фразу, которая пришла на ум, Каретников представил, что этот Сергей Георгиевич, распоясавшись в своем бесстыдстве, еще, наверно, и кофе предложит. Шалишь, зло подумал Каретников, никаких светских бесед у нас с тобой не будет!
Очень хотелось курить, и потому, видимо, в общую картину их общения Каретников внес еще кроме кофе и сигареты: прошу, Андрей Михайлович...
А он на это даже и не удостоит вниманием! Он... он в ответ вытащит молча свои собственные сигареты и, намеренно не замечая движения, с которым ему собрались предложить спички, прикурит от своей зажигалки. Тем самым он снова откровенно даст понять, что решительно отстраняет возможность даже минимальных отношений между ними, раз они не связаны с тем делом, из-за которого он пришел сюда.
Нет, в самом деле: как можно не понимать, что ничего серьезного не может связывать с ним девятнадцатилетнюю девочку?! Ей-то еще простительно: блажь, каприз, да и приятно, когда тебе предложение делают – неважно бывает кто, просто заманчиво почувствовать себя совсем взрослой. Но он-то! В его возрасте... Он ведь, по сути, в отцы ей годится!..
Так и сказать, даже определеннее: «У вас, вероятно, у самого сын или дочь Женькиного возраста...»
Вдруг подумав об этом, вообще о том, что у сорокалетнего мужчины вряд ли совсем нет детей, он еще больше ожесточился против этого человека: Женьке только и не хватало, чтоб сразу и разведенный, и ребенок где-то... Но этот тип про детей, наверно, мимо ушей пропустит, а начнет разглагольствовать, что, дескать, согласитесь, Андрей Михайлович: бывает, возраст еще не... Бывает, согласится он, перебив. Бывает, но – лишь на несколько ближайших лет, уважаемый Сергей... Простите, не запомнил вашего отчества... А потом это трагикомедия, обычно.
И вот тут он, закурив, как следует затянувшись дымом, бесцеремонно и скажет ему эту грубую, уничтожающую фразу: «Мы же с вами люди взрослые, пожившие, повидавшие... Позвольте-ка чисто мужской вопрос... Что вы будете делать с моей дочерью – с вашей женой! – лет эдак через пятнадцать, двадцать?» И все!.. Нет, уже уходя, в дверях, он добавит: «Извините, но в моей некорректности есть и ваша вина. Думаю – в основном ваша».
Решительно протянув руку к кнопке звонка у дверей – единственной двери, не обитой дерматином, на которую он почему-то сразу и подумал, – Каретников приготовил выражение учтивой холодности на лице, но тут, взглянув на часы, подумал, что все-таки слишком уже позднее время даже для таких визитов, и сейчас же фраза, самая первая, которую обычно про себя люди почти всегда приготавливают, если для этого есть возможность, вдруг забылась Каретниковым. Впрочем, оно и к лучшему, успел себя успокоить Андрей Михайлович: слишком много чести было бы в таком приготовлении к встрече с человеком, которого он уже заранее не уважал.
Из-за всех этих размышлений, пока он поднимался пешком на шестой этаж, и из-за столь сложных и противоречивых чувств, которые владели им на этом пути, а потом еще и в течение нескольких особенно долгих секунд перед дверью – после того как он все же позвонил и, дожидаясь, подумал, уж не спят ли там, – Каретников не услышал шагов.
Дверь неожиданно отворилась, и он увидел перед собой невысокого худощавого мужчину в очках с массивной черной оправой.
– Андрей Михайлович?.. – произнес тот с удивлением, но приветливо и вполне спокойно. – Прошу...
Каретников несколько растерялся, что его, оказывается, знают, но виду не подал, вежливо поблагодарил, довольно холодно извинился – почти не извинился, а лишь заметил вслух, – что так поздно, и вошел. Он не понял своего первого впечатления – слишком много стараний ушло на самого себя, на то, чтоб и выражение лица, и взятый тон соответствовали его намерениям. На Сергее Георгиевиче были стоптанные войлочные шлепанцы, линялые спортивные брюки с пузырями у колен и клетчатая желтая рубашка, мятая и застиранная, но держался он с таким непринужденным достоинством, словно бы его застали не в этом затрапезном одеянии, а в выходном костюме и при галстуке. Лицо его было сухощавое, тонкогубое, слишком, пожалуй, правильное – из тех вполне интеллектуальных лиц, которые трудно запоминаются, если б не глаза его за толстыми стеклами очков: лучистые, теплые, с мягкой улыбкой. Однако от подобных частностей его лица, которые невольно располагали к себе, нетрудно все-таки было отгородиться: стоило лишь подумать об этом человеке как о чем-то абстрактном, представляющем отвлеченное зло или свалившуюся на тебя неприятность, и тогда выражение его глаз воспринималось так, что потому-то он и мог вскружить голову девчонке на какое-то время – конечно, ласковые глаза, да к тому же с интригующей, печальной такой поволокой...
– А вы раздевайтесь, в комнату проходите, – сказал предупредительно Сергей Георгиевич.
– Спасибо, – с учтивостью, но, как ему казалось, и достаточно сухо ответил Каретников. – Я, собственно, ненадолго... Если позволите, я так...
Снимать плащ не хотелось – это могло бы как-то умерить потом его решительность, привнести некоторую, что ли, домашность в их разговор, который на самом деле требовал лишь деловитой краткости. Однако, посмотрев на свои забрызганные туфли, на паркет с мокрыми подтеками у ног, Каретников заколебался.
– Да ну, что вы! – понял Сергей Георгиевич. – У меня тут... Прямо так идите!
Он провел Каретникова в комнату, предложил кресло, поспешно убрав с него полотенце, прихватил из шкафа какую-то одежду и, извинившись, вышел.
Жалея уже, что так и не снял плащ, Каретников огляделся. Комната была как комната, в меру запущенная, со стандартной, далеко не новой мебелью, расставленной вдоль стен с той казенной правильностью, которая сразу выдает непритязательный и именно мужской вкус с неизменной тягой к строгой симметрии. Андрей Михайлович не заметил в комнате ни тех необязательных, а иногда и вовсе как будто излишних безделушек, придающих тем не менее жилью хоть какую-то индивидуальность и уют, ни обычных для семейной квартиры женских мелочей – пудреницы, помады, флакончика духов. И эта, кажется, почти верная примета холостой жизни, когда пепельница и телефон поставлены прямо на пол, у дивана, чтобы всегда быть под рукой...
С обостренной и злорадной наблюдательностью Каретников отметил, что постельное белье на приготовленном ко сну диване было далеко не первой свежести, и ему приятно было, что это как-то умаляет хозяина квартиры.
Чтобы чем-то занять себя, а главное – показать Сергею Георгиевичу, когда тот вернется, свое полнейшее спокойствие, Каретников взял со стола первую попавшуюся книгу и бегло стал просматривать ее. Структурализм... выявление логики порождения, строения и функционирования сложных объектов духовной культуры...
Настраивая себя на иронию, Каретников подумал: «Ишь ты, какие у нашего зятя умные книжки... Даже гриф соответствующий – „Для научных библиотек“», – а когда вычитал, что применение структурных методов ставит целью ниспровержение привычных иллюзий в области гуманитарного познания, в том числе и психологизма, Каретников усмехнулся: «Ну да, зачем математику подобные иллюзии?! Тоже мне... ниспровергатель!» Это прозвучало сейчас по отношению к Сергею Георгиевичу почти как матерное выражение, и Каретников остался доволен.
С предисловием он вполне разобрался, вычитал, что какой-то исследователь-француз устную речь назвал женской компонентой языка, письменность – мужским его началом, удивился, как нежно говорится вообще о слове – что оно одиноко, трепетно, загадочно и хрупко в своем бытии, – отметил, как это красиво сказано, и усмехнулся, вспомнив, что они, французы, умели даже и об одном из хронических симптомов некой болезни красиво выразиться: «Капля доброго утра».
Из оглавления Каретников выбрал два названия поинтереснее – «Придворные дамы» и «Проза мира», – но, просматривая их, все больше чувствовал раздражение. То, по отдельности понимая каждое слово, он почему-то совсем не улавливал смысла всей фразы, а то и сами слова – просто слова! – были совершенно непонятны ему. Что это, в самом деле, такое: «матезис»... «таксономия»... «эпистема»?..
В этом было нечто унижающее его – так много не понимать в книге, которую кто-то же все-таки читает, тем более даже этот... Сергей Георгиевич... А может, и он тоже ничего в ней не смыслит? Ведь сплошная какая-то заумь!
Хотелось в сердцах захлопнуть, отложить книгу, но послышались шаги, и Каретников торопливо углубился во что-то снова непонятное:
«...тонкая линия видимости при своем возвращении охватывает целую сложную сеть неопределенностей, обменов и уклоняющихся движений...»
Сергей Георгиевич появился уже в приличных брюках, в другой рубашке, аккуратно причесанный – все это сделало его солиднее, старше, – и, увидев книгу в руках Каретникова, радушно предложил:
– Возьмите почитать. Любопытная вещица...
И говорил, и держался он как-то совершенно на равных, и это не устраивало Каретникова. Он все же рассчитывал, что с первых же секунд увидит перед собой смущенного, растерянного человека, возможно, уловит даже и некоторое заискивание перед собой, а с ним обходились так, будто ничего предосудительного не происходит и он, Каретников, не вправе в чем-либо устыдить этого человека.
– Ну что вы, – проговорил Андрей Михайлович, откладывая книгу, – я и не осилю ее.
Как он полагал, тон его был достаточно обидным. Нарочитая и нескрываемая игра в свою простоватость – дескать, куда уж нам!.. – на самом-то деле совсем неприкрыто о другом говорила: мол, тут еще бы разобраться, тебе ли до меня, уважаемый. Правда, чтоб понять это, собеседнику надо бы обладать чувством иронии...
– Жаль... – помолчав, спокойно улыбнулся Сергей Георгиевич, а Каретникова задело, что так это было произнесено, словно вполне допускалось, что ему, может статься, такая книга действительно не по зубам, и сожаление высказано именно по этому поводу.
– Все же, я думаю, мне удалось почерпнуть из нее, пока я тут сидел, что человек не является, к сожалению, ни самой древней, ни самой постоянной из проблем познания. – Каретников прибегнул к одной из наиболее тонких своих улыбок, давая понять, что не такой уж он простак, как могло подуматься этому Сергею Георгиевичу. – И чем только не занимался человеческий ум, прежде чем на самого человека обратил внимание!..
– Обидно, конечно, – рассмеялся Сергей Георгиевич. – Всегда ведь так хочется думать, что мы-то, люди, и являемся центром вселенной...
Очень скоро, обменявшись еще несколькими подобными рассуждениями, они оценили возможный между ними уровень разговора, каждый признал в другом умение беседовать на интеллектуальные темы, и, когда Сергей Георгиевич каким-то образом коснулся экологии, Каретникову невольно вспомнилась одна из записей в дневнике отца о том, что везде заговорили об экологии лишь десять – пятнадцать лет назад, а берешь «Воскресение» – и в первом же абзаце...
Переведя взгляд на книжные полки, он увидел как раз собрание сочинений Льва Толстого, вдвоем с Сергеем Георгиевичем они отыскали нужный том, и Каретников зачитал вслух:
– «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней... как ни дымили каменным углем и нефтью...»
Он заметил, с каким интересом и удивлением Сергей Георгиевич слушает, и, польщенный его вниманием, напомнил, уже к слову, что вот и Пушкин, тоже предвосхищая наши сегодняшние заботы, писал, например, о «жажде размышлений»...
– Да-да, – подхватил Сергей Георгиевич, – прививать человеку не только знания, а прежде всего именно «жажду размышлений». То, к чему педагогика еще ко-огда-а придет!..
Они оба согласились, что вообще многие проблемы нам только кажутся новыми, а на самом-то деле... Андрей Михайлович, все больше втягиваясь в этот разговор, добавил, что и в медицине так: на что уж вперед ушли, а откроешь какого-нибудь Авиценну – такие вдруг обнаруживаешь точные и полные описания болезней...
«Какого-нибудь»!.. – Они оба рассмеялись. В плаще было все-таки жарко, неудобно сидеть, и Андрей Михайлович, позволив себя уговорить, снял его.
А верно ли, поинтересовался Сергей Георгиевич, что за пять-шесть лет научная информация в медицине – я где-то читал – морально устаревает наполовину? Хорошо хоть в математике с этим полегче – точная наука... Да, про медицину, к сожалению, этого не скажешь, согласился Каретников. Тот же Авиценна потому, наверно, и выразился, что медицина не из трудных наук. Впрочем, в этом-то как раз и особенная ее трудность, что она неточная. Так что и великие... Да-да, улыбнулись они, и великие тоже, бывало, ошибались...
О математике они не говорили: Сергей Георгиевич – по причине своей проницательности, что Каретников, врач и чистый гуманитарий, вряд ли даже и логарифмической линейкой умеет пользоваться, а Каретников – из разумных опасений, что о чем же и какими словами говорить, если речь о математике пойдет. Правда, Андрей Михайлович не навязывал и каких-либо врачебных тем, щадя самолюбие некомпетентного собеседника, что, однако, как раз и непонятно было Сергею Георгиевичу: уж что, казалось ему, и может быть доступнее, как не разговор о медицине, который, вполне удерживаясь на современном уровне, не требует при этом ни специального, ни даже какого-нибудь вообще образования, – и Сергей Георгиевич, как бы давая Каретникову возможность показаться с самой выгодной стороны, а вместе с тем и себя чувствуя в этом достаточно осведомленным, завел разговор о лечении травами, о стариках и старушках, которые чудеса делают. Раньше, мол, сплошь бранили – было же такое время, – а теперь заступаются, иной раз даже в печати превозносят. Как он, Андрей Михайлович, сам к этому относится?
Что ж, сказал Каретников, приятно осознавая широту своих взглядов, речь тут, конечно, не о знахарстве как шарлатанстве, а, по сути, о народной медицине, народном опыте и мудрости, и, безусловно, это заслуживает всяческого внимания. А то как ведется? Сперва лихо сносим портик Перинной линии на Невском, чтобы потом восстанавливать его... Или накрепко забываем рецепты и умения народной медицины, а спустя десятки лет спохватываемся и начинаем героические разыскания. Но портик все же можно еще возродить – чертежи остались, а народная медицина – дело по большей части устное, передаваемое из рук в руки, от поколения к поколению, здесь письменные свидетельства почти всегда редкость...







