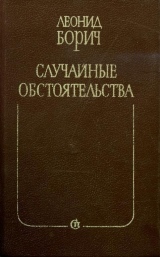
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 41 страниц)
Немного подумали над этим, снова пошли в сауну, потом почти молча млели под простынями, сидели за столом. Григорий записывал телефоны остальных, давал им свои визитные карточки, вошла Ольга Павловна справиться: «Не нужно ли, мальчики, чего?» – они чуть заспорили, взять ли еще коньяку, спор был бессмысленным, ибо с самого начала подобные выяснения всегда обречены на то, чтобы, конечно, еще взять, да и сама Ольга Павловна способствовала такому решению: каждому казалось, что именно его широту натуры она одобряет.
На ее длинных пальцах посверкивали камнями тяжелые кольца, и такие же тяжелые крупные золотые серьги были в красивых ее ушах, и вся она, дебелая, величественная, неторопливо-надменная, воспринималась ими, распаренными, закутанными в простыни, уже поуставшими от жары, как нечто приятно-прохладное даже издали. Один лишь Каретников отчего-то привередничал сегодня: и все их разговоры были ему неинтересны – будто он уже не раз это слышал; и украшения Ольги Павловны казались ему аляповатыми, безвкусно купеческими, хотя ничего такого он не замечал раньше; и сама она держалась по отношению к ним как-то снисходительно-высокомерно, словно то положение, которое она занимала в жизни, было несравненно более важным и почетным, чем то, которого достигли они; да и баня ему уже надоела. Он почти и не говорил, только слушал, удивляясь необязательности, ненужности всех этих разговоров, сплошному какому-то пустословию.
– ...почти месяц лечил, а он не удосужился моего имени-отчества запомнить. А вот как швейцара в ресторане зовут, если несколько раз сходил туда, – наверняка помнит!
– Ну сравнил, старик! Швейцар не пустить может!
– А все-таки, мне кажется, никого так часто не благодарят, как вашего брата, врачей. У нас, скажем, на фабрике, выпустим кофточки неудачной расцветки – сразу видно, кто виноват. А у врачей...
– Не обижайся, старик, но за такие кофточки я бы вас всех к стенке ставил, честное слово. Хотя, конечно, и врачи тоже... Придешь, а он не разговаривает с тобой – рычит!
– А ты знаешь, слишком сердобольный врач иной раз только ухудшает страдания больного?
– Ничего, пусть уж лучше ухудшает, мы как-нибудь потерпим...
– Да что – вы? Создали бы, наконец, нормальную футбольную команду! Смотреть противно!
– Извини, старик, это не по моей части. Ты читал, как наши прыгуны...
– ...и говорю тогда больной: раз мне так долго приходится вас уговаривать – значит, я не ваш врач.
– А кто же тогда ее врач?
– Тот, которому она поверит в несколько минут.
– Нет, ты признайся: бывает же, ничего особенного ты не сделал больному, природа помогла, сам выздоровел, а благодарят тебя!
– Но зато и столько черной неблагодарности тоже никто не выслушивает. Все сделал, что мог, но спасти не удалось. А какой-нибудь родственник такое наплетет после всех твоих стараний... Жалобы во все инстанции, комиссия за комиссией...
Что-то все время не о том они сегодня, поморщился Каретников.
– Вот вы говорили тут – «любовница», – сказал он, подумав о Вере.
– Мы?..
– А, говорили, говорили!.. Ну и что?
– А то, что, если не просто так... если, кроме всего, есть еще и о чем разговаривать... Бывает, такая связь и пять, и десять лет длится, – мечтательно сказал Андрей Михайлович. Сам-то, положим, он что-то не припоминал о таком, но, представив себе Веру, добавил убежденно: – И даже больше!
– Ну, старик! – ужаснулся тренер. – Это же тогда – как будто с собственной женой!
И все поддержали его: в самом деле, какая же тогда разница, если столько лет – с одной и той же?!
– Ладно, – сказал Каретников, решительно вставая из-за стола. – Душ – и домой.
Когда они выходили из гостиницы, Андрей Михайлович пропустил вперед нового их партнера по бане и, кивнув на него вслед, сказал гинекологу:
– Меня теперь на букву «X» записывают.
Гинеколог вдруг понял, как с ним самим было, и расхохотался:
– А меня – на букву «Г».
– И поделом, – сказал Каретников. – Давно бы надо баньку попроще искать.
14
За стеной кабинета шла обычная кафедральная жизнь, бродили по коридорам больные, слышались голоса сестер и нянечек, на столе перед Каретниковым лежала очередная порция листков будущей диссертации Киры Петровны; надо было, преодолев отвращение, читать их, вызвать потом Серебровскую, чтобы, смирив себя и оставаясь вежливым, поговорить о прочитанном – как всегда, придется, видимо, все переделывать, – и еще писать отзыв на другую диссертацию, присланную неделю назад, а он вместо этого сидел, уставившись невидящими глазами в окно и все пытался понять, отчего же отец так заблуждался на его счет. Конечно, столько лет работать, не щадя себя: кандидатская, докторская, написание монографии, десятки статей, а в последние годы еще и заведование кафедрой – ни дня в свое собственное удовольствие... Вот! Вот именно! Оттого отец, понятно, и сочувствовал ему: вечной его гонке, занятости, ответственности... А я воспринял это чуть ли не так, что отец, мол, считает, будто в чем-то моя жизнь вообще не задалась... Он-то как раз имел в виду совершенно другое! Как же это сразу в голову не пришло?!
Он достал из портфеля отцовскую тетрадь, которую все эти дни носил с собой на тот случай, если найдет время съездить к сестре, и, желая все-таки лишний раз убедиться в своей правоте, перечитал некоторые места.
Н-ну?.. И что особенного? Что уж тут такого определенного, чтобы предполагать, что его жизнь могла беспокоить отца, а тем более – вызывать жалость?
Да, но... А как же тогда это: «...почти спокоен за нее... она счастлива»? За Ирину – спокоен, а за него – нет? Она – она! – значит, счастлива, а он?.. В этом-то и определенность: в таком сопоставлении. Ведь то, что за меня он спокоен – об этом нигде, ни в одной строчке, даже наоборот: «...как будто благополучно...»
«Как будто»!.. Это у него-то?! У него, перед которым... которому все...
Нет, не понять было. А главное, ничего Ирине не объяснить! Если бы еще как-то так, что отец, скажем, вообще относился к ней лучше, чем к нему... Но никогда же этого не было, ни разу в жизни не ощутил какой-либо разницы... Потому-то и непонятно: ладно, ошибся он в отношении Ирины, принял желаемое за сущее – да, в конце концов, даже, допустим, и не ошибся, дай-то бог, чтоб не ошибся! – но почему он не понимал очевидного, причем очевидного для всех, что его сын успел в жизни как мало кто другой... Заблуждаясь, из чего-то же отец все-таки должен был исходить? Из чего?
Не находя объяснения, Каретников терялся, чувствуя самое, может быть, неприятное для себя – как пошатнулось его душевное равновесие, которым он всегда очень дорожил, видя в этом непременный залог благополучия. Теперь его представления о неких бесспорных жизненных ценностях, представления устоявшиеся, прочные, приобретенные всей предыдущей, уже немалой и, в конце концов, все-таки совсем не глупой жизнью, – теперь эти его представления стали вдруг расплываться в своей четкости и буквально оползать под ногами, стоило лишь усомниться в них всего-то одному человеку. Да, очень тебе близкому, родному, чьим мнением ты, оказывается, так дорожил, но ведь все равно – только он один и усомнился из всех! Он-то единственный, кто не воспринял твою жизнь как бесспорный успех!.. Да, но... это вдруг – перевесило, этого одного – хватило...
И с Ириной теперь непонятно было: как показать ей эту тетрадь? Еще вот и она станет его жалеть... А доказывать ей, что это явно не по адресу... Смешно... Смешно же, в самом деле!
Разумеется, как и каждый человек, Андрей Михайлович порой и нуждался в сочувствии – когда болел, например, или когда какие-то неприятности у него случались, или когда иной раз хотелось, чтоб по достоинству была оценена его нелегкая, полная забот жизнь, – но сочувствие это должно было возвышать, а не унижать его в собственных глазах, во всяком случае быть приятным ему, и проявляться-то оно имело право лишь когда он сам того ожидал и хотел, а не когда кому-то заблагорассудится.
Нет, насколько бы ему было спокойнее сейчас... Прямо хоть... хоть лучше бы и не нашлась эта тетрадь...
Устыдившись такой мысли, Андрей Михайлович торопливо заглушил ее в себе, спрятал отцовский дневник в портфель, неохотно придвинул листки диссертации Киры Петровны, привычно потянулся за красным карандашом – предстояло, как всегда, много вычеркиваний и знаков недоумения на полях, – и услышал стук в дверь.
– Вызывали, Андрей Михайлович?
Положим, он Сушенцова уже не раз вызывал, и вообще что-то трудноуловимым стал после обеда Владимир Сергеевич, все исчезал куда-то.
Каретников перехватил его взгляд, осторожно, словно бы исподтишка брошенный на листки Киры Петровны, и было в этом взгляде нечто такое, чего раньше он, Каретников, не замечал: любопытство? напряженность? какое-то непонятное ожидание? интерес?
К чему интерес? К этим бестолковым листкам? Но ведь Сушенцов прекрасно понимает, какой тут может быть уровень...
– Владимир Сергеевич, нам уже давно на отзыв одну диссертацию прислали... – Каретников выложил ее на стол. – Я ее просмотрел...
– Египетская пирамида? – деловито спросил Сушенцов, желая уяснить для себя мнение Андрея Михайловича, чтобы знать, как самому относиться к этой диссертации, если заключение ему придется писать. Еще при покойном шефе у них на кафедре укоренилось такое определение, что раз сказано «египетская пирамида» – значит науку здесь не ищи: одно лишь тщеславие.
Каретников пытливо посмотрел на него и усмехнулся.
– Не будем облегчать себе жизнь, Владимир Сергеевич. Отзыв нужен от вас беспристрастный. Как есть. Поэтому, читая, рассматривайте только с одной позиции: «Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут».
– Ясно, – улыбнулся Сушенцов, чуть озадаченный подобной неопределенностью указаний. – К какому сроку?
– Уже к завтраму, Владимир Сергеевич.
Оставшись один, Каретников принялся за рукопись Киры Петровны. Карандаш его тут же вычеркнул первую фразу, собрался было исправить следующую, но, подумав, Андрей Михайлович повременил с ней расправляться. Быстро он прочитал всю страницу, отложил ее, пробежал еще одну, потом еще, все ожидая, что вот-вот наткнется на какую-нибудь беспомощную мысль, невнятицу или глупость.
Он ничего не понимал: все было правильно. Он с недоумением вернулся к началу. Не могло же так быть, чтобы все правильно. Просто, наверное, он пропустил что-то, не заметил, не вчитался внимательно.
Нет, все пока вроде бы верно. Он стал читать дальше, уже медленнее, чем прежде, не слишком теперь доверяя себе. В одном месте он поставил вопросительный знак на полях, но не жирный, как обычно, а робкий какой-то, не совсем уверенный, чтобы потом еще вернуться и чуть уточнить формулировку.
При всей своей придирчивости Андрей Михайлович смог вычеркнуть лишь несколько строчек, да и то были они по существу правильными, просто в качестве вывода не годились, потому что были достаточно известными.
Он аккуратно, уже с уважением к написанному, сложил всю стопку листков, удивленно посмотрел на них и пожал плечами. Такого с Кирой Петровной ни разу еще не случалось: на двенадцати страницах – ни одного серьезного замечания!
Он позвонил по внутреннему телефону в ординаторскую, и, когда она вошла, шуршащая чистеньким накрахмаленным халатом, стройная и благоухающая, он подумал, что почему-то недооценивал ее раньше не только как аспирантку.
– Прошу вас, Кира Петровна, – дружелюбно пригласил он. А когда она настороженно присела на краешек стула, он с чувством сказал: – Молодец!
Она потупила глаза, покраснела, как он понял, от непривычной для нее похвалы, и Андрей Михайлович не столько о ней с гордостью подумал, сколько о себе: сумел же вот все-таки выучить!
Он ласково положил ладонь на стопку ее листков и повторил:
– Молодец! Оч-чень хорошо!.. Если дальше так пойдет, через месяц можно отдавать машинистке. – Он спохватился – не перехвалить бы! – и уже деловым тоном, отыскав нужную страницу, сказал: – Вот здесь вы пишете, что в результате исследований получили возможность прийти к следующим выводам... Что «элементы внутриорганного лимфатического русла занимают паравазальное положение...».
– Разве я что-нибудь тут напутала? – спокойно спросила Кира Петровна.
Ого!.. Нет, она решительно нравилась ему сегодня. Смотри, даже удивилась! Как будто ей и в самом деле в диковинку, что она что-то может напутать. Так ее, пожалуй, и с докладом на обществе скоро выпускать можно...
– Все у вас правильно, – мягко сказал он. – Но, увы, о паравазальном положении известно было до нас с вами. Так что в тексте можете оставить, но из выводов надо убрать.
Они распростились, впервые довольные друг другом.
С дочерью Андрей Михайлович не виделся, по сути, уже несколько дней. Сплошные у них на этой неделе были несовпадения: то по утрам кто-то из них вставал и уходил раньше, чем другой, едва успев поздороваться и тут же прощаясь; то Женька была в театре или на институтском вечере, а то Андрей Михайлович срочно дописывал статью, чтобы поспеть в сборник, посвященный памяти его шефа.
Справляясь у жены о дочери, он успокаивался, что Женька там-то и там-то или что она дома сегодня, занимается в своей комнате, и ему этого было достаточно, раз местопребывание дочери известно и у нее все в порядке. Как, впрочем, и Женю тоже вполне удовлетворяло, когда она, спросив мимоходом об отце, узнавала, что он у себя в кабинете, занят статьей, и за этими мамиными или бабушкиными словами было то, что отца не следует отвлекать без крайней необходимости.
Безусловно, и Женя и Андрей Михайлович нуждались друг в друге, но любовь их, как это вообще свойственно близкому родству, требовала не столько ежедневного общения между собой, сколько постоянного сознания, что другой всегда где-то рядом, что в любой момент его можно увидеть и поговорить с ним. На самом же деле и виделись и разговаривали они с другими людьми чаще, чем между собой, хотя из этого вовсе не следовало, что эти другие люди были Каретникову или его дочери роднее и ближе, чем каждый из них друг другу.
По времени судя и по тишине в квартире, все, должно быть, уже спали, но на кухне горел почему-то свет. Наверное, Женька, как всегда, забыла погасить его, проходя в свою комнату. Каретников хотел было рассердиться на дочь за вечную ее рассеянность, но лишь неосуждающе покачал головой. Он только что закончил наконец статью, и оттого, что успел к сроку и что она, кажется, славно получилась, Андрей Михайлович чувствовал приятную утомленность и был в эти минуты терпим и благодушен. Он рассудил, что ему, собственно, все равно ведь надо было сходить на кухню, чтоб поискать что-нибудь в холодильнике – кефир или компот, – вот он заодно и свет выключит. .
Оказалось, что Женька сидит на кухне у стола и что-то с увлечением переписывает, склонившись над блеклыми листками машинописи. Наверно, какую-то лекцию.
– Кого я вижу! – проговорил Каретников, входя на кухню. – Если помнишь еще, я твой папа, – как бы представился он, церемонно наклонив голову.
– О-о-ой, и в самом деле! – нараспев сказала Женька. – Здравствуй, па-апочка, милый!.. А я-то думаю: что-то лицо знакомое!..
Они оба рассмеялись. Им нравились подобные розыгрыши, потому что в такие минуты они чувствовали какую-то дополнительную близость друг к другу.
– Статью успел? – поинтересовалась Женя, целуя его.
Каретникову приятно было, что дочь знала и помнила о его заботе, и он, утвердительно кивнув, осведомился в свою очередь, как ей вчера пьеса понравилась, то есть показал, что и он вот тоже помнит и интересуется. Впрочем, так оно и было, но оттого, что это зачем-то требовалось подтверждать и вслух демонстрировать даже перед таким родным человеком, несколько раздосадовало Каретникова.
Дочери пьеса не понравилась.
– Мура какая-то, – сказала Женька, состроив презрительную гримаску. – Он любит ее, она его, но они почему-то сами не догадываются об этом и каждый связывает свою жизнь с кем-то другим. Все вокруг догадываются, а они – нет. Чепуха! Только время зря потеряла.
– Почему же чепуха? – оживленно спросил Андрей Михайлович, усаживаясь против дочери. До этой минуты он не думал задерживаться особенно – первый час ночи, пора было ложиться; но разговор с дочерью приобретал, казалось ему, то неожиданное направление, которое, не удивляя дочь своей внезапностью, позволяло пусть и иносказательно, а все же хоть как-то выговориться ему самому.
– А потому, что чепуха! – непреклонно сказала Женька.
– Но ведь, наверно, у кого-то и так может быть?! – не то спросил, не то даже воскликнул Каретников.
Женя удивленно посмотрела на отца, озадаченная необычной для него горячностью, за которой не угадывалось и частички привычной в отце иронии. Ее даже позабавило, с какой он серьезностью ожидал ответа.
– Что это тебя впечатлило так? – улыбнулась Женька. – Ну сам подумай: любят – и не знают об этом?! Значит, не чувствуют?! Где тут логика?
Она привела любимый его довод «где логика?» – близкое ему, исчерпывающее словечко, но Каретников почему-то не воспринял его, не узнал своим.
– Ну да, – сказал он, – если любовь – то вот так и так должно быть, иначе это и не любовь... А у людей – по-разному бывает. Кажется, встретил наконец – а уже и выбирать-то поздно... А может, гораздо больше трагедии как раз в том, что, даже и встретив друг друга, так и не поняли этого?
– Ах, поздно встретились, ах, не догадались!.. Да мы разве вообще выбираем? Мы все – разве выбираем? Вот когда я покупаю себе туфли, сапожки, платье – я действительно выбираю. Из десятка пар, из нескольких десятков фасонов... А мужа? – Она фыркнула. – Чаще-то из одного-единственного и выбираешь! Тоже мне – выбор! Тут уж просто как посчастливится, кому как на роду написано...
Насчет замужества или женитьбы она была, пожалуй, права, и он молча согласился с ней, но тут же подумал и о другом: если когда-нибудь, пусть и поздно, встречается в жизни такая, как Вера, это ведь тоже везение?
Отец считал, что он, его сын, одинокий человек, а разве с Верой он хоть на минуту был одиноким? И если бы ничего не закончилось, не оборвалось между ними после санатория... Стоило лишь допустить это, как немедленно их с Верой отношения уже представлялись ему сплошным ничем не омраченным праздником, неким даже лакомством души, когда повседневность повседневностью, семья семьей, а есть вот всегда в запасе и это непримелькавшееся, потаенное, что сулит одни только радости и приятно разнообразит жизнь, прибавляя ей дополнительный комфорт.
А как же иначе? Какой тогда вообще смысл в подобных отношениях? Потому что, если как у Ирины, если все сложно, если непрерывная цепь трудностей, страданий, – зачем тогда все это?
Сейчас, словно примеряя на себя перед дочерью свое фантастическое допущение, что ничего с Верой не кончилось, и прикидывая, а как, интересно, Женька отнеслась бы к этому, он заговорил с ней о себе возможном, но, разумеется, как бы о ком-то: что вот, дескать, все же и такое в жизни бывает, когда встретились случайно двое уже немолодых людей, у каждого из них семья, дети, и ничто не предвещало... а они вдруг поняли, что... как это в таких случаях говорится?., что не могут один без другого. И ничего, кажется, и не надо им больше, пусть все остается как есть – только бы видеться иногда, разговаривать... И длятся эти отношения уже много лет...
– И что ж ты в этом нашел такого нового, необычного? – насмешливо перебила Женька.
Он-то думал заручиться ее пониманием, сочувствием, и, несколько раздраженно, Каретников удивился:
– Как что?! Но такое чувство... Столько лет все-таки!
Для него, пожалуй – для него, который никогда не привязывался к кому-нибудь надолго, – это казалось самым что ни есть убедительным доводом.
– Тогда почему же он не ушел от жены? – спросила Женька. – Или у него благополучная семья?
Тут, на этих словах, Каретников снова ожидал насмешки, но дочь смотрела на него совершенно серьезно, да и тон ее был очень деловитым.
– То есть как?.. – Он совершенно не поспевал за ходом ее рассуждений, более того – он что-то вообще не улавливал смысла. – Что значит «благополучная», если...
– А то, что одно из двух, – рассердилась Женька на его непонятливость. – Если ему плохо с женой – почему он не ушел? А конечно... если нормально – тогда другое дело. И если другой ни о чем не догадывается... Ну, муж... или жена...
Каретникову показалось, что дочь как будто прикидывает для себя такую возможность, и, прикинув на будущее, не видит здесь никакой особенной безвыходности.
– Если при этом муж заботливо относится, – рассуждала Женька, – и они устраивают друг друга... – Она покосилась на отца, подыскивая для него какое-нибудь адаптированное выражение. – Я имею в виду, физиологически устраивают... Что ж, тогда вполне.
Разговор-то начинался с него, он о себе с ней говорил, но теперь его уже она сама забеспокоила.
– Что – «вполне»?! – Каретников потер переносицу – как всегда, когда затруднялся что-то понять. – Выходит, по-твоему, дело вообще не в этом... не в любви, а... а...
– Да в любви, папочка, в любви, – отмахнулась Женька, словно бы решив успокоить его. – Только где же ее взять надолго?
– Так я же и рассказывал тебе... Десять... нет, двадцать лет – мало?!
– По переписке, – усмехнулась Женька. – Или от встречи к встрече. Почти заочно. А уйди он к той женщине – еще неизвестно, как бы все у них сложилось. Счастливая семейная жизнь... двадцать лет?! Где ты читал про такое? У каких классиков? Может, твой этот, о котором ты говорил... может, потому он и не ушел, что понимал это?
«Да в тебе-то откуда такое понимание?!» – чуть не воскликнул в сердцах Каретников. Но что-то удержало его, как порой удерживает от вопроса нежелание о чем-то узнать, чтобы было спокойнее. Пока он, Каретников, ничего не знал такого, можно было считать, что ничего и нет и не было у его дочери – никакого взрослого опыта.
Все же спокойнее было вернуться к их прежнему разговору, не опасаясь каких-либо нежелательных для себя открытий, и Андрей Михайлович выразил предположение, что тот человек мог ведь из-за детей не уйти. Все-таки двое детей... А?
Такое допущение ему самому понравилось: речь-то не об интрижке и не о чем-то таком предосудительном, когда семью рушат... Должно же это вызывать по крайней мере сочувствие, когда человек и совесть не потерял, и любовь сберег!
– А дети его скоро вырастут, и им потом наплевать на эти жертвы, – усмехнулась Женька с чувством превосходства.
Каретников сделал протестующее движение: как же, мол наплевать, совсем не наплевать, – но дочь уверенно повторила:
– Именно наплевать! Ему, скорее всего, просто решительности не хватило. А он себе, видите ли, причину нашел: дети! А потом, чуть что, детей же и попрекают: всю жизнь ради вас мучился... или мучилась... А кто просил? И зачем было вообще мучиться? Какой смысл?
Она еще сказала и о нечестности, безнравственности того, когда человек столько лет живет с нелюбимой, когда он обманывает, выходит, и ту женщину, которую любит, и жену, да и своих детей тоже, а Каретников, почти уже не слушая ее, думал о том, что нельзя же было, в самом деле, ожидать от дочери – еще, по сути, ребенка – какого-то глубокого, чуткого понимания.
– А? – невпопад переспросил он, и Женька оборвала себя на полуслове, удивленно и более внимательно, чем прежде, посмотрела на него. Ей вдруг показалось сейчас, что он как будто сдал в последнее время, и не столько сразу после смерти своего отца, как, например, тетя Ира, а как-то именно в эти дни, словно горю, чтоб докатиться, потребовалось что-то еще преодолеть на пути к ее отцу.
Женька не могла себе объяснить, в чем это заключалось, что отец все-таки сдал немного, потому что обычных, расхожих признаков как будто не было – ни седины не прибавилось, ни новых морщин. Как и всегда, он выглядел подтянуто-спортивным, моложавым и даже выхоленным, словно бы только что хорошо выбрился и принял бодрящий душ. Но в лице его – может быть, в одних лишь глазах – появилось более серьезное, чем всегда, как бы присматривающееся, вопрошающее выражение, и это, малоуловимое, все же что-то меняло в его облике, не вязалось с тем, каким отец ей всегда виделся и представлялся до этого – уверенным, удачливым, легким.
– Заварить чай, как ты любишь? – спросила она.
Он с признательностью кивнул ей и отметил, с какой готовностью дочь захлопотала у плиты.
– Все-таки вы странные люди, – сказала она.
– Мы – это древний мир?
– Ну, не древний, а средние века – точно! – рассмеялась Женька. – Вы все, так называемые взрослые...
– Ну-ну, – усмехнулся Каретников.
– Да, «так называемые»! Потому что иногда кажется, что мы взрослее вас. Ты только не обижайся, ладно? Я же не тебя конкретно имею в виду... Вы, умудренные, взрослые, как-то неискренни в любви.
– Оч-чень любопытно... – сказал Каретников.
– У вас прежде всего расчет, а не любовь. Женщина вашего поколения – а до вас и тем более! – как рассуждала? «Если я отдамся ему до женитьбы, он, может быть, вообще потом не женится на мне». Вот почему ваши женщины «соблюдали» себя. А не из-за какой-то там необыкновенной скромности. А мы, сегодняшние, хотим быть честными в своих отношениях. Если я кого-то полюбила – что же, я не должна позволить себе с ним близости, пока он не сделает мне официального предложения и нам печати в паспортах не поставят?
– Это, как я понял, и есть решение личного счастья?
– А почему бы и нет? – с вызовом сказала Женька.
– И многие из вас так считают?
– Большинство.
– То есть, если к вам в институт заглянуть или просто по улице пройтись, мимо меня так и пойдут косяки?
– Какие косяки?
– Ну, как же! Косяки счастливых молодых девушек! Ведь решение-то вами уже найдено?
– Ну, видишь ли... – замялась Женька.
– Что, все равно туговато со счастьем? – участливо спросил Каретников. – А кстати, как вы разбираетесь: где любовь, а где не любовь?
– Вот, значит, и надо пожить вместе, чтобы разобраться.
– Ясно. Сначала пожить, а потом уж разобраться... Ну, хорошо. Поймешь, что не любишь его, – а дальше? Потом что?
Каретников говорил спокойно, на равных, ему не приходилось в чем-то пересиливать себя, притворяться, сдерживаться от гнева, потому что какие бы ужасно смелые и радикальные мысли дочь ни высказывала перед ним и какие бы из них она и ее подруги ни разделяли на самом деле – все это были, как он полагал, скорее лишь отвлеченные рассуждения. Во всяком случае, его Женьки они никак не могли впрямую касаться, он пока в этом был почти уверен. Отчего же и не быть ему сейчас демократичным и объективным?
– А по-вашему, лучше сначала все-таки зарегистрировать брак? – насмешливо спросила Женька. – Чтобы все – чин чином?
– Да я вовсе не штамп в паспорте обсуждаю. Я – о границах: как уследить, чтобы они постепенно не сгладились от такой легкости? Сегодня сошлась потому, что кажется, будто любишь его. Завтра – потому, что другой понравился. Послезавтра – уже достаточно, что просто приглянулся, – почему бы и не сойтись, что тут такого?
Говорил все это Каретников искренне, не помня сейчас никакие свои собственные минутные встречи. Сейчас он был прежде всего отцом, только отцом, стремящимся предупредить, обезопасить дочь, уберечь как-то от легкомыслия, ошибки, и это требовало полного забвения тех своих поступков, память о которых лишь мешала бы ему убеждать и воспитывать.
– А из любви фетиш делать – тоже, знаешь!.. – воскликнула Женька. – Прямо как молимся на это!
– Не молимся, но, видишь ли... Оттого, что сходятся, случаются иногда дети. Хоть от любви, хоть без...
– Представь, где-то я об этом слышала.
– Слава богу. Почему же они должны расплачиваться за ваши передовые идеи? Ты бы хотела без отца расти?
– Без тебя – никогда!
– Вот видишь...
– Папочка, но дети-то – не проблема!
– То есть как? Не понимаю. Не чувствовать перед своим ребенком обязательств, чтобы он имел возможность жить в нормальной семье, при обоих родителях?
– При чем тут это? Я говорю о возможностях медицины.
– Медицины?..
– Ну да! И тогда никаких этих проблем, потому что – никаких детей, пока сама их не захочешь. Фармакология, папочка. И чем дальше, тем надежнее.
Ему стало не по себе от такой осведомленности, но он снова успокоил себя, что одно дело – о чем-то знать, слышать от других или просто в книжках вычитать, и совсем другое – самой решиться. Взрослеют сейчас они, конечно, рано, и говорят обо всем много свободнее, но это совсем ничего не значит.
– Папочка, чего это мы вдруг замолчали, а?
– Я... я все чаю жду.
Спохватившись, Женька стала выливать старую заварку и всполаскивать чайничек, а он принялся подсказывать ей самые очевидные действия, но не нудно, не назидательно, как мама или бабушка, и таким отец ей нравился.
Женька ласково полусердилась на него за подтрунивания – ну что за дела, в самом деле?! неужели я сама не умею заваривать?! – Андрей Михайлович тут же необидно высмеивал ее за очередную какую-нибудь оплошность, она, понимая, что он прав, смешно сердилась уже на себя, на свое неумение, он тогда с преувеличенной заботливостью принимался успокаивать ее, и между ними была теперь та редкая согласность двух взрослых людей, когда они еще и по душе становятся на какое-то время близкими, а не по одному лишь родству, и когда к тому же никто из них никуда не спешит, не озабочен в эти минуты чем-то отдельно своим, неинтересным другому, а впереди предчувствуется все такая же спокойная беседа на равных и приятная обоим терпимость к чужому мнению.
Пока Женька разливала чай, не забыв, что отец предпочитает стакан с подстаканником, а не чашки, как все у них дома пили, Каретников, возвращаясь к их разговору, сказал, что он, кажется, понимает, в чем ошибка ее сверстников.
– Вас раздражает, что мы вроде бы поучаем все время: «Когда любишь, то правильно поступать только так-то и так»...
– А разве вы иначе говорите?
– Возможно, что и так иногда, – допустил он. – Но вы-то сами – что этому противопоставляете? Вместо одного абсолюта – другой? У вас ведь тоже только одно правильно, для всех – одно: «Поступать надо вот так! Всем!»
– Господи, – сказала вдруг Женька, – «вы», «мы»... Любить надо как любится. Было бы только кого любить!
Каретников уловил горечь в ее словах, но это лишь окончательно успокоило его: ничего, значит, и в самом деле у нее еще не было такого...
По праву возникшего между ними согласия он взял, не спросясь, листки со стола, кем-то перепечатанные на старенькой подслеповатой машинке с прыгающими буквами, и установил, что полуночное увлечение дочери не имело никакого отношения к институтским занятиям, а было связано с гороскопами. У себя на кафедре, среди медсестер и лаборанток, он недавно видел нечто подобное. Да и от знакомых тоже приходилось слышать шутливо-серьезные рассуждения, что нынче год такого-то знака, потому и встречать его надо, облачившись в одежды определенного цвета. И в санатории все женщины словно бы помешались на самоцветах, обсуждая, кому какие камни подходят – по дням и месяцам рождения. Поддавшись тогда соблазну, Андрей Михайлович чуть было не купил в киоске эти камешки для жены и дочери сообразно указаниям перечня, выставленного в окошке, но возле киоска всегда были огромные очереди, да и неожиданно дорогими они оказались, эти самоцветы, для курортного мужчины, – он и не предполагал, что они так дороги.







