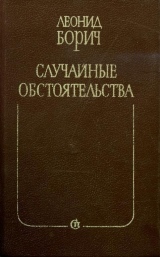
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
Каретников перелистал записную книжку, наткнулся на телефоны школьного приятеля, вспомнил, что давно не только не виделся, но уж года два как не звонил ему, потянулся к телефонной трубке, но тут же подумал, что домой еще рано, а на работу... Наверно, по горло занят, люди всегда у него, и, конечно, не поговоришь толком. Если бы еще какое-то дело к нему, а так...
Можно было перелистать, не торопясь, свежий номер «Вестника хирургии» или «Стоматологии», а можно и наплевать, никуда оно не уйдет, а вместо этого заварить себе хорошего чаю. А если в голову взбредет, то и домой пораньше уйти, даже не домой, а просто так, по набережной, по незнакомым улицам, по ненужным тебе магазинам – обуви, верхнего платья, строительных товаров, – вдруг обнаруживая, как это иногда приятно: понимаешь бессмысленность того, что делаешь, а все равно охотно уступаешь этой абсурдности.
И хотя чаще всего Каретников обычно так и не уходил с кафедры раньше времени, наталкиваясь всякий раз на что-то непредвиденное, что требовало его присутствия и вмешательства, – уже в одной этой возможности распоряжаться собой была для Андрея Михайловича особая привлекательность. Он и сейчас мог выбирать, и этого сознания было достаточно, чтобы уже и не особенно желать какого-то выбора.
В настольном календаре среди прочих и выполненных и уже, видимо, неисполнимых сегодня дел была коротенькая запись:
«Вал. Фед. Раб. тел... Микроскоп».
Эта пожилая, расплывшаяся женщина, Валентина Федоровна, подслеповатая, несмотря на очки с толстенными стеклами, была на редкость стеснительной для своей должности. Она могла и сама к нему обратиться, а не через кого-то, но Каретников понимал: «Здравствуйте, я заведую всем медицинским снабжением города...» – не скажешь ведь так? Вот и пришла с запиской от знакомого профессора показать своего иногороднего племянника. У парня оказалась фиброма языка, опухоль доброкачественная, и этот диагноз, за которым не следовало никаких особых проблем – обычная, в общем, операция, – вызвал у Валентины Федоровны столь бурную признательность, что отказать ей в возможности и самой быть, в свою очередь, чем-то полезной было бы со стороны Андрея Михайловича почти бестактным.
Для приличия он некоторое время еще довольно вяло отказывался, но она так мучительно краснела, настаивая на какой-нибудь услуге со своей стороны, что Каретников позволил уговорить себя и попросил, если это в ее силах и не слишком для нее хлопотно, достать им операционный микроскоп марки «310», гедеэровский, так как в Медтехнике его нет, а через министерство заказывать – путь слишком долгий. Она так обрадовалась возможности помочь их клинике, что Андрей Михайлович по-настоящему почувствовал себя благодетелем не после того, как установил диагноз и взялся вылечить ее племянника, а лишь когда и ей позволил оказаться полезной.
Сейчас, позвонив Валентине Федоровне, он еще не успел толком представиться, как она тотчас узнала его. Микроскоп можно было получить на следующей неделе – в той же, кстати, Медтехнике, – но Каретникову и тут пришлось не столько самому благодарить Валентину Федоровну, сколько опять выслушивать ее горячую благодарность, отчего, кажется, Андрей Михайлович и сам уже стал склоняться к мысли, что она-то как раз и должна благодарить его – и за племянника, и... Как-то так получалось что и за этот микроскоп тоже.
Заканчивая их любезный телефонный разговор и сказав: «Ну что вы!., пожалуйста... пожалуйста...» – Каретников пришел в прекрасное расположение духа и стал искать, что бы еще такое доброе сделать до конца дня. Он даже пооткрывал подряд все ящики письменного стола, не тронув лишь правый верхний, словно бы точно знал, что во всех других ящиках что-то еще может попасться из того, чем можно сейчас заняться, а в правом верхнем ничего такого и быть не может. Удивительно ему это всегда удавалось: не вспоминать о том, что может причинить лишнее беспокойство, вызвать какое-то неудовольствие, испортить настроение. Такая избирательная забывчивость счастливо охраняла Каретникова от многих неприятных или нежелательных воспоминаний, и он на свою память никогда особенно не сетовал, зная, что чаще всего забывается только ненужное или чем-то неудобное ему. Но и зная об этом, он иногда на всякий случай все же перепроверял себя и хоть мельком, да припоминал то, что настойчиво обходилось им стороной, чтобы тут же забыть уже вконец успокоенно, лишний раз убедившись в несрочности или необязательности этого дела.
Так и теперь было: он все же выдвинул мимоходом и верхний правый ящик, взглянул на стопку исписанных круглым женским почерком листков, и тут же у него неприятно засосало под ложечкой, он даже почувствовал легкое поташнивание, как при взгляде на еду, которая, ты заранее знаешь, невкусна, да что там – просто отвратительна тебе, но ее тем не менее обязательно нужно съесть.
И как же тут не взяться было уверенности, что нет, почти не бывает так в природе, чтобы одной женщине давалось сразу все. Если уж умна, то чаще всего некрасива, а если и личико смазливое, и фигурка замечательная, то лучше бы уж молчала, что ли... Когда два с лишним года назад, незадолго до своей смерти, шеф брал Серебровскую к ним на кафедру, он, при всей его упрямой принципиальности, видимо, невольно все же поддался тому взгляду, свойственному большинству мужчин, что красивой женщине позволяется в жизни чуть больше, чем всякой другой: она может не так вкусно готовить, не так хорошо выполнять свою работу, не особенно, в конце концов, разбираться в науке. Да и кто скажет, кстати, что кандидатские диссертации – удел лишь настоящих ученых, а оперировать могут только люди с искрой божьей? Где бы тогда набрать было столько ученых и хирургов?
А помимо всех этих рассуждений, была тут и некая обязанность нравственного свойства – обязанность перед памятью Александра Ивановича, перед именем которого Каретников до сих пор преклонялся: как же не выпустить Киру Петровну кандидатом наук, если в свое время шеф посчитал возможным взять Серебровскую на кафедру и, насколько помнится, никогда не высказывал сожаления по этому поводу.
Нравственная обязанность перед памятью шефа вполне, однако, уживалась в представлении Андрея Михайловича с тем, что, по справедливости, Кира Петровна все-таки не должна становиться ученым, не ее это дело. Но ведь и то было верно – и это успокаивало Каретникова, – что и вокруг и рядом встречались десятки, сотни других, которым Кира Петровна ни в чем не уступала. Она и защитится не хуже, да и объективно ее работа не будет слабее других диссертаций. Пять, десять раз Серебровская перепишет каждую свою страницу, но на защиту она выйдет с работой, не требующей никакого снисхождения. В конце концов, тут и авторитет кафедры...
Конечно, эта забота, которая воспринималась Каретниковым исключительно как радение о престижности кафедры, была еще и не просто заботой об их кафедре, а о кафедре, им, Каретниковым, возглавляемой, и о диссертации, им теперь руководимой. А так как все, за что отвечал Андрей Михайлович и по чему, пусть даже косвенно, можно бы было судить о нем как о научном руководителе и заведующем кафедрой, он не любил делать кое-как, то и диссертация Киры Петровны не могла быть кое-какой, сколько бы тут ни пришлось потратить и своих, и ее нервов.
Но, видно, сегодня уже не успеть? Андрей Михайлович обрадовался, что неприятное ему занятие можно перенести на завтра, но, взглянув на часы, разочаровался: оказывается, телефонный разговор и поиски, чем бы занять себя в оставшееся время, раз он так и не собрался уйти пораньше, заняли всего пятнадцать минут. Целый академический час еще оставался.
Каретников решительно выложил на стол рукопись Киры Петровны, и никакие соображения не занимали его сейчас, кроме нетерпеливого желания, чтобы вся эта работа оказалась уже в прошлом. Так он и поступал в детстве с ненавистной ему математикой, садясь дома за уроки: если уж нельзя было не делать, то лучше сделать это поскорее, чтобы избавиться.
По мере того как Андрей Михайлович читал рукопись, настроение его портилось. Раздраженно он пытался связать между собой отдельные абзацы, уловить смысл в длинных предложениях, но все повисало, безобразно расползалось, и от невозможности хоть как-то понять, зачем все это, ради какой мысли, Каретникову в эти минуты и сама Кира Петровна была неприятна, и себя он чувствовал чуть ли не оскорбленным.
Он-то писал совсем не так легко, как это потом казалось при чтении его опубликованных статей. Он знал настоящую цену той четкости своего изложения, и сжатости, и легкости слога, которые нравились многим его коллегам и даже шефу, но он знал и тот стыд, который охватывал его, когда спустя какое-то время ему попадались на глаза свои же черновики, которые он забывал порой уничтожить. Эти черновики унижали его: они были много глупее, чем он, Каретников, о себе думал. Его даже удивляло, как из всего этого получалось в конце концов что-то настолько путное, что статья, появившись в журнале или в каком-нибудь сборнике, уже казалась ему часто умнее самого себя, ее автора. Но как ему это давалось – он-то хорошо знал.
Почему же он, Каретников, мог по многу раз переписывать, до тех пор, пока в рукописи не оставалось ни одной помарки, почему мог стесняться своих черновиков, а она, Кира Петровна, без всякого стеснения, без малейшей неловкости предлагала себя неприбранной, неопрятной, неряшливой?.. Его даже и то возмущало сейчас в ее рукописи, что она часто употребляла фразы «нам представляется», «следует отметить», «мы полагаем» – те самые шаблоны в научных статьях, к которым и он сам нередко прибегал. Но у Киры Петровны за всеми этими фразами не было никакого обеспечения: и представлять все требовалось иначе, чем ей представлялось, и отметить следовало совсем не то, что она отмечала, да и те редкие места, где она соображала верно, еще надо было вразумительно изложить.
Всегда обычно вежливый и тактичный со своими сотрудниками, особенно если это касалось женщин, Андрей Михайлович отрешился в эти минуты от какой бы то ни было обходительности. Замечания его на полях рукописи были и язвительны, и в достаточной мере обидны, а добрую треть текста он вообще перечеркнул, так что из той порции, которую он требовал от нее каждую неделю, осталось всего три страницы.
В этом мрачно-воинственном настроении его и застал Сушенцов, когда, постучавшись, зашел в кабинет. Рукопись, что лежала перед Каретниковым на столе, он легко узнал по почерку, хотел было уже выразить шутливое соболезнование Андрею Михайловичу, что вот, мол, какой тяжкой и неблагодарной работой приходится тому заниматься – они-то все на кафедре понимали, что никакой она не ученый, замечательно сложенная Кира Петровна, – но посочувствовать Андрею Михайловичу вслух Сушенцов все же поостерегся. Слишком привлекательной женщиной была Кира Петровна, чтобы ему, Сушенцову, рисковать сейчас. Кто знает, что там за отношения у них, если Каретников столько возится с ее диссертацией? И в таком случае ему, может, не сочувствовать, а завидовать надо. Замужняя женщина – значит, никаких тебе обязанностей где-то появляться с ней, опасаясь, что вас могут знакомые увидеть; никакого особого времени тратить не приходится, она же сама обременена семьей; встретился где-нибудь на час-другой – и расстался, встретился – и расстался, и никаких вообще проблем: если что – так не ты, а муж виноват...
Но нет, все-таки не похоже, чтобы между ними что-то было такое. По Кире, пожалуй, этого можно и не определить, женщины в этом смысле хитрее, но Андрей Михайлович чем-то бы наверняка выдал себя однажды, хотя бы взглядом.
А к нему, Сушенцову, она все же явно благоволила. Как-то, когда они только вдвоем сидели в ординаторской и он помог ей отредактировать очередную порцию листков из ее будущей диссертации, которыми впоследствии Каретников – кажется, впервые! – остался почти доволен, Кира Петровна восхищенно, ласково погладила его по руке и с сожалением вздохнула:
– Ах, Володенька... Ну почему не вы заведуете нашей кафедрой?!
В одну эту фразу она сумела вложить столько текста, что Владимир Сергеевич сразу многое понял: и что она восхищена им как ученым, и что он сам по себе ей симпатичен, и что она не ханжа какая-нибудь, а женщина современная, без мещанских предрассудков, но что, увы, не от него же зависит судьба ее диссертации, и он должен понять, что просто так позволить себе с ним – нет, этого она, к сожалению, не может, это как бы и неприлично, в конце концов, у нее все-таки крепкая, хорошая семья, этим, согласитесь, просто так не рискуют...
Как согласился про себя Владимир Сергеевич, определенная логика тут, безусловно, была, и теперь, войдя в кабинет Каретникова и взглянув на исчерканную, в жирных вопросительных знаках верхнюю страницу рукописи Киры Петровны – остальные листки постигла, скорее всего, та же участь, – Сушенцов вдруг подумал, что он бы вполне мог помочь Кире Петровне без особой траты времени. Ее материал он хорошо знает, сядет вместе с ней и все продиктует так, чтобы понравилось Каретникову. И тогда судьба ее диссертации в значительной мере будет уже от него зависеть...
– Андрей Михайлович, тут один больной интересный... Я его амбулаторно консультировал...
– Надо, чтоб я его посмотрел? – Лицо Каретникова неожиданно смягчилось, он поставил на полях рукописи одобрительный знак восклицания – наконец-то Кира Петровна хоть в одном абзаце дело сказала.
– Да нет, там все ясно. Я ему привожу в порядок нижнее веко, а он берется за две недели весь инструмент сделать...
«Что ж, спирт нужен?» – подумал Каретников с неудовольствием. Ему это всегда не слишком по душе было: все же спирт – штука малоэтичная... Хотя, если потребуется – они, само собой, и спирт дадут. Не любил только Андрей Михайлович, когда его об этом в известность ставили: достаточно для подобных расчетов у него помощников. Есть же вещи, которые делаются – конечно, делаются! – но говорить о которых – как бы это выразиться? – ну, дурной вкус, что ли. И уж если это совершается нами ради благого дела – а инструмент для микрохирургических операций безусловно необходим, и никак иначе его пока не достать, – если такая сделка происходит вынужденно, вопреки нашим представлениям о должном, то пусть хоть совершается она так, чтобы не требовалось на это его благословения. Должен ведь кто-то и несведущим оставаться – кто-то, кто не запятнан знанием того, что вокруг совершается. Кому и быть таким непорочным, если не руководителю? Как тогда их всех – и врачей, и сестер, и нянечек – ему в честности воспитывать?!
– Так что, – спросил он Сушенцова, – какая-нибудь помощь нужна?
– Позвонить бы нужно, – сказал Владимир Сергеевич. – Начальнику цеха. Чтоб не препятствовал. И весомее будет, если вы сами...
– И всего-то делов?! – с облегчением улыбнулся Каретников, придвинув к себе настольный календарь. – Давай телефон.
– В том-то и дело... – замялся Сушенцов. – Городского там нет, только внутренний.
– Чем же я могу помочь? – нахмурился Каретников. Не ехать же ему к проходной завода и оттуда звонить. Такой несолидностью только все испортить можно. Неужели Сушенцов не понимает?
– Я подумал, – извиняющимся тоном сказал Сушенцов, – а что, если директору завода позвонить? Так, мол, и так... Я – профессор такой-то, у нас лечится ваш рабочий...
– Минуточку, – остановил его Каретников с серьезным лицом, словно бы собираясь записывать. – Помедленнее, пожалуйста. Значит, «так, мол, и так... я – профессор такой-то...»
– Извините, – рассмеялся Сушенцов. – Я к тому, что жаль все-таки упускать...
– Ничего, – успокоил его Каретников. – Директору даже логичнее. – Ему и в самом деле это больше нравилось: чтоб без всяких промежуточных инстанций, согласно чину, как говорится. – Телефон догадался узнать?
– А как же, Андрей Михайлович! За кого принимаете?!
На завтра Каретников записал в перекидном календаре номер директорского телефона.
– Молодец, – одобрил он Сушенцова. – А на той неделе съездишь в Медтехнику насчет операционного микроскопа.
– Так я же был недавно. Они говорят, что неизвестно когда...
– Это им неизвестно, а мне – известно. Скажешь, что от Валентины Федоровны.
Он углубился в рукопись, показывая всем своим невозмутимым видом, что умение раздобыть что-либо для кафедры может быть предметом гордости для Сушенцова, для других, но не для него, Каретникова. Он сам и значения этому не придает.
– От Валентины Федоровны? И дадут? – не поверил Сушенцов.
– Ты думаешь, только у тебя бывают интересные больные? – Андрей Михайлович кивнул на разложенные перед собой листки. – Позови-ка ее сюда.
– Кого? – невинно спросил Сушенцов.
– А то не знаешь! – усмехнулся Каретников. – Зови! – приказал он.
– Можно к вам, Андрей Михайлович?
Кира Петровна, высокая, стройная, в ослепительно белом накрахмаленном халате, отдающем голубизной, в докторской шапочке, из-под которой на лоб были выпущены несколько аккуратных белокурых прядок, стояла в дверях с тем обезоруживающим выражением кокетливой беспомощности, когда невольно хочется тут же галантно прийти на помощь, быть предупредительным и уступчивым. К тому же Кира Петровна долго жила в Прибалтике и вывезла оттуда приятный, нежный акцент, придававший голосу какую-то особую доверительную мягкость, и оттого все, даже самые безличные слова, которые она произносила красиво очерченными ярко-алыми губами, приобретали оттенок почти интимного обращения. Но сейчас, под впечатлением только что прочитанной ее рукописи, Каретникову и беспомощность ее казалась специально придуманной, и акцент нарочитым.
– Да-да, пожалуйста, – сухо проговорил Каретников, приглашая войти. – Присаживайтесь, Кира Петровна. Сейчас поговорим, досмотрю только...
Тут, собственно, нечего было уже досматривать, а следовало лишь придумать, какими словами сказать ей, что написано все беспомощно, а выводы, которые она делает, – это черт знает что за выводы! Какой-то неандертальский уровень!
– Итак... Что же у вас получается?.. – вздохнул Каретников.
– Опять плохо?! – с детской горечью спросила Кира Петровна.
Она смотрела на него так покорно, что, и не сумев побороть в себе раздражение, он все-таки уже не мог быть достаточно резким.
– Да как вам сказать...
Одновременно и странными и притягивающими были у нее глаза – желтоватые, мерцающие, с выражением той холодноватой ласковости, которая не дает все-таки ощущения глубокой привязанности к кому-то одному. Но тем не менее всякий раз, когда Кира Петровна говорила или даже просто смотрела, казалось, что и говорить так нежно, и смотреть так ласково она может только на тебя одного.
– Вообще-то этот вариант, конечно, получше... – успокаивающе проговорил Каретников и, чтобы не выдать своей неискренности, снова уставился в рукопись.
От нее не укрылось, как он все время старательно отводит глаза. Кира Петровна хорошо знала, что нравится мужчинам, что есть в ней что-то такое, чего она и сама не могла бы объяснить, но что привлекает к ней мужчин с самыми разными вкусами – и тех, кто любит худощавых, как она, и тех, кому нравятся пышнотелые, но кто, очутившись рядом с ней, забывает о своем вкусе. А так как мужчины, даже самые умные, при всем их уме становятся до смешного понятными и необыкновенно похожими в своих ухищрениях друг на друга, то и Андрей Михайлович не мог составлять какого-то исключения. И оттого, что он был сейчас официален с ней, даже как будто холоден, вовсе не следовало, что она ему безразлична как женщина. Скорее наоборот: именно этим подчеркнуто деловым тоном и тем, как он старательно избегал встретиться с ней взглядом, он и выдавал свою незащищенность перед ней. Конечно, с Володей Сушенцовым было все понятнее, но ничего...
«Куда тебе деться?» – преданно глядя на Каретникова, думала она почти ласково.
– Но вот, скажем, здесь, например... – Каретников отчеркнул полстраницы и поставил вопросительный знак на полях. – Из чего это вытекает? Где тут логика?
Ну, разумеется: он приглашал подойти поближе. Что-то подобное она уже давно ожидала от Андрея Михайловича – он всегда нравился ей, высокий, широкоплечий, чуть ироничный, умный, – и, удовлетворенно усмехнувшись про себя, она встала, обошла стол и остановилась рядом с Каретниковым.
Хорошо, что сегодня все на ней так продуманно... Но для начала надо было все же попытаться вникнуть, о чем он говорил. Близоруко прищурясь, Кира Петровна пробежала глазами свой текст. И что ему здесь не нравилось?!
– А если этот абзац под конец перенести? – спросила она. – Или... – она отыскала один из листков на столе, – ...или сюда?
– Можно... – Андрей Михайлович пожал плечами. – И под конец можно, и в середину. Куда ни поставь, везде вроде бы он к месту, – хмыкнул Каретников. – А вот если бы здесь была по-настоящему логическая связь, вы бы никуда не смогли его переставить. А так – он у вас по всему тексту может себе разгуливать. И кстати... что это за фраза: «...переходит в таковое боковой стенки»? Не по-русски как-то.
Тоном своим Каретников был недоволен. Нужно бы как обычно: с иронией, с усмешкой, легко, – а он говорил каким-то скучным, поучающим голосом, и случалось это именно когда он с ней говорил. Какой-то въедливый, скрипучий, по-старчески нудный тон.
– Ой, Андрей Михайлович, я очки забыла... – словно бы заранее извинилась она за то, что ей близко приходится наклониться к листкам на столе и, значит, к нему, Каретникову, тоже.
Возможно, это объяснялось в какой-то мере неожиданностью затеянного Кирой Петровной кокетливого наступления, а неожиданность нередко тормозит даже самые древние мужские инстинкты; возможно, по молодости и самонадеянности своей – хотя ей и было отчего надеяться на себя, – Кира Петровна все же не учла, что до сих пор бытует еще тип мужчин, которых отталкивает слишком очевидная женская предприимчивость; а может – дай-то бог! – не таким все же легкомысленным человеком был Андрей Михайлович, – но только не чувствовал он в эти минуты ни малейшего почти волнения от непосредственной близости у своей щеки и у плеча всего того, что, по справедливости, могло быть и было гордостью Киры Петровны. Как, впрочем, не менее возможно и то, что мужчине на пятом десятке необходимо иногда убеждение, что ты нравишься не потому, что от тебя столь очевидно зависят, а и сам по себе.
Так или иначе, но Каретников от этого затянувшегося прикосновения Киры Петровны ощущал скорее неудобство, тем более что в любую секунду сюда мог заглянуть кто-нибудь из сотрудников и вообразить то, чего не было ни в мыслях, ни в ощущениях Андрея Михайловича.
А еще Андрей Михайлович чувствовал и некоторую беспомощность, потому что, например, хотя бы чуть отодвинуться от Киры Петровны он тоже не мог: в конце концов, то, что он воспринимал как явную женскую уловку, могло быть на самом деле совсем не намеренным с ее стороны, – и хорошо бы он тогда выглядел!
От всего от этого Каретников говорил, может быть, порезче, чем собирался говорить.
– Ну, а выводы, – сказал он, – совсем уж микроскопические. Вот в первом же... – Каретников ткнул карандашом. – Где тут ваше понимание патогенеза? Как происходит метастазирование? По каким путям?
Кира Петровна наклонилась еще ближе, старательно вглядываясь в те строчки, на которые указывал Каретников.
– Ну... – кокетливо протянула она, – тогда... тогда можно написать, что... что из-за распространения по лимфатическому руслу все и происходит. Нет?
– Что именно? – спросил Каретников почти с неприязнью. – Происходит – что?
В ту же секунду он перестал ощущать ткань ее шуршащего халата у своей щеки и усмехнулся точности дозировки, с какой Кира Петровна допускала услаждаться собой: дескать, ты ко мне холодно – что ж, тогда и я тоже.
– Что метастазирование опухолевых клеток происходит из-за их распространения по лимфатическому руслу, – сказала Кира Петровна.
«Чурбан какой-то бесчувственный, – обиделась она и тут же мстительно подумала: – Может, ему вообще уже ничего не надо?»
– Н-да... – Каретников откинулся на спинку стула и, постукивая карандашом, стал обдумывать, как объяснить ей, что для диссертации необходим все же иной уровень мышления. – Видите ли, Кира Петровна... Вы сравниваете, скажем, собаку и лошадь. И все ваше утверждение сводится к тому, что и та, и другая имеют ноги. Или, в лучшем случае, что они – едят. Тоже ведь верно? Но возможен и другой вывод: и собака, и лошадь – животные. Это уже, если хотите, хоть какая-то концепция. Понимаете?
Она понимала. Несмотря на причиненную ей обиду, он все же нравился Кире Петровне и без всяких меркантильных соображений. Но так как были и меркантильные, ей уже совсем не трудно было даже сейчас смотреть на Андрея Михайловича с откровенным обожанием. И под этим ее взглядом Каретникову уже начало казаться, что он, наверное, излишне суров с ней, чересчур придирчив и что нужно быть снисходительнее.
– Давайте-ка вот что, – неожиданно мягко проговорил Каретников. – Я вам наговорю «рыбу», ну, приблизительный сюжетец, а вы записывайте. Если что непонятно будет – объясню. Идет?
– Ой, Андрей Михайлович, конечно! – просияла Кира Петровна, одарив его таким благодарным и нежным взглядом, каким смотрит женщина, которая вновь обрела уверенность, что она нравится.
В тот же миг Кира Петровна уже все-все простила ему: и то, как он изводил ее своей логикой, заставляя по нескольку раз переписывать каждую строчку, и то, как он всегда был вежливо-холоден с ней, ни разу – ну абсолютно ни разу! – не взглянув на нее так, как она любила, чтобы на нее смотрели, – и не только простила, но еще и себя укоряла в своей несправедливости к нему: мужчина он хоть куда! А то, что так вел себя с ней, – так ведь не мальчик все-таки, да и положение обязывает. И потом, он уже столько времени на нее потратил, что чем же и объяснишь это, как не его расположением? Даже совестно, сколько он возится... Хотя сам, конечно, виноват: за каких-нибудь две-три недели мог бы надиктовать ей почти всю диссертацию. А то, как до сих пор было, – это же сущее мучение! Сколько раз можно переписывать? Ни конца ни края. Так она вообще никогда не напишет.
– ...не только распространение, но и рост, развитие, – диктовал Каретников, расхаживая по кабинету. – Следовательно...
Он задумался, формулируя один из выводов, который вполне бы мог войти в его статью, но теперь, захваченный тем, как логично и доказательно все выстраивается, он с увлечением продолжил:
– Следовательно, лимфатические сосуды можно рассматривать не только как пути метастазирования, но и как среду... Успеваете?
Кира Петровна кивнула. Но это же только часть главы. А остальное? Опять варианты, бесконечные переписывания... Уж и так все, наверное, над ней посмеиваются... Нет, сам, конечно, виноват. Придется к Володе... Он-то как миленький согласится!
– ...как среду, в которой растет злокачественная опухоль. Лучше сказать: «...в пределах которой», – поправил себя Каретников.
Кира Петровна посматривала теперь на него даже с некоторой жалостью: не ему, а Сушенцову, значит, повезет. А он и не догадывается, как много потерял.
– Таким образом, – диктовал Каретников, – существуют не только макро-, но и микроскопические границы злокачественного роста. Определять лишь первые – уже недостаточно...
Пережидая, пока она допишет за ним фразу, Андрей Михайлович подошел к окну. Внизу, у табачного киоска, неподалеку от трамвайной остановки, целовалась какая-то парочка. И в том, как они это делали – спокойно, без какой-либо страсти, почти с ленцой, – было что-то отталкивающее.







