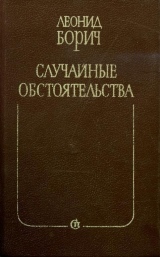
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Говорил он с паузами, передыхая, удивляясь, как иногда стало случаться, что вдруг воздуха не хватает.
Она вытерла слезы, успела улыбнуться его словам: «кое-что»?! – хотела было возразить, но, внимательно посмотрев на него, обеспокоенно сказала: «Вот видишь, опять у тебя одышка! Я же просила... Ты так и не выбрался к врачу?»
Он лишь отмахнулся: ничего же такого срочного, никаких болей, а электрокардиограмма, анализы – все это времени требует... «Какого времени?! – возмутилась Ирина. – Два врача в семье! Один – профессор, другая – целым районом командует...»
Михаил Антонович заступился за сына: Андрюша и так света белого не видит, весь в науке, в кафедральных делах, и еще каждый вечер ему домой звонят – то больной вдруг отяжелел после операции, то просят какое-то лекарство достать, то помочь в институт положить... Ты думаешь, ему легко? Когда кто-нибудь из его сотрудников произносит слово «шеф», оно все еще не к нему относится, а к покойному Александру Ивановичу. Можно понимать всю справедливость этого, но разве от такого понимания Андрюше легче?
«А мама? – спросила Ирина. – Ей-то ведь только трубку снять... Или тоже некогда?..» – «Ты зря так, Ирина. И вообще: почему тебе кажется, что руководить кем-то – это одно сплошное наслаждение?»
«Скажи, ты хоть однажды осуждал кого-нибудь до конца?» – сердилась Ирина. «Знаешь, – улыбнулся он, – Лев Толстой как-то записал в дневнике: «Людей нельзя не любить: они все, мы все так жалки. Ужасно жалки»...» – «Эх ты, – вздохнула она, – непротивленец ты наш...»
Тогда он промолчал, а сейчас мог бы и возразить ей, что ничего, мол, подобного – бывает он и этим... как это?.. «противленцем», вот как сегодня с директором. Однако, подумав так, он почувствовал неловкость: копеечное, в сущности, дело, а уже и удовлетворение собой, чуть ли не гордость. Как странно... Отчего это мы такие? Не раз уже замечал: у человека боевые награды в войну, ордена и медали за храбрость, отвагу, за то, что рисковал жизнью – всей своей жизнью! – а когда надо рискнуть лишь своей должностью, у него решимости не хватает. Что это – разные качества храбрости? А может, для него бывает важна эта его должность так же, как жизнь? То есть это и составляет теперь для него всю жизнь?
По дороге из школы он останавливался обычно на набережной и наблюдал, как мальчишки удят рыбу. Редко когда клевало в этих местах, но ребята смотрели на свои поплавки с такой серьезной и терпеливой надеждой, что очень хотелось, чтоб им повезло наконец.
Погода в этот весенний день была на редкость тихой, поплавки застыли пятнышками на светлой воде и казались почти черными. Михаил Антонович поставил у ног тяжелый портфель с очередной порцией ученических тетрадок, которые предстояло еще сегодня проверить, и облокотился о гранитный парапет. Он долго стоял так, отдыхая, и вдруг улыбнулся. Позабавила его своя же мысль, что вот, кажется, чего недостает взрослому его сыну: этого почти бессмысленного уженья рыбы. Не настоящей, заранее обдуманной и подготовленной рыбалки, когда непременно воздается тебе за твой труд, а именно бы вот такой бескорыстной рыбалки у парапета, с предвидимой ничтожностью результата и пользы...
Совершать бы Андрею что-нибудь просто так, не обряжая поступок или разговор в какую-то обязательную функцию: это – для того... это – для того, чтобы... Потому, как вчера, например, и явная озадаченность, недоумение, почти растерянность, когда кто-то, позвонив ему, слишком, видимо, долго, на взгляд Андрея, не обнаруживал истинных мотивов. Андрей – в свою, наверное, очередь – вежливо интересовался чьими-то домочадцами, общими знакомыми, а сам все подобраннее делался, все напряженнее. Явное ожидание было на его лице: ну хорошо, а ради чего же все-таки ему звонят? И тогда даже облегчение, когда понял: вот оно что! оттого, значит, и звонит, что дело есть! Вот теперь все наконец правильно...
Когда-то давно, еще в школьные годы, сыну нравились совместные их прогулки. Сам, бывало, тянул: папа, пойдем, поговорим? Всякий раз они выбирали какой-нибудь новый маршрут: и вроде бы рядом с домом, а все же находились такие улочки и переулки, по которым раньше они не ходили. И можно было объяснять сыну: вот это – правильно, это – неправильно...
Надо его обязательно вытащить сегодня на прогулку, решил Михаил Антонович. Иначе никогда и не поговорить толком.
С твердым этим намерением он пришел домой и, еле дождавшись конца ужина, сказал:
– Андрей Михайлович, а давненько мы с тобой не прогуливались вдвоем... – Шутливо он назвал его по имени-отчеству, чтоб и дальнейший разговор можно было вести тоже как бы шутя, не обнаруживая своей обиды, если сын откажет ему.
– Давненько, – охотно подтвердил сын и озабоченно посмотрел на часы. – Ого!.. Лена, если мне позвонят – меня нет. Буду в десять. Ладно?
Невестка кивнула, стала убирать посуду, а Михаил Антонович понял, что сын уйдет сейчас, как обычно, в кабинет и сядет за какую-нибудь статью или начнет просматривать медицинские журналы, делать выписки на отдельных карточках... Что же это, а? Неужели такое простое – и недостижимо?!
Михаил Антонович все не хотел сдаваться, и спросил:
– А сколько вот, интересно, раз в году мы с тобой вообще гуляем вдвоем?
– Да раза два, наверно... – Сын рассеянно улыбнулся ему.
– Понятно... – Михаил Антонович вздохнул нарочито громко, снова как бы шутя. – Следовательно, за этот год лимит уже выбран... Послушай, Андрей, а давай сегодня – прямо сию минуту – в счет, так сказать, будущего года, а?
Что-то такое было не в словах, а в голосе отца, что Андрей Михайлович на миг даже заколебался. Видимо, у отца к нему дело какое-то, раз так просит, но именно сегодня, сейчас, когда он уже поработать настроился...
– Не могу, папа. Сегодня – никак. Давай завтра? – предложил Андрей Михайлович.
Но назавтра целый день лил дождь, и очень Андрей Михайлович удивился, что отец после ужина все же напомнил ему о прогулке.
– В такую погоду?!
– Так у нас же зонтики! – В живых, лучистых, совсем еще не старческих глазах Михаила Антоновича было столько наивного непонимания, что объяснить это можно было лишь одним: у отца и в самом деле какой-то неотложный разговор к нему. Правда, они бы вполне спокойно могли и в кабинете поговорить, но Андрей Михайлович решил уступить, смириться с таким вот странным желанием ради уже очевидной серьезности дела.
Разумеется, ни мать, ни жена совершенно справедливо не понимали, как это даже в голову может прийти такое – гулять под проливным дождем! – но Андрея Михайловича тронуло, с какой детской неумелостью отец, смущенно пряча глаза от всех, упорно доказывал, что ничего подобного: дождь, кажется, перестает, вот-вот он уже кончится. Да и понимал Андрей Михайлович, зная это по себе, что важные разговоры как раз порой легче вести именно в самых вроде бы неподходящих для этого местах. Даже в бане, например.
Чтоб затея с прогулкой не выглядела просто глупой отцовской прихотью, а главное, необъяснимой с его, Андрея Михайловича, стороны уступкой при вечной его занятости делами, ему пришлось изобразить перед домашними, что он ненадолго тоже хочет пройтись, однако, отыскивая свой японский складной зонтик и раздраженно спрашивая жену, куда это она задевала его, Андрей Михайлович все никак, даже хотя бы приблизительно, не мог представить себе, о чем же, собственно, таком уж срочном и важном отец собирается говорить с ним.
А дождь, когда они вышли на улицу, и в самом деле поутих, моросил мелко, почти неслышно, и отец, довольный этим, закрыл свой зонт, опираясь теперь на длинную его трость с изогнутой ручкой, как на палку.
– Не промокнешь? – спросил Андрей Михайлович.
– Ничего. Зато интересно.
– Что интересно? – не понял Андрей Михайлович.
– Ну... промокнуть... Испытать еще одну эмоцию, – улыбнулся отец. – А знаешь, как-то странно иногда напрашивается: что живем поспешно не для того, чтобы больше успеть прожить, а как бы для того лишь, чтобы побыстрее прожить...
«О чем это он?» – подумал Андрей Михайлович.
Они стали обходить большую лужу, каждый по своей стороне от нее, а когда снова сошлись, Михаил Антонович продолжил:
– Говорят, человек, мол, использует резервы своей памяти всего лишь на столько-то процентов... А то, что мы уходим из жизни с таким огромным, почти не растраченным запасом своей души, тепла, отзывчивости? И на что, зачем мы «берегли» все это? Ради чего так осмотрительно-скупо тратились при жизни?
«Как он, однако, издалека...» – усмехнулся Андрей Михайлович, но терпеливо заметил отцу, что, может, это и не от нашей скупости – просто время другое. Мы вот любим вспоминать земских врачей: дескать, часами просиживали у постели какого-нибудь умирающего, ласково держали его руку, пульс подсчитывали, по имени-отчеству называли... Вроде и признаться стыдно, но мы своих больных даже и в лицо, бывает, путаем. Диагноз – помню, а имярек... Разве что особенно трудная операция была или какая-нибудь неприятность с этим больным связана – жалоба, комиссия, разбирательство. Но заметь: тот добрый, отзывчивый земский врач ничем не мог помочь, а мы, не успевающие толком с больным пообщаться, – мы зато теперь с того света его вытаскиваем! Вот такая альтернатива нашего века...
– Ну, положим, далеко не всегда вытаскиваете... – заметил Михаил Антонович.
– Что же ты хочешь?! Медицина не всемогуща. Случается, не успеваем. Но ты же сам всегда говоришь, что литературу надо судить по ее вершинам, а не по среднему уровню. Вот давай и медицину...
Излишне, пожалуй, горячо, сразу же привнеся в их разговор какую-то пульсирующую, неприятную остроту и напряженность, отец возразил, что уровень практической медицины должен определяться как раз средним – средним! – уровнем врачей, потому что масса – девяносто девять и девять десятых больных – проходит через средние врачебные руки, через средний мыслительный аппарат, через средней чувствительности сердце. Литературу мы, читатели, вольны сами себе выбирать. Никто не мешает нам читать хороших авторов и не читать плохих. А вот врачей... Что же касается вершин, то ведь и у вас есть примеры. Александр Иванович – это же не земство, не история, это у тебя на глазах. Всего каких-то несколько лет назад!
В ученом мире Андрей Михайлович привык к иному стилю дискуссий – более уравновешенному, академически сдержанному и по видимости бесстрастному даже в те минуты, когда на самом-то деле ты уже топчешься ногами по своему оппоненту. Безусловно, покойный Александр Иванович был большим ученым, но... зачем же при этом стулья ломать? Его-то привычки подробно беседовать с больными, знать их подноготную – все это десятилетия назад складывалось. Тогда, между прочим, самая сложная операция сколько занимала? Часа два, ну, три от силы. А сейчас – пять, а то и шесть часов. Разве делать разучились? Просто объем операций увеличился. Раньше даже и корифеи не замахивались на такое. А диссертации тех лет? Да сейчас их докторские хорошо если на нынешние кандидатские потянут. Где же теперь нам еще и больных по имени-отчеству запомнить? Откуда времени взять?
Подчеркнуто спокойно, как бы урезонивая отца, Андрей Михайлович объяснил ему все это и добавил, что медицина уже не только искусство, не только наука, но и производство. Как... ну, как кино, например. Мы же спокойно к этому относимся, без иллюзий? А вот медицину так же воспринимать – мы еще не научились. Психологически не готовы. И в первую очередь – сами больные.
– Какие же они все-таки непрогрессивные люди, – с иронией сказал Михаил Антонович. – Хоть ты им кол на голове теши!.. Но ведь, Андрюша, других – нету. И никогда они не появятся – ни завтра, ни через сто лет!
Снова разволновавшись, он говорил, что человеку всегда надо, чтоб его имели время выслушать и чтоб было у него ощущение, что он не вообще больной, не объект для исследования или оперативного вмешательства, а конкретный Иван Иванович, конкретный Петр Петрович, со своей – особенной! – жизнью, ценной не только тем-то и тем-то, но и самоценной. Понимаешь?
Разумеется, Андрей Михайлович понимал. В чем-то отец был, безусловно, прав, но правота его, при всей очевидной гуманности побуждений, не могла изменить того непреложного факта, что «как ни жаль, а приходится прощаться с летом». Вспомнив эту фразу, Андрей Михайлович улыбнулся. Была у него когда-то знакомая, метеоролог. Очень она гордилась, что, выступая по телевидению с прогнозом погоды, придумала такое вот лирическое, сентиментальное вступление: «Как ни жаль...»
– Видишь ли, – сказал он отцу, – я бы, наверно, и сам хотел, чтоб меня мой врач по имени-отчеству знал. Однако приходится выбирать. Так пусть уж лучше меня и в лицо не помнят – только бы с операцией вовремя помогли.
– А я, Андрюша, хочу другое сказать: что часто вы не успеваете не из-за бессилия, а, извини, из-за бесчувствия. Как же тогда можно вовремя помочь?
Что ж, и тут отец тоже был по-своему прав, но Андрей Михайлович начинал уже досадовать на него, потому что за всеми этими рассуждениями, независимо от того, насколько они верны, не усматривалось пока главного: ради чего, собственно, отец так настаивал на прогулке, да еще под дождем?
Впрочем, вполне могло статься, что он, Андрей Михайлович, перебарщивает в своих ожиданиях. Но тогда совершенно уж бессмысленным выглядит и его согласие на эту прогулку, когда дома его ждет недописанная статья.
Ну в самом деле: что может случиться такого серьезного в их семье, о чем отец знает, а он – нет?! Лена? Но со своей невесткой отец всегда был в хороших отношениях. Ирина? Павел Петрович сделал ей наконец предложение? Конечно, отец к ней всех ближе, но что тут скрывать от других? Они бы только порадовались за нее. Женька? Все-таки такой возраст, девятнадцать лет... Чем-то она могла, наверное, поделиться скорее с дедом, чем со своими родителями...
Слушал он теперь отца совсем рассеянно и, видимо, что-то пропустив, уловил лишь окончание: «...помогал им и после...» Кому – помогал? После... после чего?
Переспрашивать, однако, было неудобно, чтоб не обнаружить свою невнимательность; тем более тут же всплыли и еще слова, сказанные отцом перед этим, и, кое-как связав в уме все это разрозненное, что он сначала пропустил, составилось нечто такое по смыслу: может быть, самое-то важное – это когда и после своей смерти ты оказываешься нужен своим детям. Ну да, что-то в этом роде: если твой образ помогает им и после – значит, ты сделал для них самое главное.
С сочувствием Андрей Михайлович подумал, что, конечно, наступает и такой возраст, когда задумываешься над уже, по сути, прожитой жизнью, ее итогами. И если успел в ней меньше других совсем незаслуженно...
У отца был какой-то особенно усталый вид сегодня, нездоровый землистый цвет лица и вроде бы небольшая, еле заметная одышка, чего никогда раньше не замечал, – вот он даже остановился передохнуть... Или показалось?
Остановившись, отец с недоумением оглядывался по сторонам.
– Куда это, интересно, мы забрели?
Андрей Михайлович и сам не знал куда, но, взглянув на табличку одного из домов, прочитал:
– Фонарный переулок. А что?
– Так ведь... Ну конечно! – Михаил Антонович обрадовался. – Вот здесь раньше баня стояла... Ванной у нас еще не было, и мы с тобой, как подобает двум взрослым мужчинам... А вон на том углу я тебе мороженое покупал. Ты его любил с горбушкой есть...
– Мороженое? С хлебом?!
– Но это же первые послевоенные годы. Сразу два лакомства... Неужели не помнишь?!
– Мне лет пять, шесть было, – напомнил Андрей Михайлович. – Почти сорок лет прошло.
– Хм-м... верно... – Незаметность и быстрота, с какой протекло с тех пор время, обескуражили Михаила Антоновича. – А все-таки есть что вспомнить!..
– Баню и мороженое с хлебом? – усмехнулся Андрей Михайлович.
Отец помолчал и спросил вдруг:
– А тебе никогда не хотелось сесть и написать такую какую-нибудь книгу... ну, например... «Медицина как искусство сострадания»?
– Нет, – рассмеялся Андрей Михайлович. – А зачем, собственно?
– Ну да, я понимаю: какая в этом практическая ценность? К оперативной технике не имеет никакого отношения, к анализам не подклеишь, к истории болезни не подошьешь...
– Да и, я думаю, издателя нелегко найти будет, – в тон ему ответил Андрей Михайлович.
– Во-от... – протянул отец, как всегда, обычно, когда бывал с чем-то не согласен. – Но если из этого исходить... В литературе тогда много бы чего не было. Найдется издатель, не найдется... Рукописи-то не горят, Андрюша.
– Увы, папа, горят. Еще как горят! Это мы себя просто успокаиваем...
– Во-от... – снова протянул Михаил Антонович. – А жаль, что не напишешь. Неумирающая была бы книга. Техника операций усовершенствуется, методы исследования изменятся, истории болезней станет какой-нибудь робот заполнять с твоего голоса, а это – про сострадание – останется... Ну что, домой пора? Что-то устал я сегодня...
Андрей Михайлович опешил.
– Но... мне казалось, ты о чем-то поговорить хотел. И мы специально...
– Я?! О чем?
Недоумение отца было столь искренним, что Андрей Михайлович ничего теперь не понимал. Зачем же они ходили тогда?!
На обратном пути отец, видимо, вспомнив о чем-то, заулыбался, и Андрей Михайлович спросил:
– Ты чему?
– Да вот мои ребята трудный вопрос недавно задали...
Они спросили его: иногда говорят – «прожил счастливо»... Где тут мерило?
«Ответ на этот вопрос люди всю жизнь ищут, а вы мне время на переменке отвели», – попробовал отшутиться он, но они, решив, наверно, облегчить ему ответ, выразились конкретнее: «Михаил Антонович, а вот если бы вы, к примеру, узнали, что завтра – последний ваш день... Вы бы что?»
Он пожал плечами: «Я бы пошел на урок. Как обычно».
Выслушав эту историю, Андрей Михайлович усмехнулся:
– Да... Разочаровал ты их.
– Какая уверенность... – Михаил Антонович с удивлением посмотрел на сына. – Хотя... Ты прав. В их глазах было столько недоверия, жалости, даже, по-моему, ужаса: тратить свой самый последний день на школьные уроки?! Впрочем, это понятно. Откуда им – в их годы! – про это знать?
– Про что? – спросил Андрей Михайлович.
– Ну, что удовлетворенность прожитой жизнью – это, наверное, и есть счастье...
– А может быть, «ты счастлив?» или что-нибудь в таком же духе – вообще опрометчивый вопрос? Потому взрослые люди и остерегаются его задавать – и себе, и другим... А вы небось до сих пор учите школьников, что «человек рожден для счастья, как птица для полета»? Верно?
– Н-ну... в общем... Но знаешь, Андрей, не такая уж это бессмыслица. То есть я хочу сказать, совсем не бессмыслица!
– Вот-вот. Оттого мы и вырастаем в твердой уверенности, что рождены исключительно с этой целью. Чтоб быть счастливыми. Так что, раз обещано, – подайте-ка мне счастья! А как же иначе? Ведь положено?!
– Нет, вовсе не «положено». Речь совершенно о другом! Дело не в обязательности счастья... Понимаешь, то, что родился именно я, ты, другой, третий – это, в конце концов, случайность. Выходит, каждый из нас родился как бы вместо кого-то и, значит, живет за кого-то, кто мог бы сейчас жить. Не отсюда ли и наше ощущение, что тот, кто может быть счастливым, – должен, даже обязан им быть... Да хотя бы уж для того, чтобы... ну, не знаю... чтобы оправдаться перед тем неродившимся, чье место в этом мире ты занял...
– Любопытно, – проговорил Андрей Михайлович. – Занятный поворот. Никогда как-то не думал...
– А ведь есть еще и погибшие на войне – вместо меня, тебя... И такие, кто просто умер, не дожив до моих, даже до твоих лет. Их уже нет, а я живу... Выходит, и перед ними мы тоже обязаны...
– Но если... если не получается быть счастливым, – возразил Андрей Михайлович, – разве это вина?
– Нет, конечно. Но если заранее, даже и не сопротивляясь, не делая настоящих попыток, легко довольствоваться чем-то иным, чем счастье...
– Мне кажется, это все-таки слишком отвлеченные рассуждения, – сказал Андрей Михайлович, стараясь быть помягче. – В жизни все проще... – Он взглянул на часы. – Извини, мне еще статью дописывать...
Поздно вечером, когда давно уже затихли телефонные звонки и все спали в квартире, Михаил Антонович, проверив тетрадки с сочинением, достал с антресолей на кухне свой дневник, который довольно аккуратно вел в последние годы, и, прихлебывая остывший спитой чай, записал:
«Необъяснимое, странное непонимание сидит в нас... Когда о каких-то пустяках говорим, о бытовых, ничего, в общем, не значащих мелочах жизни – это считается не «отвлеченное», а когда о самой жизни – мы почему-то зовем это «отвлеченным», как раз, может быть, тогда-то и не отвлекаясь от жизни».







