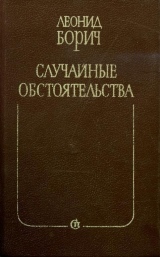
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
2
«Ты счастлив?» Так неосмотрительно только в детстве, конечно, и спрашивают. Спрашивают обычно: «Ты рад? Ты доволен?» А счастье... Для этого столько всего нужно, что, задавшись вдруг подобным вопросом, как бы заранее обрекаешь себя на неизбежное поражение.
Андрей Михайлович, во всяком случае, предпочитал слова более спокойные: удачливость, например, благополучие... И в душе, глубоко и почти суеверно пряча свое убеждение даже от самого себя, словно боясь себя же сглазить, Каретников считал, что человек он, безусловно, везучий и что жизнь его сложилась именно так, как он сам рассчитал. Рассчитал – вышло, рассчитал – вышло... Благополучие и складывается-то, в сущности, из удовольствия постоянно ощущать себя угадчиком.
Когда-то, лет двадцать назад, нужно было угадать в себе не старшего редактора медицинского издательства, а, добровольно отказавшись от престижного для молодого специалиста и к тому же довольно обеспеченного существования, уйти в аспирантуру, вдвое потеряв при этом в деньгах, но зато угадав, что к сорока годам он станет доктором наук, профессором, а в сорок три – возглавит кафедру хирургической стоматологии.
Когда-то нужно было даже и то понять, снова без чьей бы то ни было подсказки, что женой ему должна быть именно Лена. И пусть всякое потом случалось – и размолвки, и ссоры, и взаимное раздражение, и оторопь оттого, что, разговаривая друг с другом об одном и том же, одинаковыми вроде словами, они говорили как-то совершенно в разных плоскостях, редко когда пересекающихся хотя бы, а не то что совпадающих, – тем не менее при всем этом не покидало его ощущение правильности своего выбора, постоянное чувство уверенности, связанное именно с Леной. У него была надежная пристань, от которой потому так и увлекательно отплывать порой на какое-то время, что наперед знаешь: всегда есть куда вернуться потом.
Конечно, было бы, наверно, предпочтительнее, чтоб жена всегда понимала его с полуслова, чтоб у них было больше общих интересов, а не только то, что связано с детьми и домом, чтоб она и выглядела не столь решительной и энергичной, какой была, а как-то бы чуть беззащитнее, что ли, поженственнее, но, думая иногда об этом, Андрей Михайлович тут же словно спохватывался, потому что далеко не был уверен, в самом ли деле ему это требовалось в жене.
Как это свойственно большинству мужчин, представление Каретникова об идеальной женщине не было однозначным. Когда осознанно, а когда и не отдавая себе отчета, к должному в жене и к должному в чужой женщине он относился по-разному.
Кроме приятной внешности, что было все же непременным условием и для жены, и для любой другой женщины, жене, как представлялось ему, достаточно было не быть дурой, не быть кокетливой, жить интересами мужа, детей, своего дома, проявлять некоторую пассивность в интимных желаниях. В чужой женщине его привлекал интеллект, и умное кокетство, и пылкость в интимных отношениях – то есть все то, что ему притягательно и интересно было вообще в женщине, но что, будь оно в собственной жене, создавало бы постоянное ощущение напряженности, беспокойства и тревоги за свое благополучие. Тут бы тогда все время тянуться надо было, приноравливаясь к другому человеку, что-то бы на себя взваливать, от чего-то в себе самом отказаться, а так...
Нет, ему доставало, разумеется, и широты, и объективности, чтобы понимать, как жене нелегко порой – бывает, что даже и с ним ей нелегко, – но так уж у них сложилось в семье: весь дом, по сути, на ней одной. Мать его, Надежда Викентьевна, всегда жила прежде всего работой, руководила райздравом, была депутатом горсовета – между прочим, именно ее воспитанию и целеустремленности он-то и обязан и своими диссертациями, и всем, чего достиг к сорока годам, – а отец с утра до вечера пропадал в школе, допоздна засиживался потом на кухне, проверяя тетрадки с сочинениями, и вообще, как говорила мама, был «не от мира сего». Андрей Михайлович все больше склонялся к мысли, что, как может ни показаться странным на первый взгляд, вот эта преданность своей профессии как раз и помешала отцу подняться над простым – пусть и хорошим, и, по слухам, даже замечательным, – но все же только школьным учителем. Ему гораздо интереснее и важнее было что-то найти, чтобы рассказать потом об этом своим балбесам ученикам, которые через час все прочно забудут, чем сесть и все это написать. А он ведь и в архивах рылся, и в Публичке – половину своего отпуска там проводил каждый год, – но то, что он выискивал, выглядело как-то непонятно-странным: он всегда кого-то из давно забытых, или, как он говорил, «незаслуженно забытых», пытался вытащить на свет божий, «восстановить их доброе имя». Отцом, кажется, вообще двигал не столько научный поиск, не столько даже обычный человеческий интерес к прошлому, сколько какая-то странная жалость к этим забытым литераторам. Рассказывая об их судьбе, отец волновался, прямо-таки страдал – как за людей, которые живут рядом, на одной лестничной площадке, и ты их хорошо знаешь. Да нет, гораздо больше страдал, потому что соседей он, кажется, знал не так близко.
И ведь до смешного же доходило! Отец, всегда мягкий, деликатный, уступчивый, так люто ненавидел жену одного классика, как ненавидят только живого человека и только личного своего врага. А все потому, что этот классик просил ее выслать какие-то геморроидальные свечи, а она все забывала об этом в театральной своей суете. «Представляешь?! – возмущался отец. – Он – он! – там без этих свечей мучился, кровью исходил, а она, видите ли, за-бы-ва-ла!»
Уже скорее можно бы было понять возмущение отца своей собственной женой, когда мама забывала поинтересоваться отцом, его делами, рубашками, пуговицами, но тут-то как раз отец был покладистым и неприхотливым, и когда Андрей Михайлович, вспылив иногда, выговаривал маме, что отцу пора бы уже давно новую рубашку купить, – тут-то отец всегда заступался за нее, объяснял, что он и сам себе прекрасно может купить рубашку.
Андрей Михайлович даже жалел отца. Ну что он видел в жизни, кроме своей литературы?! Вот так пресно она и проходила, его жизнь, среди вечных тетрадок с сочинениями, среди учеников, которые потом, через десяток-другой лет после школы, легко перерастали своего бывшего учителя и приезжали на традиционные вечера встреч кандидатами и докторами наук – случалось, что и в области той же самой литературы, которую отец так преданно и бескорыстно любил...
А вот Лене надо и здесь отдать должное: она еще и за отцом поспевала смотреть. Никогда ей не было в тягость пришить свекру пуговицу, простирнуть и отгладить рубашку, вовремя ужин подать. Впрочем, тут, вероятно, дело еще и просто в самом характере, в какой-то постоянной готовности заботиться о других. Лена по складу своему вообще женщина глубоко семейная, и эту черту ее он оценивал вполне по достоинству.
Он даже и то ценил в ней, что с другими женщинами ему, пожалуй, никогда не бывало лучше, чем с Леной. Рослая, пышнотелая, с сохранившейся до этих лет тонкой талией, с привычной ему удобностью всего в ней, каждого изгиба тела, с безошибочной понятливостью, что же именно каждому из них от другого надо, чтобы им было хорошо вдвоем в эти близкие минуты, Лена, как всегда потом оказывалось, гораздо более, чем другие женщины, помогала ему самоутверждаться в мнении, что он далеко не стар пока, и чувство благодарности к ней за это, особенно острое после какой-нибудь долгой разлуки, делало его на время терпимым и почти благодушным в отношениях с женой, позволяло во всяком случае не доводить их непонимание до очередной ссоры. Так что жили они с женой не только терпимо, но и вполне благополучно, что в браке, как считал Андрей Михайлович, вероятно, и называют счастьем.
И с детьми тоже все сложилось спокойно. Правда, дочь бывала груба с бабушкой и матерью, но хлопот особых не доставляла, всегда хорошо училась, он толком и не знал никогда, где ее школа находится, как и сейчас лишь приблизительно представлял себе, где ее институт. Поступила она туда без всяких репетиторов, как у многих нынче водится, и без каких-либо протекций и знакомств. А шестилетний сын вообще только радовал их своим послушанием и добротой – может быть, даже чрезмерными. Был он не по годам серьезен, и в детском саду воспитательницы ласково называли его «наш профессор».
На кафедре все, без исключения, относились к Андрею Михайловичу не просто лояльно, но, как он видел, с искренним уважением, а сестры и нянечки чуть ли не благоговели перед ним. Однако Каретников не полагался на одни лишь симпатии к нему его сотрудников. Он заботился о том, чтобы работа приносила каждому из них еще и какое-то личное удовлетворение. Чувства чувствами, но, даже идеальные, они должны подкрепляться и чем-то более реальным – публикацией в журнале, перспективой роста, ученой степенью.
Ведь как было при покойном шефе? По пять-шесть лет – почти ни одной защиты! Об этом при Александре Ивановиче и заикаться стеснялись. Перед ним полагалось чистосердечно понимать, что служат все они не себе, а исключительно больным и науке, что диссертация неизбежно потом сама приходит, олицетворяя, так сказать, конечное торжество справедливости. И в коллективе, пока все они были вместе, считать так было им вроде бы нетрудно. Так это и понималось ими, совсем как будто непритворно – что ж, в самом деле, перед собой-то прикидываться?! – но стоило им оказаться по отдельности или просто один перед другим в отсутствие шефа, как тут же, немедленно, без каких бы то ни было угрызений совести приходило ясное понимание, что какой же нынче ты ученый, если без степени, кто это тебя воспримет всерьез, да ведь и очень ощутима эта надбавка, которую дает диссертация.
Сейчас, только пришел новичок на кафедру, сразу ему узкая тема, и ежедневно полдня на это дается, помощь, контроль... Даже подгоняешь: к такому-то числу мне извольте-ка на стол столько-то страниц положить, через неделю – еще столько-то. Теперь каждый просто обязан защититься!
Бывали, конечно, и у него определенные трудности: средний и младший медперсонал например, – где их взять, если с такой неохотой идут в больницы работать? – но он и тут находил верный тон, иногда, пусть и походя, несколькими словами, а вот не забывал вовремя поинтересоваться здоровьем и внуками, если говорил со старой нянечкой, или кавалерами и планами на будущее, если приостанавливался на минуту у столика молоденькой медсестры, а иногда, используя кое-какие связи, помогал кому-то из них даже с билетами в театр или на модный ансамбль. Словом, он создавал ту атмосферу, когда чуткость и внимательность к сестре и нянечке заменяли то, чего он не мог им дать в силу объективных условий, – ни лишних денег, ни диссертации, ни перспектив роста.
Если же, посмеиваясь, он и говорил кому-нибудь в доверительной беседе, что чувства его сотрудников к нему варьируют от слабого предпочтения до глубокой преданности, то он немного кокетничал – все было приятно-однообразнее.
К себе в институт, на кафедру, Андрей Михайлович всегда ехал в приподнятом настроении. Он даже и одевался по утрам соответственно этому своему праздничному ощущению: тщательно, продуманно, подолгу выбирая в шкафу рубашку, галстук, носки.
И хотя дела, которые ждали его в клинике, часто бывали далеки от истинно научных, врачебных дел – ремонт автоклава, и трудности с бельем и пижамами для больных, и новые формы отчетов (как заполнять теперь эти многочисленные графы – никто толком не знал), и расписание занятий на следующий семестр, и как бы еще, сверх плана, получить клетки для подопытных кроликов, – хотя все эти дела требовали от Каретникова скучного вникания в подробности, он умел не растрачивать себя на это. Быстро, деловито, не разрешая ни себе, ни своим сотрудникам лишних слов, но вместе с тем почти шутливо, как бы по-приятельски, Андрей Михайлович распределял, кому чем заниматься, к какому сроку доложить, и, освободив себя от всех этих мелочей, он мог теперь спокойно пройтись по клинике.
В лаборатории Каретников мимоходом подбрасывал дельную идейку одному из своих аспирантов, ловил на себе его восхищенный взгляд и, подстегнутый этим, тут же просматривал статью другого сотрудника, безжалостно сокращал ее почти вдвое, то есть придавал статье ту сдержанную суховатость изложения, которую сам любил и которую требовал от своих сотрудников.
Но и делая все это, разговаривая, выслушивая, помогая, он не переставал чувствовать, что ему мало, мало этого, что он может еще столько же, да что там – больше, гораздо больше... Как жаль, что сегодня неоперационный день!..
Каретников расхаживал по клинике, как по сцене, ему нравился в себе такой вот размах, импровизация, он все время ощущал как бы зрительский интерес окружающих к каждому его слову, жесту, даже к паузе, и, как на сцене, когда играешь короля, ему не особенно приходилось заботиться о внешних приметах этой роли. Сколько угодно он мог держаться на равных со своими сотрудниками, мог шутить, мог им позволить даже не согласиться с ним в каких-то частностях – на него, короля, все равно играли во многом они сами: своей готовностью откликнуться на его шутку, тем вниманием, с каким воспринималось каждое его слово, даже успокоенностью, уверенностью на их лицах, что с его появлением на кафедре все теперь будет несложно, все сделается своевременно, всему найдется правильное решение.
Высокий, чуть уже седеющий, но по-спортивному подтянутый и стремительный, в безукоризненном хрустящем халате, из которого выглядывал у отворотов яркий, со вкусом подобранный галстук, забыв иной раз и перекусить в институтском буфете, шел затем Андрей Михайлович на лекцию, предвкушая и тут успех. Он знал, что читает свой курс интересно, что студенты ходят к нему не по принуждению деканата, что на его лекции бегают и с других потоков, а какой-нибудь смущенно-обиженный преподаватель заглядывает перед самым началом в переполненную аудиторию и с подчеркнутой безмятежностью, как бы шутливо спрашивает: «Андрей Михайлович, к вам тут мои не забрели случайно?» Студенты – для его коллеги до обидного дружно – кричат: «Нет, нет!» – а он, Каретников, лишь руками разводит в ответ: мол, видите, не забредали... Он понимал, конечно, что надо бы погнать «чужих» из аудитории – неудобно же, в самом деле, перед коллегой, да и как-то не очень все это педагогично, – но не умел отказывать себе в удовольствии лишний раз почувствовать свою удачливость.
Это ощущение еще больше крепло в нем, если потом, по дороге домой, ему вдруг случалось увидеть симпатичную незнакомую женщину, за сколько-то шагов до нее встретиться с ней глазами, почему-то сразу понять, что и ты ей тоже нравишься, и все беспомощно и растерянно мечется в тебе, потому что, приближаясь, уже чувствуешь, знаешь по прошлому своему опыту, что ничего ведь так и не успеешь придумать, чтобы заговорить с ней, и что ты, даже не поравнявшись пока, уже начинаешь терять ее, теряешь с каждым шагом навстречу, с каждой секундой... Разминувшись, вы оба в один и тот же момент оглядываетесь и, обезопасенные теперь расстоянием, которое как бы сразу снимает с вас всякие запреты и перечеркивает условности – ведь уже ничего не будет, и сейчас мы навсегда потеряемся! – вы уже почти с нескрываемой взаимной симпатией издали улыбнетесь друг другу, как люди, которые только вдвоем и знают, что им сейчас хорошо было и что это, в сущности, вполне простительно, раз они никогда больше не встретятся.
Впрочем, потом, вспоминая то ощущение секундного праздника в душе, он никогда не был уверен, нужно ли по-настоящему жалеть, что такой вот мимолетностью все и заканчивалось. Кто знает, с усмешкой философствовал Каретников, может, эти встречи потому лишь и оставляют такой след, что они обречены с самого начала и мы хорошо это понимаем? Может, грустная неизбежность потери только и придает им какой-то особенный смысл? Да и вообще, наверно, у большинства так: по-настоящему желанные и красивые женщины всегда почему-то не наши.
Стоило так подумать о себе – в третьем лице, приобщив себя ко всем, – как это сразу же успокаивало, раз свое невезение можно было распространить еще на кого-то, а тем более – на всех. К Андрею Михайловичу тогда немедленно возвращалось чувство ускользнувшего комфорта, восстанавливалось пошатнувшееся было душевное равновесие, которым он так дорожил и которое всегда поощрял в себе как непременный залог благополучия.
Вечером, когда Андрей Михайлович переступал порог своей квартиры, все, что он слышал, видел и делал в первые же минуты своего появления, не отличалось хотя бы видимостью разнообразия и почти не зависело ни от его настроения, ни от времени года, ни от того, чем были заняты в этот момент его домашние.
Еще от дверей он слышал обычно телефонный звонок. Если Каретников и употреблял иногда – разумеется, не вслух – матерные слова, то это бывало скорее всего именно в такие вот минуты. Удивительно, но, отреагировав подобным бессмысленным и несложным образом, он чувствовал, как тут же наполовину снимается досада и он обретает по отношению к телефонному звонку даже кое-какой юмор. Порой Андрею Михайловичу приходила шальная мысль, что либо телефон в их квартире вообще звонит не переставая, либо у этого аппарата какая-то ехидная избирательная реакция на его, Каретникова, появление. Слишком велико было число совпадений, чтобы попытаться объяснить это явление как-то иначе и более серьезно.
Его бесило, что, словно назло ему, именно тогда и звонят чаще всего, когда он только-только с работы пришел. Жена и мама, конечно, на кухне, отец еще в школе, дочь в своей комнате или в институте, сын на улице гуляет, а квартира у них большая, старинная, и, когда включен на кухне телевизор, оттуда не слышно, как звонит телефон в прихожей.
И пусть себе звонит, чертыхается Каретников, едва переступив порог. Услышат сами – хорошо, а нет – можно и вообще никого не звать. Но телефон все не умолкал, а Каретников не мог долго переносить настойчивые телефонные звонки, ему начинало мерещиться, что вдруг в это самое время, в эти минуты, что-то такое происходит, что как раз его касается. Может, в клинике, с кем-нибудь из больных, или еще что-то, а никак не дозваться. Нет, в самом деле: так долго и упрямо можно разве только о помощи взывать, – и юмор вперемежку с досадой, как он поначалу воспринимал этот звонок, появившись в квартире, сменялся некоторым беспокойством. А вдруг кому-то действительно позарез нужно к нему дозвониться? Мало ли что...
Андрей Михайлович не терпел нарушенного в себе равновесия, и, не успев переобуться в домашние шлепанцы, а то и в одном из них – на другой ноге так и оставалась расшнурованная, но еще не снятая туфля, – он, шаркая и прихрамывая, спешил к телефону, чтобы поскорее обрести душевную ясность: все в порядке, ничего не нарушилось, просто кому-то из знакомых пришла в голову мысль пообщаться с кем-нибудь из его домашних.
Так оно и оказывалось, и тогда Андрей Михайлович, успокоившись внутри себя, давал выход внешнему своему раздражению: в конце концов, у них дома когда-нибудь будет спокойно?! Ну что за вертеп?! Хотя бы здесь отдохнуть после напряженного дня – так нет! Вот теперь, даже не раздевшись с улицы, нужно идти на кухню звать Лену к телефону.
Иногда голос в трубке бывал и мужским, совершенно незнакомым, но Каретников, в таких случаях особенно недовольный, никогда не интересовался у жены, кто звонит ей. Как и большинство мужей, которые, быть может, даже и не осознают этого, он считал, что, во-первых, уж его-то жена не из тех женщин, кто вызывает какие-либо сомнения в своей верности, а во-вторых, Андрей Михайлович был достаточно уверен в себе и к тому же самолюбив, чтобы показать, что его интересует, с кем из мужчин Лена разговаривает.
Кухня у них неправдоподобно огромная, двадцать с лишним метров, телевизор и радио включены чуть ли не на полную мощность, притом, занятые кухонными делами, жена и мать еще и громко переговаривались, чтобы услышать друг друга. Кто-то из них подходил порой к телевизору, переключал программу, настраивал резкость, хотя потом, если и взглядывали они на экран, то хорошо если через полчаса, через час, да и то лишь мельком. А бывало, что и вовсе потом не смотрели.
И оттого, что заранее, на улице, только подходя к дому, Андрей Михайлович обо всем этом знал – и о непременном телефонном звонке, когда он войдет в прихожую, и о том, какая картина перед ним на кухне предстанет, – он уже раньше, на лестнице, отыскивая по карманам ключ от дверей, готов был к своему раздражению.
Как обычно, не услышанный и, что особенно возмущало Андрея Михайловича, даже никем не замеченный в первые минуты, проходил он на кухню и убавлял громкость телевизора и радио почти до шепота, все же оставляя обозначение их работы – как уступку с его стороны своим домашним, как великодушное его терпение ко всей этой несуразице в их квартире.
По инерции Надежда Викентьевна и Лена еще проговаривали несколько ближайших слов с прежней силой, спохватывались от наступившей вдруг тишины, внезапно обнаруживали его присутствие – разве он уже пришел?! когда? они и не знали! – он видел их смущение, некоторую виноватость на лицах, и, воодушевленный этим, чувствуя теперь свое бесспорное право на недовольство, сообщал сквозь зубы, кого из них к телефону зовут.
Если спрашивали Лену – а Каретников полагал, что ее чаще других спрашивают и что жена непростительно растрачивает семейное время на посторонних, – она удивленно, с недоумением пожимала плечами, показывая всем своим видом (разумеется, лишь когда это при нем случалось, думал с иронией Андрей Михайлович), как не ко времени эти звонки, как они вообще ей надоели – мелькало даже такое в ее мимике и в движении, будто она решительно отмахивается, не хочет идти и не пойдет, – но уже в следующую секунду она спешила, чуть не бежала к телефону, и, если оказывалось, что звонят о чем-то для нее интересном, она живо начинала обсуждать услышанное и говорила долго, с увлечением, так что Надежда Викентьевна, заметив наконец хмурый взгляд сына, сама пыталась накрыть на стол, что еще больше раздражало Андрея Михайловича. В эти минуты он считал себя оскорбленным столь очевидным невниманием жены к его приходу.
Видеть все это (говорил он себе, не оправдываясь, упаси бог, перед собой за раздражительность, не доказывая кому-то мысленно свою правоту, а исключительно себе самому жалуясь и себе же сочувствуя) – видеть все это каждый день, заранее знать, что и сегодня, и завтра, и всегда не будет иначе, тише, спокойнее в их доме, – как же тут не взяться досаде?!
Впрочем, без всего этого, без уже привычной ему атмосферы их дома Андрею Михайловичу чего-то бы, пожалуй, не хватало, потому что именно это давало ему возможность быть «над» – над всей этой бестолковой суетой, над своими домашними, наконец, – давало ему возможность быть тем самым Андреем, Андрюшей, от которого дома всегда ожидалось – особенно после защиты докторской и после того, как он стал профессором, – что он часто вспыльчив, раздражителен, капризен, что вся жизнь для него – это прежде всего наука, работа, больные, – и он, обычно, бывал и с женой, и с матерью, и с отцом то вспыльчивым, раздражаясь по пустякам, то чуть ли не по-детски капризным; он и в кабинет свой уходил поработать, может быть, чаще, чем ему хотелось и нужно было, но не уходить он не мог, потому что от него ожидалось, что как же он может не поработать еще и дома; он и в клинику часто звонил из дому по вечерам, чтобы лишний раз справиться о здоровье кого-нибудь из больных, хотя нужды в этом порой и вовсе не было, но как же он мог не позвонить, если домашние уже привыкли к этому, относились к подобным его разговорам очень серьезно, с пониманием их важности, и даже шестилетний Витька давно усвоил, что, когда отец справляется о больных, надо поубавить громкость в телевизоре.
Представление же об Андрее Михайловиче у его сотрудников было во многом иным, чем у его домашних. На кафедре всеми считалось, что вот уж кто не вспыльчив и никогда не раздражается по пустякам, – так это Андрей Михайлович, и что, хотя работе он отдает, конечно, много сил и времени, он не носится с этим, не угнетает других, умудряется все делать легко, чуть ли не блаженствуя.
Приятно было смотреть, как Андрей Михайлович, словно бы предвкушая некое лакомство, открывал свежий, еще пахнущий типографской краской научный журнал, как увлеченно, будто и вовсе не по долгу, а из одного лишь удовольствия он обследовал пациента, с каким интересом и нетерпением приступал к операции, и уже начинало казаться, что и тебе тоже хочется перелистать именно этот номер журнала, и соблазнительно бы, наверно, заняться как раз этим больным, которого осматривает сейчас Андрей Михайлович, и какая все-таки жалость, что не ты оперируешь на его месте.
Он и отдыхать тоже умел с каким-то завидным аппетитом. Всегда тщательно выбритый, благоухающий, неизменно доброжелательный, он в минуты передышки не просто сидел, а так заразительно удобно располагал всего себя за письменным столом, что, глядя на него, ты тут же ощущал неловкость своей собственной позы, и брала досада, что сам ты вряд ли когда-нибудь сможешь этому выучиться, ему в подражание. Ты вот и чай не умеешь так вкусно отхлебывать, как Андрей Михайлович, да и обыкновенный стакан – точно бы вроде как твой – отчего-то выглядит в его руках куда привлекательнее.
Словом, Каретников даже и в мелочах по душе всем приходился, а уж по делу-то говоря, был на кафедре принят тот образ его, что Андрей Михайлович довольно мягок, не мелочен, деликатен в общении, не держится упрямо за свое мнение, если ему докажут, что он не прав, но вместе с тем он, когда надо, и характер может показать, и на своем настоит, а бывает, что и требователен иногда почти до жестокости, хотя, с другой стороны, не припомнить, чтоб он на сотрудников голос повышал или бы тем более унизил как-нибудь. Да и что с того, что жестоким бывает, полагали многие, если от этого только очевидная польза всем. Пусть он по многу раз заставляет статью переделывать, даже диссертацию – зато после этого и комар носа не подточит. Если уж он посчитал, что все теперь в порядке, смело можно свою статью в журнал посылать или для сборника трудов – никогда обычно не возвращают потом с отказом, – и за диссертацию тоже почти не опасаешься, раз Андрея Михайловича она удовлетворила: тут он злее самого черного оппонента.
Это бы вот когда доброта, а не жестокость, да без всякой причины, без мотивировок, да к тому же совершенно без пользы – тут еще думать и думать тогда: почему она вдруг и зачем нужна, собственно? Ее-то порой, доброту, как раз и понять сложнее, она дополнительных каких-то доказательств и пояснений требует в свое оправдание...
Верно угадывая, каким он видится своим сотрудникам, Андрей Михайлович, приходя на кафедру, и впрямь делался покладистым и ровным в обращении, был вполне терпим к чужим недостаткам – его домашние не могли бы и представить себе, насколько терпим, – позволял доказывать иную, чем у него, точку зрения, даже поощрял к этому, правда, не в самых важных вопросах – тут он бывал, если надо, и достаточно требовательным: мягко-мягко, но все равно своего добивался. А так как его сотрудники ко всем этим качествам прибавляли и то, что при начальстве он держит себя без робости, не заискивая, с достоинством, умея корректно, но твердо отстаивать интересы кафедры, Андрей Михайлович, чувствуя и это, тоже никогда их не разочаровывал.
То есть от Каретникова как бы все время требовалось – то домашними его, то сослуживцами или знакомыми, – чтобы он был тем-то и тем-то, и он вполне как будто искренне был им. Он бы и допустить не мог, что какие-то черты в нем – далеко не всегда он сам, а что они в нем часто вынуждены другими людьми, их уверенным ожиданием, и ему передающимся, что вот теперь он будет таким-то и таким-то, что ему подобает вести себя так, а не иначе, и Каретников, вроде бы совершенно не принуждая себя, именно так и поступал. Как с такой же кажущейся ему свободой он делал бы, возможно, прямо противоположное тому, что делал теперь, если бы от него ожидались иные действия и если бы к тому же еще и положение его в обществе было другим.
После смерти шефа все ожидали, например, что, возглавив кафедру, он, Каретников, прежде всего сделает что-то такое, чтобы сохранить память об Александре Ивановиче. И хотя это желание сотрудников, для которых шеф был кумиром, полностью совпадало с его собственным, непритворным желанием, Каретникову, вопреки своему представлению о способах сохранения этой памяти, пришлось тем не менее прибегнуть еще и к внешнему обозначению его приверженности покойному шефу, чего бы по личному своему разумению о должном он делать не стал. Гораздо труднее было сохранять память об Александре Ивановиче, продолжая общее направление его работ, но это бы и заметить было труднее, чем те многочисленные портреты Александра Ивановича, которые, как уступку общественным ожиданиям, Каретников, верно угадав и на этот раз, велел развесить и в своем кабинете, и в ординаторской, и в лаборатории, и в коридоре на мужском отделении, и в коридоре на женском, и в учебном классе.
Смешно и несколько обидно было наблюдать, что именно вот такой несложный жест всех сразу же полностью удовлетворил, а застенчивый, маленького росточка Иван Фомич, в недавнем прошлом правая рука шефа, ближайший его помощник уже в те далекие времена, когда Каретников только пришел в аспирантуру, растроганно принялся его благодарить за эти портреты, косноязычно, как всегда, путаясь в словах и смущенно краснея.
Насколько все-таки непредсказуема человеческая благодарность и неожиданны резоны ее... То, что он, Каретников, всегда – и устно, и письменно – ссылался на работы покойного шефа, что он, по сути, давал теперь его идеям новую жизнь – все это воспринималось на кафедре, пожалуй, с меньшей признательностью, чем портреты, с которых Александр Иванович смотрел на всех, выставив свою тяжелую, как у бульдога, челюсть.
Бесспорно, шеф был незаурядной личностью. Воспитанник детдома, сын подзаборного алкоголика, он в совершенстве четырьмя языками владел; лауреат и заслуженный деятель науки, он принципиально не защищал никаких диссертаций – мог позволить себе и такую роскошь, потому что ученые степени ему присуждались по совокупности и значимости его работ; «Фауста» и «Евгения Онегина» наизусть цитировал страницами, к разговору какому-нибудь, просто к слову; на его лекции врачи со всего города сбегались, чего уже нигде давно не бывает; независим был до... до того, что и теперь, спустя три года, им всем это расхлебывать приходится.







