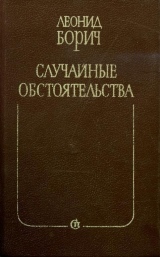
Текст книги "Случайные обстоятельства"
Автор книги: Леонид Борич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Светлой памяти отца и друга Циприса Бориса Яковлевича
1
Когда стало известно, что завтра к ним в школу ожидается сам заведующий гороно, каждый поначалу опасался, не к нему ли на урок его поведут, но директор выбрал Каретникова, и теперь можно было не только вздохнуть с облегчением, но вместе с тем уже и за себя немного обидеться: а почему не ко мне?
Михаил Антонович это почувствовал, ему стало неловко перед коллегами, словно в таком директорском предпочтении была его собственная вина, а между тем, переменив в учительской классный журнал и отправившись на очередной урок, думал он о завтрашнем дне лишь с досадой, представляя себе, как его ребята, которые начнут сейчас горячо, шумно спорить, а он, умышленно подзадоривая, будет радоваться, что хоть в какой-то мере прививает им «жажду размышлений», – как те же ученики просидят завтра весь урок тихо, чинно и, вызванные к доске, правильно и скучно перескажут учебник, не зададут, сколько ни взывай к ним, никаких вопросов, да ведь и он тоже, тяготясь чужим присутствием, станет заботиться о том, как бы поточнее соблюсти методику и уложиться в урок.
Седой, высокий, слегка сутулый, он доброжелательно, как всегда, улыбнулся, негромко поздоровался с классом и, мельком взглянув поверх очков на ожидающие, с ухмылкой лица, понял, что девятый «А» успел что-то вытворить. Правда, торжествовали одни ребята, а девочки были явно возмущены, притом столь единодушно, как это редко случалось между ними. Что-то, значит, такое, что против женской половины человечества... Ему, пожалуй, так и не дождаться снова раздельного обучения, как это когда-то было. А жаль... Дело-то ведь не только в том, что их надо по-разному воспитывать. Тут еще и иное: Прекрасная Незнакомка, где ты? Все время на глазах друг у друга, все им обыденно, все в привычку – что уж тогда «нездешнего» в этой девочке, какая загадка и таинство?
Он уселся за стол и, пока вписывал в журнал дату и тему урока, сообразил, что, кажется, надо к доске обернуться. Торопливыми скачущими буквами там было набросано:
«Господи Боже мой! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил».
Михаил Антонович усмехнулся про себя: так сказать, знание классики, за которое он все время ратует. И даже, сколько он помнит, написание истинно гоголевское: «Боже» – с прописной буквы, а после восклицательного знака – со строчной. Конечно, скорее всего это Игорь Павловский в массы принес. Он отличник – это, в глазах ребят, почти неприлично, они больше уважают определенный крен, но ему охотно прощаются его вечные пятерки, потому что он не зубрила.
Сняв и протирая очки платком, Михаил Антонович кивнул на доску:
– Н-ну... и как оценим?
– А просто как урок классики, – немедленно отозвался Павловский.
– Как глупость! – выкрикнул кто-то из девочек.
– Зачем так уж сразу?.. – примирительно сказал Михаил Антонович. – Надо быть все же поснисходительнее...
– К Гоголю?! – с иронией спросил Игорь Павловский.
– К тому, кто на доске написал, – улыбнулся Михаил Антонович. – У юноши переходный возраст. Это пройдет... Знаете, есть такой любопытный психологический феномен: если мальчишка-третьеклассник бьет девочку портфелем по голове, он вовсе не обязательно хулиган – ему, вполне возможно, она-то как раз и нравится...
– Вот пусть тогда про нее и пишет! – крикнула Инна под общий хохот. – А других нечего трогать!
Михаил Антонович смутился этим непредвиденным поворотом. Ему стало жаль Игоря. Всем в классе известно, что Павловский неравнодушен к Наташе, но вряд ли кто-нибудь из них догадывается, что именно за это Инна столь активно презирает Наташу. Впрочем, ее почти все девочки недолюбливают: нелегко простить такую красоту, тем более если она сама себя сознает, а Наташа ох как сознает... Она не одному Игорю нравится, и это еще больше настраивает девочек против нее. К тому же Наташа немного глупа, она, кажется, и сейчас не совсем поняла, отчего это все они смеются, но, честное слово, при таких утонченно-благородных чертах ей даже и глупость идет.
– А можно вопрос? – встала из-за парты Инна, широконосая, нескладная, в очках с толстенными зеленоватыми стеклами.
Михаил Антонович невольно посмотрел на часы. Но как же откажешь? Да и свой интерес: из таких «не по теме» вопросов узнаешь гораздо больше...
– Давайте ваш вопрос, – согласился он. Уже обычно с пятого класса он их всех на «вы» называл – и чтоб чувствовали свое достоинство, привыкали, что они уже личности, но не совсем при этом и без корысти: так ведь и определенный перепад создавался в оттенках отношений, когда уж если на «ты» вдруг переходишь, то за этим особое твое удовольствие от его ответа или сочинения, особенное расположение к ученику за тот или иной поступок – одним словом, симпатия уже индивидуальная, а не как всегда и ко всем.
– Это даже и не мой вопрос, а наш общий, – краснея, объяснила Инна. – Мы тут с мальчишками спорили: должна ли женщина обязательно быть умной? Я хочу сказать, важно ли это... ну, вообще...
Все рассмеялись, но Михаил Антонович понимал, что они сейчас притворяются – перед ним, перед собой, перед своим соседом по парте, друг перед другом, – а на самом-то деле их это очень интересует. Просто они на всякий случай так отгораживаются от своей причастности к вопросу: а вдруг он ему, Михаилу Антоновичу, покажется нелепым, а вдруг он действительно смешон, этот вопрос?
Инна с недоумением и обидой оглянулась на класс. Была она настолько безнадежно некрасивая, что Михаил Антонович почувствовал неловкость: как будто сам виноват в этом. Для кого как, а Инне особенно важно получить именно такой ответ: разумеется, ум в женщине – первейшая необходимость.
– А вот наши мальчики считают, – с вызовом сказала Наташа, – что главное в женщине – все-таки внешние данные. – Она тут же сама и продемонстрировала их – плечами, поворотом головы с точеным носиком, взрослой уже грудью.
Инна очень нуждалась сейчас в его помощи, и, улыбнувшись, он процитировал:
– «Дурочка даже не поцелует так, как умная»... Это Лесков сказал. Которого вы не проходили. Я же вам постоянно твержу: читайте классику! Там обо всем... – Он встретил взгляд Инны, исполненный такой благодарности, что, смутившись, погрозил ей пальцем и ворчливо сказал: – Опять старика в дискуссию втравили!.. А Степанской надо еще троечку исправлять. И новая тема, и...
Хотелось хоть как-то предупредить их о завтрашнем госте, намекнуть хотя бы, но Михаил Антонович чувствовал себя в эти секунды столь остро счастливым и чуть ли не всемогущим, что легко поборол это желание. Он вызвал к доске Степанскую, розовощекую добрую толстушку, и терпеливо ждал, пока она, уже встав из-за парты, оторвется наконец от учебника, что-то еще лихорадочно– дочитывая напоследок.
– За что тройка была? – спросил у нее Михаил Антонович.
– За биографию, – сказала Степанская.
Усмехнувшись про себя, он вспомнил, как она отвечала в тот раз. Когда он попросил рассказать о Чехове, она с недоумением переспросила: «Биографию?» Он объяснил, что его скорее интересует, как она вообще представляет себе Чехова: внешность, облик, черты характера... Словом, чтоб как о живом человеке. Если я, например, о вашем знакомом спрошу: какой он? – вы же не биографию его станете рассказывать?
«Так то живой ведь, – сказала Степанская. – А тут...» Но, словно бы уступая его учительскому капризу или странности, она, пожав плечами, затараторила, что Чехов был тихий, деликатный, щупленький такой... Он с удивлением посмотрел на нее.
«И в пенсне», – подсказали ей.
«Да, и в пенсне», – механически повторила она под общий смех.
«Какого он был роста?» – нахмурившись, спросил Михаил Антонович.
«Небольшого», – уверенно сказала Степанская.
Ей стали подавать знаки, чтоб натолкнуть на верный ответ, а он, возмущенный, тогда и вкатил ей тройку. Не запомнить, что Чехов был очень высокого роста!..
Разумеется, на чей-то взгляд это могло казаться мелочью, однако Михаил Антонович давно убедился, как именно подробность, неважная как будто деталь способна вдруг разрушить давний стереотип, открыть невольную нашу подмену, когда за представлением о человеке вежливом, предупредительном, мягком в обращении как-то незаметно вырастал образ кроткого и трогательно-беззащитного «мечтателя», каким Чехов никогда не был.
Впрочем, теперь, когда Степанская начала свой ответ с того, что Чехов был ростом чуть ли не под два метра – казалось, она сама же до сих пор удивляется этому, – Михаил Антонович еле сдерживал улыбку: уж вроде бы чересчур по-женски следовал за этим вывод, что конечно же не мог такой человек быть каким-то там смирным, тихеньким, безответным, а был он веселым, гостеприимным, волевым и очень энергичным.
Она и примеры тому привела: как Чехов любил розыгрыши, как не проходило дня, чтоб у него не обедали и не ночевали знакомые – прямо гостиница, а не дом! – и как он ездил на холеру, и его бесконечные хлопоты о чьих-то рукописях, об устройстве чахоточных больных... Да одна его поездка на Сахалин!.. А строительство школ на его деньги?! Или вот памятник Петру Первому...
Довольный, Михаил Антонович кивал и лишь возразил, что речь-то не просто о благодеянии, меценатстве. Чехов не только деньги давал на школы – он вникал во все подробности, знался с каждым подрядчиком, каменщиком, плотником. А поди-ка уговори знаменитого Антокольского, чтоб тот согласился поставить скульптуру в каком-то заштатном Таганроге, до которого тысячу верст скачи – не доскачешь... Дело-то в том, что он. Чехов, себя на все это тратил: свои нервы, свое время... И знаете, никого это не удивляло, никому не приходило в голову поберечь его. Даже когда он был смертельно больным и едва передвигался из-за одышки, одна его знакомая без всяких угрызений совести дает ему поручение часики ее снести в починку...
Михаил Антонович мог бы сейчас рассказать им не одну подобную историю, но и времени было в обрез, да и сам при этом всегда только расстраивался за Чехова, слишком многих начинал ненавидеть из его окружения, себя же потом одергивать приходилось: ну нет же их, давно уж нет!..
Похвалив Степанскую за хороший ответ, он отпустил ее, вызвал еще нескольких и уж совсем растрогался, когда Инна сказала, что, читая Чехова, заметила такую его особенность, что получается, будто не я сужу его героев, которые поступают не так, как надо, а я же сама тоже виновата вместе с ними.
Потом, переходя к новой теме, он спросил у класса, а как они понимают лаконизм Чехова. В общем-то они правильно понимали, но он все же поинтересовался: по их мнению, сколько приблизительно страниц занимает «Дама с собачкой»?
Посыпались уверенные ответы: сто, двести, больше – там же целая жизнь проходит!.. Огромная жизнь, согласился он. От вроде бы пошленького курортного романа поначалу – и до высокой любви...
Он раскрыл перед ними томик Чехова и вместе с ними посчитал: шестнадцать страниц, всего восемь листиков.
Они удивились, громко стали обмениваться впечатлениями, и вдруг, смолкнув, все дружно повставали из-за парт.
В дверях стоял директор школы. Осанистый, внушительно неторопливый, с цепким твердым взглядом исподлобья, умел он подчинять себе не только учителей, но и учеников, что по нынешним временам, как полагал Михаил Антонович, было много сложнее.
– Шумно в классе, – сказал директор и, помолчав, ткнул пальцем: – Постричься.
– Я... я стригся... – пролепетал ученик, один из самых робких в классе.
– Значит, плохо стригся, – сказал директор. – И давно. Как фамилия?
– Моя?..
– Свою я сам знаю.
Послышался подобострастный смешок, и Михаил Антонович укоризненно покачал головой: ну почему всегда находится кто-то, кто немедленно принимает сторону сильного?!
– Петров, – назвался ученик.
– Вот завтра, Петров, зайдешь ко мне перед уроками – показаться, как понял мое замечание. Михаил Антонович, на минуту...
Они вышли в коридор.
– Предупредите всех: сидеть завтра, чтоб муху слышно было!
– У нас и мух-то нет, – улыбнулся Михаил Антонович.
Директор холодно посмотрел на него, давая понять всю неуместность шуток накануне такого дня.
– И еще... Кто из ваших учеников вызывает опасения? Не в смысле знаний – таких просто не вызывать завтра, а по линии, так сказать, поведенческой...
– Простите?.. – Михаилу Антоновичу вдруг захотелось вслух не понять то, что он уже вполне уловил.
– Что ж тут непонятного! Самых неуправляемых перевести на завтрашний урок в параллельный класс.
– Но... но как же я объясню им?.. Как вообще это объяснить?
– А никак. Они уже достаточно взрослые люди и прекрасно все понимают.
– То есть – что значит: «все понимают»?.. – Пораженный, Михаил Антонович уставился на директора.
– А то и значит! А я вот – вас не понимаю, Михаил Антонович: вам хоть сколько-нибудь дорога честь нашей школы?
Михаил Антонович растерялся. Как же так?! Смотреть при этом совершенно открыто, без тени смущения...
Уличать кого-нибудь во лжи ему всегда было тягостно и стыдно. Он и учеников-то никогда не подлавливал на этом – напротив, всем своим видом старался показать, что он не верит, будто ложь была намеренной. Просто, мол, не так мы его поняли, неудачно он выразился... А как же иначе?! Как это не дать человеку еще один шанс? А директор... Может, он и в самом деле искренне убежден в своей правоте? Тем более он у них в школе совсем недавно...
– Простите, – проговорил Михаил Антонович как можно мягче и участливее, – вы действительно считаете, что для чести нашей школы...
– Потрудитесь сделать, как я сказал, – перебил его директор. – И никаких этих ваших дискуссий на уроке. Строго все по программе: от и до.
Круто повернувшись, он пошел по коридору, крепкий, уверенный, хозяйственно оглядывая по дороге, все ли тут в порядке, и кое-где поправляя на дверях таблички, а Михаил Антонович, спохватившись, что столько времени у них от литературы оторвали, заспешил к своим ученикам.
Теперь ему и в самом деле захотелось предупредить их о завтрашнем госте, но Михаил Антонович все же поборол в себе это желание: была какая-то особенная приятность вести себя даже и перед самим собой так, будто ничего не случилось.
Потом учителя, посмеиваясь, рассказывали, как директор, встречая заведующего гороно, прождал у ворот школы около часа. Иди знай, что тот откажется от автомобиля – на улицах весна, солнышко, ручейки – и захочет, видимо, пройтись до их школы пешком. Михаил Антонович не понимал злорадного тона своих коллег, хотя, как и они, не любил директора. Однако все-таки жаль было человека, стоило лишь себе представить, как тот мается у ворот, как ему неудобно свое положение... Он и сказал им об этом, но учителя дружно возразили ему: ошибаетесь, Михаил Антонович. Вот прежний наш директор, пусть и встречал начальство таким же манером, но всячески скрывал это от посторонних глаз, стеснялся все же, а теперешний так себя держит, с таким уверенным спокойствием и достоинством, словно по-иному встречать попросту и нельзя, невозможно, даже и быть не должно.
Ну, это уж, знаете, возразил кто-то, еще ведь неизвестно, как бы на его месте каждый из нас поступил... Тут все обиделись, потому что каждый про себя знал, что он-то бы уж точно не так вел себя, и, конечно, сразу заспорили между собой, а Михаил Антонович думал уже не о директоре, а о заведующем гороно – о том, как хорошо, как приятно, что не обманулся в своем первом впечатлении о нем. Ведь только тот вошел сегодня в класс в сопровождении директора – уже седой и такой же, как Михаил Антонович, высокий и худощавый, с живыми посмеивающимися глазами, – как Михаил Антонович сразу доверчиво проникся к нему симпатией. Неужели он не поймет, что урок гораздо интереснее, когда не «от и до», а как ты сам посчитаешь нужным, да и как повернется, в конце концов. То есть как отвечать будут, какие вдруг у ребят вопросы возникнут... А не будет совсем вопросов – к чему тогда им уроки литературы?
Пока ученики, освободив последнюю парту для гостей, пересаживались на свободные места, он, чтоб не терять зря времени, спросил у класса:
– Кто сегодня не хочет отвечать?
Вопрос этот сам по себе не был для них неожиданным, Михаил Антонович нередко задавал его в начале урока – неинтересно ему было кого-нибудь врасплох захватывать, изобличать в незнании, а главное, классу скучно выслушивать такого ученика, – но сейчас, в присутствии посторонних, это их, конечно, удивило, он понял по их лицам. А уж о том, как реагируют на это директор и гость, Михаил Антонович даже и думать себе запретил и ни разу за весь урок вообще не взглянул в их сторону. Все должно идти сегодня, как всегда...
Разумеется, он понимал: таких, кто скажет, что не готов отвечать, сегодня не окажется, и задал-то он этот вопрос не просто по инерции, а скорее для себя самого, чтоб себе же окончательно отрезать иные, более заманчивые пути.
Он вызвал, не выбирая специально, одного ученика, потом другого, третьего, и все, что каждый из них говорил, почти все, было правильно: и что Чехов – новатор в драматургии, и что вишневый сад сделан как бы центром пьесы, и о старых его владельцах правильно... Раневская мила, привлекательна, но она раба обстоятельств, и хотя бескорыстна, добра, но доброта эта за чужой счет выходит, к тому же она эгоистична – привязана к своей дочери, даже любит ее, а между тем, забрав последние деньги, уезжает в Париж к своему любовнику...
– Но тут, может, и посочувствовать ей? – не сдержался Михаил Антонович. – Она ведь не жизнь прожигать едет, не веселиться, а спасать любимого... Скорее всего, она понимает, чувствует по крайней мере, чем все кончится, но ничего не может поделать с собой, со своей любовью к этому недостойному человеку...
На минуту они чуть оживились, ответили, что все равно не должна, не имеет морального права свою родную дочь бросать на произвол судьбы, и тут же снова затихли, почти безучастно внимая, как их товарищи, стоя подле Михаила Антоновича, верно говорили о беспечности и безволии Гаева, о хищнике Лопахине и о противоречиях в его натуре; и, конечно, «Здравствуй, новая жизнь!»... хорошие задатки в Ане... такие, как она, уходят потом в народ, в революцию...
– Так уж всегда и уходят? – позволил себе чуть усомниться Михаил Антонович, пытаясь хоть как-то разговорить их, но они не ввязывались ни в какие обсуждения, помнили, что не одни в классе.
Тогда, не выдержав, Михаил Антонович вызвал Игоря Павловского. Пусть хоть он их расшевелит немного своим вечным несогласием.
– Расскажите-ка нам о Пете Трофимове...
Покосившись на заднюю парту, Павловский несколько секунд решал, как же ему отвечать сегодня: как обычно, задираясь, споря, чтоб быть всему классу интересным, или как по учебнику положено? Все же это не только его к доске вызвали, а получается, что и Михаила Антоновича, и как бы тут не подвести его ненароком.
Никогда, пожалуй, сколько Михаил Антонович знал его, Игорь не отвечал так бесцветно: ничего же ведь своего, ни одной мысли! А материал между тем знает, к тому же память у него отличная, он вот и несколько цитат наизусть привел, но это, в общем, не меняет дела – до того все уныло-бесспорно. Неужели он... Ну да! Он, видите ли, обо мне печется... Это трогательно, конечно, и... как-то нечестно, не по совести.
– Все правильно, – подытожил Михаил Антонович. – Точно как в учебнике. Но – не более... – он обвел взглядом класс. – Никто не хочет дополнить?
Скучные они сидели, какие-то осоловелые, с непривычно для него тупым, отсутствующим выражением на лицах, покорно терпеливые, угасшие... Ему и самому все время зевать хотелось.
«Бедные, – подумал он, – а им-то каково столько высидеть?..»
Михаил Антонович укоризненно посмотрел на Павловского: что же ты? а я надеялся на тебя...
Игорь покраснел и ответил совсем отчаянным взглядом: понимает ли Михаил Антонович, в какое безвыходное положение ставит его, на что толкает?! Что ж ему делать после этого?
– Значит, никаких иных мнений по поводу Пети Трофимова нет? – с сожалением спросил Михаил Антонович.
– Вообще-то у меня у самого – другое мнение, – сказал Игорь.
Тут в пору было рассмеяться, но в классе стояла напряженная тишина, и лишь после того, как Михаил Антонович, весело улыбнувшись, спросил: «Значит, начнем сначала?» – ребята оживились, задвигались, он увидел, наконец, интерес на их лицах.
– Мне бы книжку взять... – проговорил Игорь, указывая на свою парту.
– Правильно, – одобрил Михаил Антонович. – Доказывать надо текстом. Вот вам пьеса...
– Но... у меня там свои тексты, – смущенно улыбнулся Павловский. – Можно?
Михаил Антонович кивнул и, предвкушая неожиданность, откинулся на спинку стула, поглядывая довольно на класс поверх очков.
Книгу он узнал сразу – по формату, по толщине, по цвету обложки, – и понял, что же за этим должно последовать, какая цитата. Честно сказать, в его намерения все же не входило сейчас такое крайнее мнение, вызванное временем и обстоятельствами тех лет, но, кто знает, может, для настоящей дискуссии как раз это и подходило?
– Максим Горький в воспоминаниях о Чехове пишет... – торжественно начал Игорь, вернувшись к доске: – «Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет...» – это он о чеховских героях, – пояснил Павловский, – «...и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?» Вот... – Словно бы не решаясь что-то еще зачитать, он покосился на Михаила Антоновича и умолк.
– А чуть повыше? – улыбнулся Михаил Антонович. – Там, где о Пете Трофимове.
Игорь с сомнением смотрел на него, и Михаил Антонович, не выдержав, рассмеялся.
– Павловский!.. – укоризненно сказал он. – Решительнее! Прочь сомненья!..
Игорь кивнул и, набравшись духа, четко прочитал в наступившей какой-то особенной тишине: «Дрянненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и – бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников...»
– Вот это да!.. – услышал Михаил Антонович.
– А что вас тут смущает? – спросил он.
– Ну как же... – растерянно сказал кто-то с места. – А мы говорим, что Петя Трофимов... новая жизнь... новые люди...
– И правильно говорим! – чуть сердито сказал Михаил Антонович. – Я вас не понимаю: почему надо отказываться от этого? И что вообще за робость такая перед острыми вопросами?
– Ну... все-таки сам Горький...
– Вот мы сейчас с вами постараемся и Чехова понять, и Горького... И Петю Трофимова. Никто же вас не призывает к тому, чтобы этот образ воспринимать лишь в восторженных, патетических тонах... Павловский, а что ж это я за вас?
– Ну, у Чехова есть объяснение, почему он многое не мог досказать в образе Пети Трофимова. Цензурные условия не позволяли не то что показывать, но и говорить вслух о том, что Трофимов то и дело в ссылках, потому и «вечный студент», и дел его мы не видим... Но все равно, Михаил Антонович... Какой-то очень уж он, Трофимов, дистиллированный. И все время как будто...
– Стихами говорит, – подсказали ему.
– Вот именно, – согласился Павловский. – Декламирует. И потом... эта сцена с калошами в последнем акте...
– А что там, с калошами? – невинно спросил Михаил Антонович, словно бы не сумев вспомнить.
– Ну, как же! – подсказали ему. – У всех горе, все рушится, остались без пристанища, а Трофимов упорно об одном: куда это подевались мои калоши?
– Да как вы не понимаете?! – воскликнула Инна. – Тут-то он как раз и живой, тут все по-человечески понятно!
– Понятно! – с иронией возразили ей. – В светлую жизнь собирается, а у самого самые грязные калоши из всех!
– Какой же он живой, Трофимов? – вмешалась красавица Наташа, обернувшись к Инне. – Если он говорит Раневской, что они с Аней выше любви! Представляете?!
– Так кому говорит? – сказал Павловский. – Аниной матери! Я бы в таком случае, может, тоже...
– Лапшу, бы ей навешивал, – поддержал кто-то. – Чтоб не подозревала...
– Вот именно! – согласился Игорь. – А на самом-то деле у него с Аней... Чувствуется же, как она к каждому его слову прислушивается, как смотрит на него...
– И что тут может нравиться?! – Наташа пожала плечами. – Ваша Аня – она же «душечка» какая-то!
– Ты думаешь, ты этим ее обидела? – спросила Степанская. – Почему это плохо – быть доброй, отзывчивой, как «душечка», жить интересами любимого человека?..
– А где ее самостоятельность? Куда ей в революцию? Ее куда поведут – туда и пойдет! – посыпалось на Степанскую со всех сторон.
Все это говорили больше девочки, ребята молчали сейчас, и, усмехнувшись про себя, Михаил Антонович подумал, что мальчишкам вроде бы не так уж не нравилось, как несамостоятельно ведет себя Аня с Трофимовым. Однако пора уже было думать о том, чтобы как-то управиться с их активностью.
– Ну, ладно, – сказал он. – С калошами дело поправимо, в новой жизни можно на первых порах и в таких, как есть. И наивность пройдет с годами, хотя, надеюсь, не совсем пройдет... И с любовью у таких, как Трофимов, все потом образуется. Но меня лично тревожит и в Ане, и в Трофимове мотив всеми забытого старого слуги. Ведь Фирса оставили без заботы все, абсолютно все, в том числе и те люди, которые приветствуют новую жизнь. Вот о чем стоит подумать...
– А как насчет высказывания Горького? – напомнили ему.
– А это Павловский затеял, пусть он и объяснит, – улыбнулся Михаил Антонович.
– Так, по-моему, ясно, – сказал Игорь. – Приближается революция, девятьсот пятый год, вот-вот баррикады возникнут, нужны люди, не просто умеющие правильные слова говорить и обличать хозяев вишневого сада, а люди дела нужны. Потому Горький так и заостряет, так нетерпим...
– Очень хорошо. Молодец. Вторым твоим ответом я доволен.
Он отпустил Павловского, собираясь подытожить их разговор, но Инна вдруг сказала:
– Какая же это комедия, если никто никого не слышит? Все глухи друг к другу, даже дочь и мать...
– А Чехов назвал – комедией! – возразили ей. – Выходит, он заблуждался?
– Почему заблуждался? Там действительно много смешного, – сказала Наташа. – Как, например, Лопахин чуть Варе предложение не сделал, и шампанское приготовлено было, а оказалось, что его уже давно Яша выпил, слуга.
– Что ж тут смешного? – возмутилась Инна. – Варя-то всю свою жизнь этого предложения ждала!
– А Епиходов... – вспомнил еще кто-то. – Уселся на картонку со шляпой и раздавил...
– Ну и что? – спросила Степанская. – Ну, неудачник, ну, неловкий человек... Так давайте посмеемся над ним?!
– А Шарлотта? Разве не смешно, как она куклу качает? Как живое существо...
– Да вы что, ребята?! – Петров, робкий их Петров, поднялся. – Женщина всю жизнь в гувернантках, всю жизнь у чужих людей. Совершенно одинокий человек! Одна-то, наверно, и была когда-то мечта – ребенка бы своего...
– А!.. – отмахнулась Наташа. – Они все там какие-то жалкие!.. Даже когда веселятся!
– Между прочим, – сказал Михаил Антонович, – слово «жалкий» употребляется не только с неким презрительным оттенком. Если жалкий – значит, достойный жалости, участия, сострадания. А жалеть – это еще и щадить, беречь, не давать в обиду. Не так ли? Ну, это я к слову... Давайте-ка теперь подведем итоги. Первое: к вопросу о жанре...
В коридоре, перед тем как расстаться, заведующий гороно спросил:
– У вас всегда так... шумно?..
Михаил Антонович видел предостерегающий взгляд директора из-за спины завгороно, но лишь пожал плечами и упрямо ответил:
– Всегда. По крайней мере, всегда стараюсь, чтоб именно так было.
Заведующий гороно усмехнулся и, прощаясь, сказал:
– Спасибо вам...
– За что? – удивился Михаил Антонович.
– За шум на уроках.
К концу дня вдруг сказывалась усталость, но Михаил Антонович это лишь после чувствовал, а пока вел уроки, он был оживлен, здоров, почти молод, и, верно, чтоб продлить в себе это ощущение бодрости, все выискивал причины подольше задержаться в школе. Как-то он предложил десятиклассникам: если они найдут после уроков минут сорок, он может дополнительно позаниматься с ними, чтоб готовить их к сочинению на аттестат зрелости, и они, понимая, конечно, что это поможет и при поступлении в институт, дружно согласились. Так с тех пор и повелось, уже много лет, что весной ему прибавлялись и эти занятия, никакими программами не предусмотренные. «Что ж вы, из них всех филологов хотите сделать?» – спрашивали иной раз его коллеги, то посмеиваясь, то с ревнивыми нотками в голосе, а то и с некоторым упреком. Нет, он совсем не обольщался на этот счет, понимая, что филологом мало кто станет, но как было признаться вслух в той радости, какую он испытывал, замечая у ребят не один лишь сугубо практический интерес к подобным занятиям, а увлеченность подлинную, уже далекую от соображений сиюминутной пользы... Как же было поделиться с кем-нибудь своим торжеством, когда ученик, вопреки педагогической осмотрительности и объективности Михаила Антоновича, вдруг приходил к самостоятельному выводу, что Печорин – герой скорее отрицательный. Михаил Антонович не соглашался, искренне объяснял, что не следует быть столь категоричным, что нельзя уже в их годы подходить и к явлениям жизни и к литературе с наивной, арифметической меркой, что речь тут о сложности, неоднозначности образа, – но при всем этом отчего-то спокойнее становилось на душе за такого ученика, за его будущее.
Если Михаил Антонович с кем и делился подобными соображениями, то разве что с дочерью. Ирина, как и он, тоже была словесником и, конечно, много общих тем у них находилось, но жила она отдельно, в другом конце города, а когда изредка и появлялась в родительском доме, все равно поговорить толком им негде было: квартира большая, а тихого угла не найти. За общим же столом разговоры все какие-то пустые выходили, и лишь позже, когда он провожал ее к станции метро, можно было осторожно спросить: «Ну, как ты?..» Тут же, однако, испугавшись, что уже одним этим вопросом причиняет ей боль, он торопливо, с бодростью в голосе добавлял: «Как дела?» – понимая, впрочем, что нисколько не облегчил ей ответ, потому что «как дела?» – это ведь не только школа, но и то, что, разведясь давно с мужем, она полюбила женатого человека, у него двое детей, и все это тянется уже много лет... Маленькая, хрупкая на вид, она ласково прижималась головой к его плечу: «Все хорошо, папа. Все очень хорошо». Он видел, что говорит она искренне, почти весело, и все не переставал, удивляться этой перемешке в ней страдания и счастья.
«Иногда я думаю, – поделилась она с ним в другой раз, – что же это за счастье, когда страданий больше, чем радости? А ведь все равно – счастье!..» – И заплакала.
Он отвел ее в сторону, заслонил от чужих любопытных глаз, беспомощно гладил по голове, как ребенка, и сам не знал: радоваться ему за нее, сочувствовать ли ей... Чтоб люди так долго были нужны друг другу – да одно это... «Мы, вероятно, все заблуждаемся, – сказал он, успокаивая ее, – когда считаем, что для счастья... нужно бесконечно много всего... Для счастья, может быть, нужно... хотя бы кое-что?»








