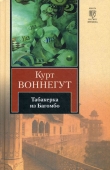Текст книги "Полное собрание рассказов"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 81 (всего у книги 84 страниц)
Пришел черед Нэнси отвечать гробовым молчанием. Она поняла, что он хочет сказать, и пришла в ужас при мысли, что сексуальное влечение может расти и расти, как бы отвратителен ни был первый опыт.
– Если ты отважишься подумать об этом, то поймешь: ты злишься, потому что я плохой любовник и на вид больше похож на смешную креветку. Теперь все твои мысли будут о достойном партнере, таком же красивом и статном, как ты. И ты найдешь его, поверь: высокого, сильного и нежного. Движение сорвиголов растет не по дням, а по часам.
– Но… – хотела возразить Нэнси и умолкла. Сквозь иллюминатор она увидела восходящее солнце.
– Что «но»?
– Мир погряз в этом хаосе именно из-за сорвиголов. Ты что, не понимаешь? Люди больше не могут позволить себе секс!
– Что ты, секс всегда можно себе позволить. Вот размножение надо прекращать, это да.
– Зачем тогда придумали законы?
– Это неправильные законы, – сказал Билли. – Если вспомнить историю, то люди, которые больше всего хотели властвовать, создавать законы, насаждать их и рассказывать остальным, как на самом деле всемогущий Господь устроил жизнь на Земле, – эти люди спускали себе и своим друзьям любые преступления. Но естественное влечение простых мужчин и женщин друг к другу отчего-то всегда внушало им ужас.
Почему это так, мне непонятно до сих пор. Хорошо бы кто-нибудь задал этот вопрос – в числе многих других – машинам. Но вот что я знаю наверняка: сегодня ужас и отвращение почти победили. Практически все женщины и мужчины на планете чувствуют себя никчемными уродинами. Единственную красоту мужчина видит в лице убивающей его женщины. Секс – это смерть. Вот оно, короткое и поистине страшное уравнение: секс равно смерть, что и требовалось доказать.
– Теперь ты понимаешь, Нэнси, – продолжал Билли, – что я провел эту ночь и много ей подобных в попытке вернуть хотя бы малую толику чистого удовольствия нашему миру, в котором почти не осталось удовольствий.
Нэнси сидела молча, склонив голову.
– Давай я расскажу тебе, что сделал мой дедушка на рассвете после брачной ночи, – сказал Билли.
– Я не хочу слушать.
– Но в этом нет ничего плохого или грязного. Это… очень нежно.
– Может, потому я и не хочу слушать.
– Он прочел своей жене стихотворение. – Билли взял со стола книгу, раскрыл на нужной странице. – В его дневнике написано, какое именно. Хоть мы с тобой не жених и невеста, да и вряд ли еще когда-нибудь увидимся, я хочу прочесть тебе эти строки, чтобы ты поняла, как я тебя любил.
– Прошу… не надо. Я не выдержу.
– Хорошо, я оставлю книгу здесь – на случай если ты все-таки захочешь его прочесть. Стих начинается так:
Билли поставил на книгу маленький пузырек.
– Еще оставляю тебе эти таблетки. Если принимать по одной в месяц, детей у тебя не будет, но ты по-прежнему останешься сорвиголовой.
С этими словами он ушел. Все ушли, кроме Нэнси.
Она подняла голову и увидела на пузырьке этикетку с надписью: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОБЕЗЬЯННИК».
Адам
© Перевод. С. Лобанов, 2020
Родильный дом в Чикаго. Полночь.
– Мистер Суза, – сказала медсестра, – ваша жена родила дочь. Минут через двадцать ребенка принесут.
– Знаю, знаю, знаю, – мрачно проворчал гориллоподобный мистер Суза, явно не в духе: вновь придется выслушивать утомительные и однообразные пояснения. Нетерпеливо щелкнул пальцами: – Девчонка! Уже седьмая! Теперь у меня семь дочек. Полный дом баб. Я бы легко отдубасил и десятерых здоровяков вроде себя самого, но вот родятся у меня только девки!
– Мистер Кнехтман, – обратилась сестра ко второму посетителю. Фамилию она произнесла небрежно, как и все американцы: Нетман. – Простите, о том, как дела у вашей жены, пока неизвестно. Вот уж кто заставляет нас ждать, правда?
Сестра бросила ему пустую улыбку и ушла.
Суза обернулся:
– Конечно, если наследник нужен какому-нибудь сукину сыну вроде тебя, Нетман, то бац! – и мальчишка готов. Потребуется тебе футбольная команда, бац, бац, бац! – и вот тебе одиннадцать.
Суза, сердито топая, вышел из комнаты.
Он оставил Хайнца Кнехтмана, гладильщика из химчистки, в комнате в полном одиночестве. У невысокого, с тощими запястьями гладильщика был больной позвоночник, отчего мистер Кнехтман всегда сутулился, словно устал когда-то давно и на всю жизнь. Смирение и покорность, навеки застывшие на тонкогубом и носатом вытянутом лице, почему-то невыразимо его красили. Огромные карие, глубоко посаженные глаза смотрели из-под длинных ресниц. Ему было всего двадцать два, однако казался он гораздо старше. Он умирал понемногу, умирал каждый раз, когда фашисты забирали и убивали кого-то из его семьи, пока не остался лишь один он, десятилетний Кнехтман, душа, приютившая фамильное семя и искру жизни. Вместе с женой Авхен они выросли за колючей проволокой.
Вот уже двенадцать часов он не отрывал взгляда от стены приемного покоя, с полудня, когда схватки у жены стали постоянными, как накаты огромных морских волн где-то вдалеке, в миле от них. То был второй ребенок. В прошлый раз Хайнц ждал на соломенной циновке в лагере для перемещенных лиц в Германии. Ребенок, Карл Кнехтман, названный в честь отца Хайнца, умер, и с ним еще раз погибло имя одного из талантливейших виолончелистов мира.
И вот он ждет во второй раз; ждет не смыкая глаз, и лишь на мгновение, когда онемение от изнуряющей мечты отпускает его, в голове Хайнца вихрем проносятся имена – гордость семьи. Этих людей уж нет, никого не осталось. Зато их можно возродить в новом живом существе, только бы оно выжило. Хирург Петер Кнехтман, ботаник Кролль Кнехтман, драматург Фридрих Кнехтман. Он смутно помнил родительских братьев. А если будет девочка и если выживет, то он назовет ее Хельгой Кнехтман, в честь матери, и выучит играть на арфе, как играла матушка. И вырастет Хельга красавицей, хоть отец ее и безобразен. Мужчины Кнехтманы всегда были безобразны, зато женщины – прелестны, как ангелы, хоть и не ангелы. И так было всегда, века и века.
– Мистер Нетман, – наконец-то вернулась сестра, – у вас мальчик, и жена прекрасно себя чувствует. Она сейчас отдыхает. Вы увидитесь утром. Ребеночка вы сможете увидеть через двадцать минут.
Хайнц ошалело уставился на нее.
– Пять фунтов девять унций, – сообщила она и ушла, унеся свою деланую улыбку и противно скрипя каблуками.
– Кнехтман, – тихонько произнес Хайнц, поднимаясь и сутуло кланяясь стене, – моя фамилия Кнехтман.
Он поклонился еще раз и улыбнулся – учтиво и в то же время ликующе. Он произнес фамилию по-старомодному, с четким европейским акцентом, словно хвастливый лакей, возвещающий приезд господина, гортанно и раскатисто, непривычно грубо для американского уха:
– КхххххНЕХТ! Маннннн!
– Мистер Нетман?
Доктор, совсем еще юнец, розоволицый, рыжий и коротко стриженный, стоял в дверях приемной. Под глазами темнели круги, он безудержно зевал.
– Доктор Пауэрс! – воскликнул Хайнц, схватив его правую руку обеими своими. – Слава богу, слава богу, слава богу и спасибо вам!
– Угу, – промямлил Пауэрс и вымученно улыбнулся.
– Все ведь прошло как надо?
– Как надо? – Пауэрс зевнул. – Ну конечно, конечно. Все просто прекрасно. У меня такой разбитый вид оттого, что я уже тридцать шесть часов на ногах. – Он закрыл глаза, оперся о дверной косяк. – Нет, с вашей женой все прекрасно, – продолжил он голосом далеким и измученным, – она просто создана рожать детей, печет их как пончики. Для нее это проще простого. Вжик, и готово.
– Правда? – недоверчиво удивился Хайнц.
Доктор Пауэрс помотал головой, пытаясь проснуться.
– У меня мозги совсем набекрень съехали. Это Суза, я перепутал вашу жену с женой мистера Сузы. Они пришли к финишу вместе. Нетман. Вы ведь Нетман. Простите. У вашей жены проблемы с костями таза.
– Это от недоедания в детстве, – ответил Хайнц.
– Ага. Вообще ребенок родился хорошо, но если планируете еще детей, то лучше кесарить. Просто чтоб подстраховаться.
– У меня нет слов, чтобы вас отблагодарить, – с чувством сказал Хайнц.
Доктор Пауэрс облизнул губы, изо всей силы стараясь не закрыть глаза.
– Да ниче. Все норм, – заплетающимся языком ответил доктор. – Спокночи. Удачи.
Волоча ноги, он прошаркал в коридор.
– Теперь можете пойти посмотреть на ребенка, мистер Нетман.
– Доктор, – не унимался Хайнц, поспешив в коридор и снова хватая Пауэрса за руку, чтобы тот понял, какое чудо только что совершил, – это самое восхитительное, что только могло случиться.
Двери лифта скользнули и закрылись между ними раньше, чем Пауэрс нашел силы отреагировать.
– Сюда, пожалуйста, – показала сестра. – До конца коридора и налево, там окно в палату для новорожденных. Напишете свое имя на бумажке и покажете через стекло.
Хайнц прошел по коридору в одиночестве, не встретив ни души до самого конца помещения. Он увидел их – наверное, целую сотню – по ту сторону огромной стеклянной стены. Они лежали в маленьких парусиновых кроватках, расставленных ровными рядами.
Хайнц написал свое имя на обратной стороне талона из прачечной и прижал его к стеклу. Полусонная толстуха сестра мельком глянула на бумажку, не удосужив самого Хайнца взглядом, а потому не увидела ни его широченной улыбки, ни приглашения разделить восторг.
Выхватив из ряда одну кроватку на каталке, она подошла к прозрачной стене и отвернулась, снова не заметив радости отца.
– Привет тебе, привет, привет, маленький Кнехтман! – Хайнц обратился к лиловой сливке по ту сторону стекла.
Его голос эхом разлетелся по гулкому пустому коридору и вернулся, оглушив смутившегося Хайнца. Тот покраснел и сказал уже тише:
– Маленький Петер, маленький Кролль, – нежно проговорил отец, – малютка Фридрих, и Хельга в тебе тоже есть. По искорке от каждого Кнехтмана, и набралась целая сокровищница. Все, все сохранилось в тебе.
– Потише, пожалуйста! – Откуда-то из соседней комнаты высунулась голова сестры.
– Простите! – смутился Хайнц. – Пожалуйста, простите!
Он прикусил язык и принялся легонько настукивать ногтем по стеклу – так ему хотелось, чтоб ребенок взглянул на отца. Но юный Кнехтман ни в какую не собирался смотреть, ни в какую не соглашался разделить отцовское счастье, и вскоре сестра унесла новорожденного.
Хайнц лучился радостью, спускаясь в лифте, пересекая вестибюль роддома, однако никто на него и не взглянул. Он миновал телефонные кабинки. В одной из них за открытой дверью стоял солдат, с которым Хайнц час назад ждал вестей в приемном покое.
– Да, ма, семь фунтов шесть унций. Лохматая, как медвежонок. Нет, имя еще не подобрали… Да все как-то времени не было… Это ты, па? Угу, и с мамочкой, и с дочкой все нормально. Семь фунтов шесть унций. Нет, не подобрали… Сестренка? Привет! А не пора ли тебе спать?.. Ни на кого она пока не похожа… Дай-ка мне маму… Ма, ты?.. Ну вот пока и все новости у нас в Чикаго. Ма, ма… Ну ладно тебе… Не волнуйся ты так… Чудесный ребеночек… Просто волосиков – как у медвежонка… Да это я так, в шутку… Да, да, семь фунтов шесть унций…
Остальные пять кабинок пустовали, из любой можно было позвонить куда угодно на Земле. Как же хотелось Хайнцу подойти к телефону, позвонить, сообщить чудесную новость!.. Но звонить было некому, никто не ждал вестей.
Не переставая улыбаться, он пересек улицу и зашел в тихое местечко. В промозглом полумраке сидели двое, глаза в глаза, – бармен и мистер Суза.
– Что закажете, сэр?
– Позвольте угостить вас и мистера Сузу, – предложил Хайнц с необычной для него щедростью, – лучшим бренди, что у вас есть. Моя жена только что родила.
– Правда? – вежливо поинтересовался бармен.
– Пять фунтов девять унций, – сообщил Хайнц.
– Хм, – ответил бармен, – кто бы мог подумать…
– Ну, – спросил Суза, – и кто у тебя, Нетман?
– Мальчик, – гордо произнес Хайнц.
– Кто бы сомневался, – досадливо поморщился Суза. – У чахлых так всегда, все время только у чахликов вроде тебя.
– Мальчик, девочка, – не согласился Хайнц, – какая разница? Главное – выжил. В роддоме все стоят слишком близко к чуду, чтобы его разглядеть. А там каждый раз творится чудо, возникает новый мир.
– Вот погоди, будет у тебя их семеро, Нетман, – проворчал Суза, – тогда и поговорим о чудесах.
– У тебя семеро? – оживился бармен. – Значит, я тебя переплюнул на одного. У меня восемь.
Он налил три порции.
– Да по мне, – расщедрился Суза, – так с радостью уступлю первое место.
Хайнц поднял стакан:
– За долгую жизнь, талант и счастье… счастье Петера Карла Кнехтмана!
Он проговорил это на одном дыхании, сам подивившись смелости принятого решения.
– Громко сказано, – заметил Суза, – можно подумать, ребенок весит фунтов двести.
– Петер был известным хирургом, – объяснил Хайнц, – и двоюродным дедом моего сына. Он умер. Карлом звали моего отца.
– Что ж, за Петера Карла Нетмана. – Суза быстро опрокинул стакан.
– За Пита, – выпил и бармен.
– А теперь за вашу дочурку, – предложил Хайнц.
Суза вздохнул и утомленно улыбнулся.
– За нее, дай ей Боже.
– А теперь мой тост, – бармен замолотил кулаком по стойке, – и выпьем стоя. Встаем, встаем, все встаем!
Хайнц поднялся, держа стакан высоко. Каждый сейчас был его лучшим другом, он приготовился выпить за все человечество, частью которого все еще были Кнехтманы.
– За «Уайт сокс»! – заорал вдруг бармен.
– За Миносо, Фокса и Меле! – поддержал Суза.
– За Фейна, Лоллара и Риверу! – не унимался бармен. Он обратился к Хайнцу: – Пей, парень! За «Уайт сокс»! Только не говори мне, что ты за «Кабз»!
– Нет. – Хайнц не скрывал разочарования от такого поворота. – Я… я не очень-то увлекаюсь бейсболом. – Собеседники вдруг показались ему такими далекими и чужими. – Последнее время я вообще ни о чем, кроме как о ребенке, думать не мог.
Бармен тут же переключил все свое внимание на Сузу.
– Слушай, – с воодушевлением заговорил он, – вот если бы они сняли Фейна с первой и поставили на третью, а Пирса на первую, а потом бы переставили Миносо с левого поля на шорт-стоп… Понимаешь меня?
– Ага, ага. – У Сузы загорелись глаза.
– А потом берем этого бездаря Карраскела и…
Хайнц снова оказался в одиночестве, а между ним и любителями бейсбола вдруг возникли двадцать футов барной стойки. С таким же успехом они могли оказаться на разных континентах.
Он безрадостно допил бренди и тихо ушел.
На вокзале он ждал поезд домой, в Саут-Сайд. Радость вдруг опять нахлынула – он увидел парня, что работал с ним в гладильной. Парень был с девушкой. Они весело смеялись и обнимали друг друга за талии.
– Гарри, – позвал Хайнц и заспешил к ним, – Гарри, угадай, что случилось?
Хайнц улыбался от уха до уха.
Гарри, высокий щеголеватый курносый юнец, слегка удивившись, взглянул на Хайнца свысока:
– А, Хайнц. Привет. Ну что там у тебя стряслось?
Девица уставилась на него недоуменно, словно спрашивая, чего это в такой неурочный час к ним пристает такой несуразный человек. Хайнц заметил усмешку в ее глазах и отвернулся, чтобы не встречаться с ее взглядом.
– Ребенок, Гарри, мне жена ребеночка родила!
– Ого! – Гарри протянул ему руку. – Ну, поздравляю! – Рука была мягкой. – Вот это здорово, Хайнц, просто здорово.
Он отпустил руку и замолчал, ожидая, что Хайнц скажет что-то еще.
– Да, да, всего час назад. – Хайнц не заставил ждать. – Пять фунтов девять унций. В жизни не был так счастлив!
– Да это же просто здорово, Хайнц. Представляю, как ты рад.
– Вот это да, – добавила девица.
Повисло долгое молчание, все трое переминались с ноги на ногу.
– Чудесная новость, – нашелся наконец Гарри.
– Да, – быстро ответил Хайнц, – и это, в общем, все, что я хотел тебе сказать.
– Спасибо, – поблагодарил Гарри, – рад был узнать.
Вновь повисло неловкое молчание.
– До встречи на работе. – Хайнц с беспечным видом зашагал к своей скамейке, однако побагровевшая шея выдавала: чувствовал он себя по-дурацки.
Девица захихикала.
Дома, в своей маленькой квартирке, в два часа ночи Хайнц разговаривал сам с собой, с пустой колыбелькой, с кроватью. Он говорил по-немецки, на языке, на котором поклялся больше никогда не говорить.
– Им все равно, – ворчал Хайнц. – Они все слишком заняты, заняты, заняты и не замечают жизни, не чувствуют ее. Ну подумаешь, родился ребенок. – Он пожал плечами. – Что может быть банальнее? Какой глупец захочет говорить об этом, кто хоть на мгновение допустит, что это важно или интересно?
Он распахнул окно в летнюю ночь, выглянул на залитое лунным светом ущелье серых деревянных крылечек и мусорных баков.
– Нас слишком много, мы слишком разобщены, – произнес Хайнц. – Подумаешь, родился еще один Кнехтман, или еще один О’Лири, или Суза. Ну так и что? Не все ли равно? Что изменилось? Да ничего!
Он лег, не раздеваясь и не застилая постели, поворчал, повздыхал и заснул.
Хайнц проснулся в шесть, как всегда. Выпил чашку кофе и под маской анонимной вседозволенности растолкал других пассажиров в пригородном поезде; толкали и его. Ни единому чувству Хайнц не позволил показаться на лице. То было просто лицо, такое же, как у всех, не способное ни удивляться, ни восхищаться, ни радоваться, ни сердиться.
Он прошел по городу и добрался до роддома, безликий, серый, неинтересный человек, такой же, как все.
В роддоме он вел себя спокойно и целеустремленно, предоставив врачам и сестрам суетиться вокруг него. Его отвели в палату, где Авхен спала за белой ширмой, и здесь, рядом с ней, он почувствовал то же самое, что и всегда, – любовь, захватывающий дух восторг и благодарность.
– Смелее, мистер Нетман, можете осторожно разбудить ее, – сказала сестра.
– Авхен, – легонько коснулся он белого халата на плече. – Авхен. Как ты себя чувствуешь, Авхен?
– М-м-м?.. – пробормотала жена. Приоткрылись узкие щелочки глаз. – Хайнц. Здравствуй, Хайнц.
– Ты хорошо себя чувствуешь, любимая?
– Да, да, – шепнула она. – Чудесно. Как ребеночек, Хайнц?
– Прекрасно, прекрасно, Авхен.
– Им нас не уничтожить, правда, Хайнц?
– Никогда.
– Мы ведь живы, живее некуда.
– Да.
– Ребеночек, Хайнц. – Теперь она широко распахнула темные глаза. – Ведь нет на свете ничего чудеснее, правда?
– Ничего, – сказал Хайнц.
Завтра, и завтра, и завтра…
© Перевод. И. Доронина, 2020
Шел 2158 год от Рождества Христова; Лу и Эмералд Шварц шептались на балконе квартиры, принадлежавшей семье Лу, на семьдесят шестом этаже строения 257 в Олден-виллидж – жилом комплексе Нью-Йорка, занимавшем территорию, некогда известную под названием Южный Коннектикут. Когда Лу и Эмералд поженились, родители Эм чуть не плача утверждали, что их брак – это союз мая с декабрем; но теперь, когда Лу исполнилось сто двенадцать, а Эм – девяносто три, родители Эм вынуждены были признать, что пара состоялась.
Однако жизнь Эм и Лу не была безмятежной, вот и сейчас они, несмотря на мороз, вышли на балкон, чтобы обсудить свои невзгоды.
– Иногда он так бесит меня, что я готова втихую разбавить его антигерасон, – сказала Эм.
– Эм, это было бы против Природы, – сказал Лу. – Чистой воды убийство. А кроме того, если Дедуля заметит, как мы химичим с его антигерасоном, он не только лишит нас наследства, он мне шею свернет. Ему хоть и сто семьдесят два, но он силен как бык.
– Против Природы, – передразнила его Эм. – Кто теперь знает, какая она, Природа? О-хо-хо! Не думаю, что я в самом деле смогла бы разбавить его антигерасон или сделать еще что-нибудь подобное, но, черт возьми, Лу, мысль о том, что Дедуля никогда не уйдет, если кто-нибудь ему чуточку не поможет, сама собой лезет в голову. Ты же видишь: здесь такая теснота, что повернуться негде, а Верна до смерти хочет ребенка, и у Мелиссы уже тридцать лет не было детей. – Она топнула ногой. – Меня тошнит, когда я вижу его сморщенную от старости рожу, смотрю, как он блаженствует в единственной отдельной комнате, наслаждается лучшим креслом, лучшей едой, единолично решает, что нам всем смотреть по телевизору, и манипулирует нашими жизнями, постоянно меняя завещание.
– Ну, в конце концов, – робко возразил Лу, – Дедуля действительно глава семьи. А что касается морщин, то это не его вина. Когда изобрели антигерасон, ему уже было семьдесят. Он уйдет, Эм. Просто нужно подождать. Дать ему время принять решение. Я знаю, с ним трудно жить под одной крышей, но ты потерпи. Если сердить его, ничего хорошего не выйдет. Как-никак нам все же лучше, чем другим: у нас хоть кушетка есть.
– И как долго, по-твоему, мы еще проспим на этой кушетке, прежде чем он выберет себе другого домашнего любимчика? Кажется, мировой рекорд составил два месяца?
– Да, вроде бы, мама с папой однажды продержались именно столько.
– Когда же он уйдет, Лу? – воскликнула Эмералд.
– Ну, он поговаривает о том, чтобы прекратить принимать антигерасон сразу после гонок на пятьсот миль.
– Да, а до того была Олимпиада, а еще раньше – чемпионат США по бейсболу, а до него – президентские выборы, а до них я уж и не помню что. Вот уже пятьдесят лет он находит один предлог за другим. Сомневаюсь, что нам когда-нибудь достанется отдельная комната, или хотя бы яйцо, или вообще что бы то ни было.
– Ладно, можешь считать меня неудачником, – сказал Лу. – Но что я могу сделать? Я пашу как лошадь и неплохо зарабатываю, но практически всё съедают налоги – на оборону и на пенсии старикам. Да даже если бы и не съедали, где, как ты думаешь, мы смогли бы найти свободную съемную комнату? Разве что в Айове. Но кто же захочет жить в окрестностях Чикаго?
Эм обняла его за шею.
– Лу, милый, я не считаю тебя неудачником. Видит Бог, ты не неудачник. У тебя просто никогда не было возможности стать кем-нибудь или что-нибудь иметь, потому что Дедуля и остальные его ровесники не уходят и никому не дают занять их место.
– Да-да, – уныло согласился Лу. – Но вообще-то их и винить за это нельзя. Хотел бы я знать, как скоро мы сами откажемся от антигерасона, когда доживем до Дедулиного возраста.
– Иногда мне хочется, чтобы никакого антигерасона не существовало! – горячо воскликнула Эмералд. – Или чтобы он изготавливался из чего-нибудь супердорогого и труднодоступного, а не из ила и одуванчиков. И чтобы люди просто безропотно умирали в положенный срок вместо того, чтобы самим решать, сколько еще ошиваться на этом свете. Нужно принять закон, запрещающий продавать это зелье тем, кому перевалило за сто пятьдесят.
– Маловероятно, – ответил Лу, – притом что все деньги и все голоса в руках у стариков. – Он пристально посмотрел на нее. – Вот ты сама, Эм, готова взять и умереть?
– Господь с тобой, милый! Сказать такое родной жене! Мне еще и ста нет. – Как бы в подтверждение она легко провела ладонями по своей подтянутой моложавой фигуре. – Лучшие годы у меня еще впереди. Но можешь быть уверен: как только впереди замаячат сто пятьдесят, старушка Эм выльет свой антигерасон в раковину и перестанет занимать чужое место, причем сделает это с улыбкой.
– Знаю-знаю, как же, – сказал Лу. – Все так говорят. А слышала ли ты когда-нибудь, чтобы кто-то так поступил?
– Был один человек в Делавэре.
– Тебе не надоело говорить о нем, Эм? Это было пять месяцев тому назад.
– Ладно, тогда… Бабуля Уинклер, прямо отсюда, из этого дома.
– Ее размазало по рельсам в метро.
– Просто она выбрала такой способ уйти, – не сдавалась Эм.
– Тогда с чего бы при ней была упаковка из шести флаконов антигерасона, когда она попала под поезд?
Эмералд устало покачала головой и закрыла глаза.
– Не знаю, не знаю… Единственное, в чем я уверена, так это в том, что надо что-то делать. – Она вздохнула. – Иногда мне хочется, чтобы нам все же оставили одну-две болезни, – можно было бы хоть захворать и немного отлежаться в постели. На Земле слишком много народу! – выкрикнула она, и ее слова, кудахтаньем прокатившись по тысячам залитых асфальтом и зажатых между небоскребами внутренних дворов, замерли вдали.
Лу нежно положил руку ей на плечо.
– Ну же, милая, я так не люблю, когда ты впадаешь в уныние.
– Если бы у нас, как у многих в прежние времена, была машина, – сказала Эм. – Мы могли бы ездить куда-нибудь и хоть немного отдыхать от людей. Эх, были же времена!
– Да, – согласился Лу, – до того как извели весь металл.
– Мы бы запрыгнули в нее, подкатили к заправочной станции и скомандовали: «Под завязку!»
– И правда, это было здорово, пока не израсходовали весь бензин.
– И мы бы отправились в беззаботную поездку за город.
– Да… Теперь все это кажется волшебной страной, правда, Эм? Трудно поверить, что между городами когда-то было столько простора.
– А проголодавшись, – продолжала Эм, – мы бы нашли ресторанчик, вошли в него, и ты, как бывало, сказал бы: «Думаю, я возьму стейк с картошкой фри» или: «Как у вас сегодня свиные отбивные?» – Она облизнула губы, глаза у нее сияли.
– Да уж! – пробасил Лу. – А как насчет гамбургера со всякой всячиной, Эм?
– Мммммммммммммммммммм!
– Если бы тогда кто-то предложил нам переработанные водоросли, мы бы плюнули ему в лицо, да, Эм?
– Или переработанные опилки, – подхватила Эм.
Лу все же упорно пытался найти хорошие стороны в сложившейся ситуации.
– Тем не менее, теперь все это научились перерабатывать так, что вкус водорослей и опилок почти не чувствуется; к тому же говорят, что наша нынешняя еда гораздо здоровее, чем то, что мы ели раньше.
– Не помню, чтобы я жаловалась на здоровье при старой еде! – задиристо воскликнула Эм.
Лу пожал плечами.
– Ну, надо же понимать, что Земля не смогла бы прокормить двенадцать миллиардов людей, если бы не начала использовать водоросли и опилки. Так что это прекрасный выход. Я так думаю. И все так говорят.
– Да люди-то говорят все, что первым взбредет в голову, – огрызнулась Эм. Она закрыла глаза. – Черт возьми, Лу, ты помнишь тогдашние магазины? Как там все из кожи вон лезли, стараясь угодить, чтобы у них что-нибудь купили. И не нужно было ждать чьей-нибудь смерти, чтобы получить в свое распоряжение кровать, кресло, плиту или еще что-то. Просто входишь и – вуаля – покупаешь что хочешь. Как же здорово было, пока не израсходовали все сырье. Я тогда была еще ребенком, но помню все как сейчас.
Подавленный, Лу лениво подошел к балконным перилам и посмотрел вверх, на холодные яркие звезды, сверкавшие в черной бархатной бесконечности.
– А помнишь, Эм, как мы были помешаны на научной фантастике? «Рейс семнадцать отправляется на Марс, стартовая платформа двенадцать. Всем занять места на борту! Всех, кто не принадлежит к техническому персоналу, просим оставаться в бункере. Десять секунд до старта… девять… восемь… семь… шесть… пять… четыре… три… две… старт! Режим полной тяги!» Ж-ж-ж-ж-а-х-х-х-х!
– И не нужно тревожиться о том, что происходит на Земле, – подхватила Эм, вместе с ним глядя на звезды, – если через несколько лет мы все будем лететь сквозь космическое пространство, чтобы начать новую жизнь на другой планете.
Лу вздохнул.
– Только выяснилось, что нужна конструкция размером в два Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы доставить на Марс одного хилого будущего колониста. Еще за пару триллионов долларов он мог бы взять с собой жену и собаку. Только так можно справиться с перенаселением – посредством эмиграции!
– Лу?..
– Что?
– А когда состоятся гонки на пятьсот миль?
– Гм… в День поминовения[64]64
День поминовения (англ. Memorial Day) – национальный день памяти в США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая и посвященный памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.
[Закрыть], тридцатого мая.
Она прикусила губу.
– Ужасно было с моей стороны задавать такой вопрос, правда?
– Да нет, не то чтобы очень. Все насельники этой квартиры, полагаю, уже давно уточнили дату.
– Не хочу показаться бессердечной, – сказала Эм, – но порой, когда проговариваешь эти вещи вслух, они словно бы отпускают тебя на время.
– Конечно. Тебе стало немного легче?
– Да… И я больше не позволю себе распускаться, буду с ним приветлива настолько, насколько это в моих силах.
– Умница. Моя Эм.
Они расправили плечи, храбро улыбнулись друг другу и вошли в квартиру.
Старик Шварц по прозвищу Дедуля, чей подбородок покоился на руках, в свою очередь покоившихся на загнутой крюком ручке трости, раздраженно пялился в пятифутовый телевизионный экран, занимавший главенствующее положение в комнате. Комментатор отдела новостей подводил итог событиям дня.
С интервалом секунд в тридцать Дедуля с размаху втыкал в пол острие трости и вопил:
– Черт! Да мы это делали еще сто лет назад!
Вернувшись с балкона, Лу и Эмералд были вынуждены занять места в последнем ряду, позади родителей Лу, его брата с невесткой, сына со снохой, внука с женой, внучки с мужем, правнука с женой, племянника с женой, внучатого племянника с женой, внучатой племянницы с мужем, правнучатого племянника с женой и, разумеется, самого Дедули, восседавшего впереди всех. За исключением Дедули, дряхлого и согбенного, все – благодаря профилактическому приему антигерасона – казались ровесниками: под тридцать или чуть за тридцать.
– Тем временем, – вещал комментатор, – город Каунсил-Блаффс, Айова, по-прежнему живет в ожидании страшной трагедии. Однако двести изнемогших спасателей не теряют надежды, прилагая все усилия для спасения ставосьмидесятитрехлетнего Элберта Хаггедорна, вот уже двое суток зажатого между…
– Лучше бы доложил что-нибудь более ободряющее, – прошептала Эмералд на ухо Лу.
– Тихо! – заорал Дедуля. – Следующий, кто раззявит свою пасть во время телепередачи, останется ни с чем… – тут его голос неожиданно потеплел и стал сентиментальным: – …когда по взмаху клетчатого флажка начнутся Индианаполисские гонки и старый Дедуля приготовится к Большому путешествию в Неизведанное. – Он растроганно всхлипнул. Его многочисленные наследники замерли, отчаянно стараясь не издать ни малейшего звука. Для них пикантность сообщения о предстоящем Великом Путешествии была смазана тем фактом, что сообщение это доводилось до их сведения Дедулей минимум раз в день на протяжении последних пятидесяти лет.
– Доктор Брейнард Кайз Баллард, – говорил тем временем комментатор, – президент Виендотт-колледжа, в своем сегодняшнем выступлении заявил, будто большинством существующих в мире болезней мы обязаны тому факту, что знания человека о себе не поспевают за его знаниями об окружающем материальном мире.
– Идиоты! – рявкнул Дедуля. – Мы это говорили еще сто лет тому назад!
– В одном из родильных домов Чикаго, – продолжал комментатор, – сегодня состоится особое торжество в честь Лоуэлла В. Хитца – двадцатипятимиллионного младенца, появившегося в нем на свет.
Комментатор исчез с экрана, и вместо него появился новорожденный Хитц, который разрывался от плача.
– Черт! – прошептал Лу на ухо Эмералд. – Мы это говорили еще сто лет назад.
– Я все слышал! – крикнул Дедуля. Он внезапно выключил телевизор, но его окаменевшие от страха потомки продолжали молча пялиться в экран. – Эй, ты там, парень…
– Я ничего такого не имел в виду, сэр, – промямлил Лу.
– Тащи-ка сюда мое завещание. Ты знаешь, где оно лежит. Вы все, ребята, знаете, где оно лежит. Неси его сюда, парень!